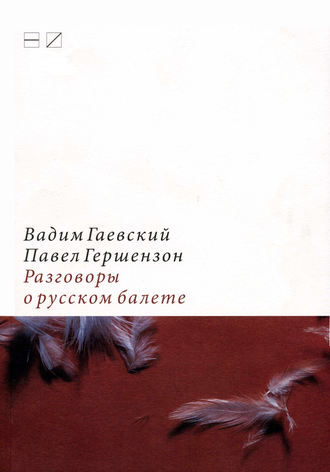
Полная версия
Разговоры о русском балете: Комментарии к новейшей истории
ГАЕВСКИЙ: Но мы не знали и другого: что в конце 1980-х – начале 1990-х годов радикальный авангардизм вновь возродится в Европе. По существу, в момент переноса «Аполлона» в Мариинский театр европейский балет вновь отправился в рискованное и авантюрное путешествие к другим берегам. И вполне возможно, что, если бы в 1992 году вместо «Аполлона» нам показали в Мариинском театре балеты Форсайта, мы были бы совершенно удовлетворены – именно этого мы тогда и ждали. .[45]
ГЕРШЕНЗОН: Дуэт из балета «In The Middle, Somewhat Elevated» мы увидели впервые именно в 1992 году (год постановки «Аполлона» в Мариинском театре), во время последних московских гастролей балета Парижской оперы[46]. Он показался абсолютно беспрецедентным и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Но тогда за всей этой пиротехникой никто не разглядел в этом дуэте поднятое на пуанты аргентинское танго. И, уж конечно, никто тогда не мог воспринять Форсайта так, как через двенадцать лет он определит себя сам, впервые войдя в репетиционный зал Мариинского театра: «Привет всем. Меня зовут Билли Форсайт. Я – ученик Баланчина».
Фрагмент 4. Великая иллюзия
ГЕРШЕНЗОН: Теперь второе пояснение, касающееся того, почему я считаю, что сегодня, в 1997 году, Баланчину нет места в Мариинском театре. Год назад, в 1996-м, мы могли отметить круглую дату – десять лет с начала регулярных гастролей Мариинского балета на Западе (до этого зарубежные гастроли Кировского балета были эпизодическими) и десять лет с момента публикации в Dance Magazine обзора Джоан Акочеллы, которая первой диагностировала кризис не только Мариинского, но и советского балета вообще: «С великого русского авангарда урожай снял Запад – Россия осталась ни с чем…»[47] Прошло ровно десять лет с того момента, как Мариинский театр фактически поменял свою природу, превратившись из театра стационарного в театр кочевой, из театра субсидируемого – в театр зарабатывающий, чьи основные доходы связаны с гастрольной коммерческой деятельностью. Это, пожалуй, единственная балетная труппа мира, которая, будучи по своей истории, художественной идеологии и специфике репертуара стационарной (придворный балет не предназначался на вывоз), функционирует и осознает себя сегодня как гастрольное предприятие.
Отступление 2007 года
Гастрольный синдром
Если быть точным, кочевая болезнь поразила сознание Кировского балета гораздо раньше. И причина этого – тот социопсихологический феномен, который возник сразу после войны, когда вместе с демобилизованными солдатами и офицерами, трофейными цвингеровскими шедеврами, мейсенским фарфором и блютнеровскими роялями на закрытую территорию СССР просочилась фантастическая информация о реальной бытовой жизни завоеванных (или освобожденных) территорий[48]. Сравнив то, что они увидели в Европе (ведь в руинах было далеко не все), с тем даже не образом, а способом жизни, который вели они сами, завоеватели почувствовали себя униженными и оскорбленными[49]. Сверхчеловеческое физическое, психическое и духовное напряжение четырех лет войны разрядилось грандиозной депрессией, принявшей экзотические формы. Развлекались кто как мог. В простонародном этаже – балаган: знаменитые «вечера танцев» в плодившихся как грибы после дождя окружных домах офицеров, куда офицерские жены и любовницы надели трофейные шелковые комбинации, приняв их за вечерние платья. В аристократическом бельэтаже генералов и адмиралов начиналось высокое искусство – опера-балет. Я уверен, что в 1948 году на премьере «Раймонды» зал Кировского театра пафосом и орденоносным блеском впервые за советскую историю сравнился с бриллиантовым блеском Императорского Мариинского театра. Банкеты в «Европейской», примадоннские апартаменты в шикарном доме на углу Невского и Малой Морской (Когда-то эта квартира принадлежала к этому времени репрессированному академику Вавилову), ночные оргии еще в одной балеринской квартире, рядом с Адмиралтейством.
Никогда не забуду парадный фотопортрет в тяжелой раме, который я увидел лет двадцать назад в квартире балерины Вечесловой. Он поразил меня и много чего объяснил про время, когда был сделан. Хозяйка снята в задорно сдвинутой на затылок парадной фуражке высшего морского офицера и парадном же офицерском кителе, небрежно наброшенном на обнаженные мраморные плечи так, чтобы выгодно продемонстрировать прекрасную обнаженную грудь (это было последнее поколение балерин, у которых грудь была). Если бы я не знал, когда сделан этот портрет, я подумал бы, что его прототипом послужила знаменитая сцена из «Ночного портье» с Шарлоттой Ремплинг – новой Саломеей в фуражке и галифе офицера СС, заунывно выводящей голосом Марлен Дитрих: «Wenn Ich Mir was wünschen dürfte». Но скандальный фильм Лилианы Кавани снят много позже, и, честно говоря, я не ожидал подобного рискованного вкуса от ленинградских постблокадных 1940-х. Но это и есть стиль «поздний Сталин» в его неофициальном варианте – голая Вечеслова в адмиральском кителе (вариант официальный – киноактриса Марина Ладынина в норковой горжетке на фоне первой московской высотки на Котельнической набережной). Это тайный портрет поздней сталинской элиты – богемный союз генералитета, чекистов и комедиантов[50] – и, между прочим, тайный портрет ленинградской балетной школы в ее «вагановские» времена, и даже в каком-то смысле портрет самой Агриппины Вагановой, эксбалерины Императорских театров, хорошо знавшей, что такое контакт (и контракт) с властью – любой властью. Это лучшая иллюстрация к теме, которую мы с вами обсуждаем вот уже десять лет, – балет и власть. В этом портрете есть все: эротика балета, принадлежащего власти и властью весело управляющего, и эротика власти, так притягивающей балет.
Но это слишком пряный деликатес, он не предназначен для длительного хранения, его надо съесть быстро, иначе протухнет. Генералы и адмиралы съели что смогли, Сталин умер, армию и флот демобилизовали, балет стал потихоньку киснуть (известно, как осточертели Дудинской и Сергееву местные поклонники-балетоманы; им хотелось новых лиц, свежего дыхания, нового пространства), и уже к середине 1950-х ленинградская балетная жизнь напоминала подозрительно разбухшую консервную банку с просроченным содержимым, которая грозила в любой момент взорваться. Она и взорвалась. В 1961 году, когда Гагарин скомандовал всей стране – «Поехали!» Балетные поехали первыми. Кировский балет – в Париж[51]. Чем закончилась «поездка»[52], известно. Побег Нуреева – сюжет, отшлифованный бульваром до состояния морской гальки, его нет смысла обсуждать, кроме одного аспекта: двадцатитрехлетний парень гениально распорядился своей жизнью и сумел навязать ее всем – здесь и там. Там – потому что, кроме безобразного образа балетной «дивы», сумел навязать и безобразные редакции балетов Петипа, ставшие сегодня в Европе культовыми и единственно возможными; здесь – потому что Нуреев грубо и ясно означил для ленинградской балетной элиты главную экзистенциальную (она же художественная) дилемму – «ехать или не ехать». И каждый вынужден был решать ее по-своему. Макарова и Барышников – рискнули. Соловьев не рискнул – и застрелился[53].
Но это крупные экзотические рыбы, а есть рыбки мелкие, серые, не склонные к пафосным жестам, – балетный планктон, обыватели из корифеев и кордебалета. Мещане. Эти рисковать не собираются. Как-то один балетный человек с раздражением прошелся по поводу Нуреева, Макаровой, Барышникова, обвинив их во всех бедах Кировского театра в 1960–1970-х годах. На мое удивление он среагировал жестко: «А вы знаете, что творилось в Кировском театре после этих побегов? Ведь здесь остались люди! И к людям пришли гэбисты!» Хорошо представляю себе эти ужасные картины и очень сочувствую[54]. Однако замечу, что балетный планктон, тот самый цыпленок, который тоже хочет жить, усвоив уроки великих мастеров, избрал свою – и вполне гениальную – стратегию поведения. Вот ее формула: быть там, оставаясь здесь. Именно быть – не жить. Эта формула не предполагает радикальной эмиграции с ее неизбежной депрессией, борьбой за выживание и, в частности, с необходимостью кардинальной смены модуса профессионального поведения (Макарова «там» уже не позволяла себе валиться с фуэте, что в Ленинграде было для нее нормальным). Эта формула предполагает пребывание – максимально долгое (гастроли длились по полгода), максимально мягкое (с «суточными», играющими роль гонорара, бесплатными завтраками, обедами и сохранением зарплаты на стационаре), весьма приятное (веселая толкотня в универмагах, художественные экскурсии – своего рода форма бесплатного туризма), – но врéменное. И главное, эта формула не предполагает никакой ответственности за собственную жизнь, на чем, в сущности, и воспитаны все советские люди. Не надо резких жестов, главное – «поехать в поездку». Стремление попасть в «гастрольный список» стало манией, которая на полвека определила поведенческий архетип советских балетных артистов и которая сегодня, в силу радикально изменившихся социополитических обстоятельств, превратилась в чудовищный анахронизм, в психоз[55].
И не было бы смысла еще раз ворошить это грязное белье (кража губной помады в универмагах, кипячение сосисок в унитазе, отправка на родину ящиков с унесенными из ресторана яблоками), если бы во имя реализации «формулы мечты» не началось то, что я назвал бы структурной и визуальной деградацией репертуара Мариинского театра. Началось тотальное приспособление базового (классического) репертуара к экономной и мобильной гастрольной жизни, упрощение и облегчение декораций (сравните фотографии премьеры «Спящей красавицы» в 1952 году с тем, что сегодня Мариинский театр выдает за Вирсаладзе), сокращение так называемых длиннот, под определение которых подпали пантомимные сцены и целые фрагменты хореографических ансамблей (куда делись Пролог и фантастическая лесная сцена в «Дон Кихоте»; куда пропала сцена с вязальщицами из первого акта «Спящей красавицы»; где фрагменты кордебалетных танцев и вариации корифеек в Оживленном саду «Корсара»?) – началась деформация поэтики русских классических балетов XIX века. К. М. Сергеев, собственноручно сделавший первые купюры в собственных версиях балетов Петипа, а за ним и все остальные соглашались на любое варварство, лишь бы запихнуть спектакль в контейнер[56], лишь бы уложиться в стандартную длительность представления, установленную суровыми западными профсоюзами, – лишь бы «поехать в поездку».
Последствия этих метаморфоз очевидны: Кировский балет стал театром купированного художественного сознания, фрагментарной памяти, театром фальшивой истории. Но самый печальный итог гастрольного синдрома заключается в том, что Мариинский театр стал художественным иждивенцем. Театр сообразил, что балеты XIX века – это товар, и сразу попал в ловушку: жесткий раздел международного балетного рынка оставил Мариинскому балету унизительно узкий ареал деятельности – так называемый russianballet – три-четыре названия из репертуара Петипа – Иванова – Горского, востребованные домохозяйками всего мира. И театр капитулировал, согласившись с навязанным имиджем и правилами игры. Конечно, волки сыты, но вот целы ли овцы? Ведь в жертву принесена свобода художественного выбора и художественного поведения. Мариинский театр уютно разместился на обочине мирового хореографического процесса, закрепив за собой статус регионального этнографического искусства – что-то вроде индийского классического танца или пекинской оперы…
Дополнение 2007 года
ГАЕВСКИЙ: Знаете, мне трудно вам возражать и нелегко с вами соглашаться, потому что я сам страдал манией заграницы – и вовсе не затем, чтобы, оказавшись там, зайти в первый же книжный магазин и купить не издаваемого тут Мандельштама, а для того, чтобы попасть в «Галери Лафайет» и привезти что-нибудь для гардероба моей жены.
ГЕРШЕНЗОН: Как сказала бы незабвенная Нина Андреева: и ради этого вы могли бы поступиться принципами?
ГАЕВСКИЙ: Если бы мои принципы кого-либо интересовали и я мог ими торговать, то, может быть, и поступился бы. В СССР кое-кому удавалось прожить незапятнанную жизнь, и объяснялось это только тем, что обстоятельства жизни складывались для них фантастически удачно. Но это невеселые шутки, а если по существу, что, вообще говоря, означало возрождение мещанского сознания в нашей жизни? Оно несло в себе скрытый протест не только против нашей бытовой жизни, но и против нашей официальной идеологии, недаром мещанство еще с 1920-х годов клеймилось на всех уровнях – даже великими Мейерхольдом и Маяковским, так как их жизненный путь какое-то время был связан с официальной идеологией (но подробно говорить об этом здесь не место). А в конце 1950-х годов… Помните, как назывался самый популярный и самый значительный театральный спектакль, шедший тогда в Ленинграде? «Мещане», поставленные Георгием Товстоноговым в БДТ, что тут же вывело БДТ на положение первого театра нашей страны. Сказать, что Товстоногов был мещанином, а этот спектакль – апологией мещанства, конечно, нельзя. Но это было защитой семейных ценностей, человеческих ценностей, тех ценностей, которые в течение многих лет объявлялись мещанскими и которые действительно несли в себе некий мещанский дух. Я имею в виду трагическую коллизию: конфликт между обыденным, бытовым, человеческим – и интеллектуальным и даже духовным. Конфликт, который расколол наше сознание, расколол наше искусство. Лишь только у Пастернака в «Докторе Живаго», написанном в послевоенное время, эта трагическая коллизия была осознана и получила разрешение. Оттого понимание мещанства как абсолютного зла сегодня для нас уже неприемлемо, но и недооценивать мещанство как постоянную угрозу мы тоже не должны.
ГЕРШЕНЗОН: Тем более что я говорю не о бытовом мещанстве, а о специфическом интеллектуальном мещанстве, поразившем нашу художественную среду и наше художественное сознание – и артистов, и зрителей.
ГАЕВСКИЙ: Прежде чем обсуждать эту проблему, я хотел бы узнать, что есть для вас интеллектуальное мещанство? Снобизм? Следование моде, а не создание новой моды? Подражание загранице? Неуважение к самому себе? Комплекс превосходства и комплекс неполноценности одновременно? Полуграмотность и нежелание в ней признаться? Невежество и нежелание с ним бороться? Страх одинокого пути, страх индивидуального мышления? Паническая боязнь неуспеха и такой же панический страх непризнания? Все это, по-видимому, и есть главные характеристики того, что вы называете интеллектуальным мещанством. Но нас должно интересовать, как все это непосредственно проявляется в творчестве, сознании, поведении артистов. Вообще говоря, как ни странно это сказать, то, что вы называете интеллектуальным мещанством, возникает тогда, когда в больших городах появляются большие деньги. В послевоенном Ленинграде была страшная нищета, непреодоленная разруха, чудовищные последствия блокады, но это был единственный в стране просветленный город: в Комарове жила Анна Андреевна Ахматова, Саша Володин писал свои первые и лучшие пьесы, по Невскому гулял бросивший школу Иосиф Бродский. Это был город, в котором мещанский дух знал свое место, не смел проникать повсюду, не создавал атмосферу города: ни у Товстоногова, ни у Акимова, ни в Филармонии при Мравинском, ни в Мариинке при Лопухове я ничего подобного не ощущал. Наоборот, мы рвались в Ленинград, как в какой-то заповедный край, где совершенно не ощущалось того, что уже становилось «московским духом»… А дальше – дальше началась борьба: Товстоногова – с обкомом, Акимова – со своими собственными драматургами. Ученика Лопухова Юры Григоровича – с Сергеевым. Мравинского – с Бахусом. Смысл этой борьбы в самом общем плане объяснить достаточно просто: речь шла о том, сохранить или понизить уровень культуры.
ГЕРШЕНЗОН: Звучит убийственно – сохранить или понизить уровень культуры. Это как умолчать или оповестить население о радиационной угрозе…
ГАЕВСКИЙ: И тут-то в эту борьбу неожиданно вмешался новый участник, до того времени занимавший позицию стороннего наблюдателя, – зритель.
ГЕРШЕНЗОН: Это тот самый случай, который описывается лозунгом «Народ и Партия едины»? Тем более что партия рекрутировалась из этого самого народа…
ГАЕВСКИЙ: Мы всегда смеялись над этим лозунгом, но совершенно напрасно. Важно напомнить, что этот лозунг казался смешным в конце 1980-х, когда началось массовое бегство из партии, но в 1960-х он отражал безусловную реальность, и с этой реальностью наша культура должна была в той или иной степени считаться. Вопрос заключался в том, какова эта степень: идти ли на поводу и признавать над собою власть или сопротивляться – открыто или не очень явно, но совершенно сознательно, а иногда бесстрашно.
И тут надо сделать очередную и весьма существенную оговорку: не надо думать, что наши самые лучшие и самые бескомпромиссные художники работали в вакууме, в одиночестве, окруженные враждебной толпой. Враждебная и агрессивно настроенная толпа, конечно, была, но была и другая категория публики – совсем немалочисленная, – именно она устраивала овации лучшим товстоноговским спектаклям и концертам Мравинского, именно для нее – если иметь в виду специфически балетную публику – предназначались выступления Ирины Александровны Колпаковой. Я имею в виду странный и неоднозначный период в жизни Мариинского театра 1970-х годов, когда из него исчезли не только все заметные балетмейстеры и артисты, но исчез и тот творческий дух, которым театр жил на протяжении достаточно долгого и совсем не легкого времени. Я мог бы назвать этот период буквально «великой депрессией», если бы не одно обстоятельство: лучшие исполнители сосредоточились на сохранении своего главного богатства – классических балетов, а «балерина Григоровича» Ирина Колпакова стала олицетворением высокого ленинградского академизма. Коллизия борьбы за сохранение или понижение уровня культуры, о которой я говорил, разворачивалась прямо у нас на глазах на протяжении четырех актов «Спящей красавицы»…
ГЕРШЕНЗОН: Вы говорите: сосредоточились на сохранении классических балетов. Я сказал бы немного иначе: лучшие исполнители обратились к профессии, точнее, к ремеслу. Художественные новации конца 1950-х иссякли, второй авангард захлебнулся (или оказался фикцией), авангардистов из театра выгнали, дело было проиграно. И те, кто остался жив, кинулись искать спасения – в ремесле. А ремесло в русском балете XX века всегда олицетворяла классика. Она – экзамен по чистописанию, грамматике, по решению шахматных этюдов. Ремесло задавало планку, уровень, niveau. Ремесло, как высокая крепостная ограда, спасало от страхов, ощущения бесперспективности и невозможности не только новой, но и вообще любой жизни в театре. К тому же надо признать, что балетный второй авангард в профессиональном плане был малоинтересен, он не ставил профессиональных ремесленных задач, сравнимых, к примеру, с теми, какие задавал своим танцовщикам Баланчин. Второй авангард не опирался ни на какую écolededanse, как это было у Баланчина, – такой идеи не было. «Танцовщики Григоровича» (или Бельского) могли просто выйти из формы. И, чтобы ее поддерживать, нужны были «Спящая», «Баядерка», «Раймонда». Именно ремесло (профессия) и стало тем психологическим амортизатором, который спасал от «великой депрессии». В конце концов профессионализм оказался наиболее честным способом сосуществования с окружающим миром. Он стал внутренней эмиграцией, тихой заводью, омутом, в который с отчаянием и наслаждением – и надолго – погрузились лучшие кировские танцовщики 1960–1970-х годов, оставшиеся в Ленинграде. Потому пресловутый ленинградский академизм приобрел у его носительниц такой пугающе перфектный дистиллированный вид (чего никогда не было у их предшественниц из класса Вагановой) – это была лаборатория со стерильными колбами и спиртовками, в которых горел бледный холодный огонь, лаборатория, в которую наглухо заколочен вход-выход (примерно то же в конце 1960-х можно было наблюдать еще в одной закрытой системе – у выдающихся артистов Датского королевского балета). Но именно потому до уровня Колпаковой и Комлевой сегодня никто в Мариинском театре так и не поднялся, именно потому они умудрились выходить в «Спящей» и «Раймонде» и в пятьдесят лет. И не позволили себе деградировать на глазах публики.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В 1956 году пантомимные сцены I акта, сцена охотников в начале II акта «Жизели», вторая картина «Лебединого озера» – все это шло в лондонском Королевском балете в версиях, близких к петербургскому оригиналу (в знаменитом Адажио II картины «Лебединого озера» участвовали Одетта, принц Зигфрид и оруженосец Бенно, исполнявший функцию партнера Одетты, да и вся композиция кордебалета исполнялась точно по Льву Иванову). Постановкой этих спектаклей для Sadler’s Wells (прародителя Royal Ballet) занимался бывший режиссер балетной труппы Императорского Мариинского театра Николай Сергеев, использовавший в работе хореографическую нотацию, которую он вывез в 1918 году из Петрограда.
2
Как-то раз, жарким июльским полднем, в среду, я гулял в Петербурге в районе Владимирской площади со своим американским приятелем. Навстречу шла типичная русская платиновая длинноногая блондинка, с толстым слоем макияжа, на невозможных каблуках, в крупносетчатых черных чулках, микроюбке и прозрачной блузке. Я задал вопрос: «Что подумает рядовой американский мужчина, глядя на эту женщину в центре города, в среду, в полдень: к какому социальному слою, профессиональному кругу она принадлежит?» Через десять секунд американец ответил: «Это трансвестит».
3
Диалог записан в 1996 году, в тот момент, когда артистическим директором Большого театра был Владимир Васильев, а художественным руководителем балетной труппы театра – Вячеслав Гордеев.
4
Гаевский В. Дивертисмент. М.: Искусство, 1981. С. 216.
5
Взгляните на жилой дом на углу Нового Арбата и Смоленской набережной – он обошел все учебники советской архитектуры: его левая, богато декорированная, секция построена до знаменитого постановления 1954 года «О борьбе с архитектурными излишествами», правая, голая часть дома – после.
6
Этический императив, давший жизнь архитектуре нового брутализма в послевоенной Британии (апологетика скромности и экономии, внимание к социальным аспектам развития и реконструкции городов), с движением времени отошел на второй план, если не исчез вовсе. На первый план вышел – и оптически гипертрофировался – эстетический компонент (графические и пластические композиционные приемы), который принял новое, а точнее, старое содержание – неискоренимый британский имперский пафос. «Новый брутализм» из социальной архитектуры муниципальных школ превратился в архитектуру министерств, корпораций и государственных художественных музеев-кладовых.
7
Гаевский В. Дом Петипа. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000. С. 278—280; Он же. Хореографические портреты. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008. С. 526—530.
8
Цит. по: Гаевский В. Дивертисмент. С. 212.
9
Balanchine’s Complete Stories of the Great Ballet (with Francis Mason). Garden City, N. Y.: Doubleday, 1977.
10
Иван Александрович Всеволожский возглавлял Дирекцию Императорских театров с 1881 по 1899 год.
11
Князь Сергей Михайлович Волконский возглавлял Дирекцию Императорских театров с 1899 по 1901 год.
12
Владимир Аркадьевич Теляковский возглавлял Дирекцию Императорских театров с 1901 по 1917 год.
13
Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1998—2006. Т. 1–3.
14
Балет «Дон Кихот» был поставлен Мариусом Петипа в 1869 году в московском Большом театре, в 1871 м был перенесен в петербургский Большой театр. В 1900 году Александр Горский сделал новую редакцию этого балета в Москве (Большой театр) с собственной хореографией и декорациями Головина и Коровина (костюмы делались при непосредственном участии жены Теляковского Гурлии Логиновны ТеляковскойМиллер). В 1902 м по инициативе Теляковского Горский перенес этот спектакль в Мариинский театр.

