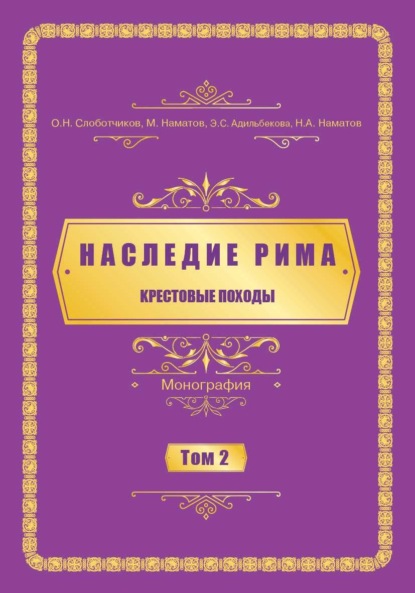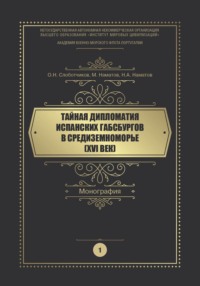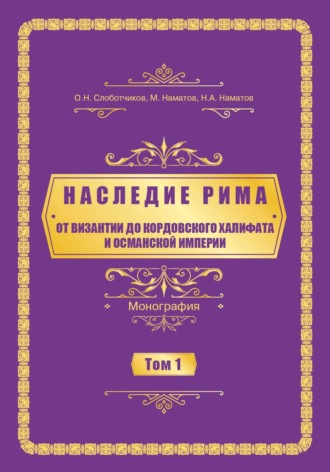
Полная версия
Наследие Рима. Том 1. Oт Византии дo Кордовского Халифата и Османскoй империи
На древнем Ближнем Востоке, как и везде, рабство засвидетельствовано из самых ранних письменных источников у шумеров, вавилонян, египтян и других древних народов. Первые рабы, по-видимому, были пленниками, взятыми на войне. Их количество было увеличено за счет других источников снабжения. В доклассической древности большинство рабов, по-видимому, было собственностью королей, священников и храмов и лишь относительно небольшая их часть находилась в частной собственности. Их нанимали возделывать поля и пасти стада их королевских и жреческих хозяев, но в остальном, по-видимому, они не играли большой роли в экономическом производстве, которое в основном оставалось за мелкими фермерами, арендаторами и садовниками, а также за ремесленниками и подмастерьями.
Рабское население также рекрутировалось путем продажи, оставления или похищения маленьких детей. Свободные люди могли продать себя или, чаще, своих детей в рабство. Они могли быть обращены в рабство за неплатежеспособность, как и лица, предлагаемые ими в залог. В некоторых системах, особенно в римской, свободные люди также могли быть обращены в рабство за различные правонарушения.
И Ветхий, и Новый Завет признают и принимают институт рабства. Оба время от времени настаивают на элементарной человечности раба и вытекающей из этого необходимости обращаться с ним гуманно. И в Библии, и в Талмуде евреям часто напоминают, что они тоже были рабами в Египте и поэтому должны обращаться со своими рабами прилично. Псалом 123, в котором обращение молящегося к Богу о милости сравнивается с обращением раба к своему хозяину, цитируется, чтобы повелеть рабовладельцам относиться к своим рабам с состраданием.
Стих в книге Иова даже был истолкован как аргумент против рабства как такового: «Разве сотворивший меня во чреве не сотворил его [раба]? И не один ли сотворил нас обоих?» (Иов 31:15). Однако это, вероятно, означает не больше, чем то, что раб – человек, а не просто движимое имущество. То же самое относится и к часто цитируемому отрывку из Нового Завета, что «нет ни Иудея, ни Еллина, нет ни раба, ни свободного, нет ни мужчины, ни женщины; ибо все вы одно во Христе Иисусе».
Эти и подобные стихи не означали, что этнические, социальные и гендерные различия не важны или должны быть упразднены, а только то, что они не давали никаких религиозных привилегий. Из многих намеков ясно, что рабство принимается в Новом Завете как факт жизни. Некоторые отрывки из Посланий Павла даже подтверждают это[203].
Так, в Послании к Филимону беглый раб возвращается к своему господину; в Ефесянам 6 долг раба перед своим господином сравнивается с долгом ребенка перед своим родителем, и рабу предписано «повиноваться господам твоим по плоти, со страхом, трепещите в простоте сердца вашего, как во Христе». Родителям и хозяевам также предписано проявлять внимание к своим детям и рабам.
Все люди истинной веры равны в глазах Бога и в загробной жизни, но не обязательно в законах человеческих и в этом мире. Те, кто не принадлежал к истинной вере – кем бы она ни была, – относились к другой и во многих отношениях более низкой категории. В этом отношении греческое восприятие варвара и иудео-христианско-исламское восприятие неверующего совпадают.
По-видимому, действительно были некоторые, кто выступал против рабства, обычно в том виде, в каком оно практиковалось, но иногда даже как таковoго. Говорят, что в греко-римском мире и киники, и стоики отвергали рабство как противоречащее справедливости, некоторые основывали свою оппозицию на единстве человеческого рода, а римские юристы даже считали, что рабство противоречит природе, только по «человеческому» закону. Нет никаких свидетельств того, что юристы или философы стремились к его отмене, и даже их теоретическая оппозиция подвергалась сомнению. Большая часть его касалась моральных и духовных тем – истинной свободы хорошего человека, даже когда он порабощен, и порабощения злого свободного человека его страстям. Эти идеи, повторяющиеся в иудейских и христианских писаниях, мало помогли тем, кто страдал от реальности рабства.
Филон, александрийский еврейский философ, утверждает, что еврейская секта фактически отказалась от рабства на практике. В несколько идеализированном описании ессеев он отмечает, что они практиковали форму первобытного коммунизма, разделяя дома и собственность и объединяя свои доходы.
Кроме того, «ни одного раба среди них нет, а все свободны, обмениваются друг с другом услугами, и они поносят владельцев рабов не только за их несправедливость в нарушении закона равенства, но и за их нечестие в аннулировании устава Природы, которая по-матерински родила и воспитала всех людей одинаково и создала их истинными братьями не только на словах, но и на деле, хотя это родство было смешано торжеством злобной алчности, которая вызвала отчуждение вместо симпатии и вражду вместо дружбы»[204].
Эта точка зрения, если ее действительно придерживались и применяли на практике, была уникальной для древнего Ближнего Востока. Евреи, христиане и язычники одинаково владели рабами и пользовались правами и полномочиями, предоставленными им их различными религиозными законами. Во всех общинах находились сострадательные люди, призывавшие рабовладельцев к гуманному обращению со своими рабами, и были даже некоторые попытки закрепить это законом.
Но институт рабства как таковой серьезно не подвергался сомнению и действительно часто защищался с точки зрения естественного закона или божественного промысла. Таким образом, Аристотель защищает состояние рабства и даже насильственное порабощение тех, кто «по природе рабы, которым выгодно управляться такой властью»; другие греческие философы высказывают аналогичные идеи, особенно о порабощенных пленниках из покоренных народов. Для таких рабство не только право; это также в их пользу.
Древние израильтяне не заявляли, что рабство выгодно рабам, но, подобно древним грекам, чувствовали потребность объяснить и оправдать порабощение своих соседей. В этом, как и в других вопросах, они искали скорее религиозную, чем философскую санкцию, и нашли ее в библейском рассказе о проклятии Хама. Примечательно, что это проклятие касалось только одной линии потомков Хама, а именно детей Ханаана, которых израильтяне поработили, когда завоевали Землю Обетованную, и не коснулось остальных.
Коран, как и Ветхий и Новый Заветы, предполагает существование рабства. Он регулирует практику учреждения и, таким образом, имплицитно принимает ее. Пророк Мухаммед и те из его сподвижников, которые могли себе это позволить, владели рабами; некоторые из них приобрели больше путем завоевания.
Но кораническое законодательство, впоследствии подтвержденное и развитое в Священном Законе, внесло два важных изменения в древнее рабство, которые должны были иметь далеко идущие последствия. Одним из них была презумпция свободы; другой – запрет на порабощение свободных людей, за исключением строго определенных обстоятельств.[205]
Коран был обнародован в Мекке и Медине в XVII веке, и фоном, на котором следует рассматривать кораническое законодательство, является древняя Аравия. Арабы практиковали форму рабства, подобную той, которая существовала в других частях древнего мира. Коран признает этот институт, хотя можно отметить, что слово ‘абд (раб) используется редко, чаще его заменяют некоторым перифразом, таким как ма малакат айманукум, «то, чем владеют твои десницы».
Коран признает основное неравенство между господином и рабом и права первого над вторым (XVI:71; XXX:28). Он также признает сожительство (IV:3; XXIII:6; XXXIII:50–52; LXX:30). Он призывает, не приказывая, к добру к рабу (IV: 36; IX: 60; XXIV: 58) и рекомендует, не требуя, его освобождения путем выкупа и дарением свободы.
Освобождение рабов рекомендуется как для искупления грехов (IV:92; V:92; LVIII:3), так и в качестве акта простой благотворительности (II:177; XXIV:33; XC:13). Он увещевает господ позволить рабам зарабатывать или покупать свою свободу. Важным отличием от языческих, хотя и не иудейских или христианских, обычаев является то, что в строго религиозном смысле верующий раб теперь является братом свободного человека в исламе и перед Богом и выше свободного язычника или идолопоклонника (II: 221).
Этот момент подчеркивается и разрабатывается в бесчисленных хадисах (преданиях), в которых Пророк цитируется как призывающий к уважительному, а иногда даже равному обращению с рабами, осуждающий жестокость, суровость или даже невежливость, рекомендующий освобождение рабов и напоминающий мусульманам, что его апостольство заключалось как в освобождении, так и в рабстве.
Хотя рабство сохранилось, исламское устроение значительно улучшило положение арабского раба, который теперь был не просто движимым имуществом, но и человеком с определенным религиозным и, следовательно, социальным статусом и определенными квазиюридическими правами.
Ранние халифы, правившие исламским сообществом после смерти Пророка, также внесли некоторые дальнейшие реформы гуманитарного направления. Порабощение свободных мусульман внесло сумятицу в обществе и в конечном итоге запрещено. Для свободного человека было объявлено незаконным продавать себя или своих детей в рабство, и больше не разрешалось порабощать свободных людей ни за долги, ни за преступления, как это было принято в римском мире и, несмотря на попытки реформ, в некоторых частях Рима и в христианской Европe по крайней мере до XVI века. Фундаментальным принципом исламской юриспруденции стало то, что естественным состоянием и, следовательно, предполагаемым статусом человечества является свобода, точно так же, как основным правилом действий является дозволенность: разрешено то, что прямо не запрещено; тот, кто не известен как раб, свободен[206].
Это правило не всегда строго соблюдалось. Мятежников и еретиков иногда объявляли неверными или, что еще хуже, отступниками и обращали в рабство, как это делали с жертвами некоторых мусульманских правителей в Африке, которые объявляли джихад своим соседям, не обращая внимания на их религиозные убеждения, чтобы обеспечить юридическую защиту, прикрытие для своего порабощения. Но в целом, и уж точно в центральных землях ислама, при режимах высокой цивилизации правила соблюдались, и свободные подданные государства, как мусульмане, так и немусульмане, были защищены от незаконного порабощения.
Поскольку все люди были естественным образом свободны, рабство могло возникнуть только в двух случаях: (1) рождение от родителей-рабов или (2) попадание в плен на войне. Последнее вскоре было ограничено неверными, захваченными во время джихада. Эти реформы серьезно ограничили приток новых рабов. Брошенных и невостребованных детей больше нельзя было усыновлять в рабство, как это было обычной практикой в древности, а свободных людей больше нельзя было порабощать.
Согласно исламскому закону, рабское население могло быть завербовано, помимо рождения и захвата, только путем ввоза, либо путем покупки, либо в виде дани из-за исламских границ.
В первые дни быстрых завоеваний и экспансии священная война принесла обильный приток новых рабов, но по мере того, как границы постепенно стабилизировались, этот приток сократился до простой струйки. Большинство войн теперь велось против организованных армий, таких как византийские или другие христианские государства, и с ними военнопленных обычно выкупали или обменивали.
В пределах исламских границ ислам быстро распространился среди населения недавно приобретенных территорий, и даже те, кто оставался верным своим старым религиям и жил под покровительством мусульман (зимми), не могли, если бы они были свободны, быть законно порабощены, если они нe нарушали условия зимми, договора, регулирующего их статус, например, восстать против мусульманского правления или помогать врагам мусульманского государства или, по мнению некоторых авторитетов, удерживать уплату хараджа или джизьи, налогов причитающиеся с зимми мусульманскому государству.
В исламской империи гуманитарная направленность Корана и ранних халифов в какой-то степени противостояла другим влияниям. Примечательным среди них была практика различных завоеванных народов и стран, с которыми мусульмане столкнулись после своей экспансии, особенно в провинциях, ранее находившихся под римским правом. Этот закон, даже в его христианизированной форме, все еще был очень суровым в обращении с рабами[207].
Возможно, столь же важным был огромный рост рабского населения в результате сначала самих завоеваний, а затем организации обширной сети ввоза. Это привело к падению денежной стоимости и, следовательно, человеческой ценности рабов, а также к общему принятию более жесткого тона и более строгих правил. Но даже после ужесточения взглядов и законов исламская практика по-прежнему представляла собой значительное улучшение по сравнению с тем, что было унаследовано от античности, от Рима и от Византии.
Рабы были исключены из религиозных функций или из любой должности, связанной с юрисдикцией над другими. Их показания не были приняты во внимание в ходе судебного разбирательства. В уголовном праве наказание за преступление против человека, штраф или кровопролитие, было для раба вдвое меньше, чем для свободного человека. Хотя жестокое обращение вызывало сожаление, не было фиксированного шариатского наказания.
В том, что можно было бы назвать гражданскими делами, раб был движимым имуществом без каких-либо законных полномочий или прав. Он не мог заключать договор, владеть имуществом или наследовать. Если он подвергался штрафу, его владелец был ответственным. Однако в отношении прав он был явно выше, чем греческий или римский раб, поскольку исламские юристы, а не только философы и моралисты, принимали во внимание гуманитарные соображения.
Они устанавливали, например, что хозяин должен оказывать своему рабу медицинскую помощь, когда это необходимо, должен обеспечивать ему адекватное содержание и должен поддерживать его в старости. Если хозяин не выполнял эти и другие обязательства перед своим рабом, кади мог заставить его выполнить их либо продать, либо освободить раба.
Хозяину запрещалось переутомлять своего раба, и если он делал это до жестокости, он подлежал наказанию, которое, однако, было дискреционным и не предписывалось законом. Раб мог заключить контракт, чтобы заслужить свою свободу, и в этом случае его хозяин не был обязан платить за его содержание. Хотя теоретически раб не мог владеть собственностью, ему могли быть предоставлены определенные права собственности, за которые он платил фиксированную сумму своему хозяину.
Раб мог жениться, но только с согласия хозяина. Теоретически раб-мужчина мог жениться на свободной женщине, но это не одобрялось и на практике запрещалось. Господин не мог жениться на собственной рабыне, если предварительно не освободил ее. Исламский закон предусматривает несколько способов освобождения раба.
Одним из них было освобождение, совершавшееся посредством формального заявления со стороны хозяина и записываемого в свидетельстве, которое выдавалось освобожденному рабу. Освобождение раба включало в себя потомство этого раба, и юристы уточняют, что, если есть какая-либо неопределенность в отношении акта освобождения, раб имеет преимущество сомнения.
Другой метод – это письменное соглашение, по которому хозяин предоставляет свободу в обмен на фиксированную сумму. После заключения такого соглашения господин уже не имеет права распоряжаться своим рабом ни путем продажи, ни в дар. Раб по-прежнему подвержен определенным юридическим ограничениям, но в большинстве случаев фактически свободен.
Такое соглашение, однажды заключенное, может быть расторгнуто рабом, но не господином. Дети, родившиеся у рабыни после вступления в силу договора, рождаются свободными. Господин может взять на себя обязательство освободить раба в определенное время в будущем. Он также может обязать своих наследников освободить раба после его смерти. Юридические школы несколько расходятся в правилах, касающихся такого рода освобождения.
Помимо всего этого, зависящего от воли господина, существуют различные законные причины, которые могут привести к освобождению независимо от воли господина. Наиболее распространенным является судебное решение кади, приказывающее хозяину освободить раба, с которым он жестоко обращался. Особым случаем является умм валад, рабыня, которая рожает сына своему господину и тем самым приобретает определенные неотъемлемые юридические права.
Немусульманским подданным мусульманского государства, то есть зимми, на практике разрешалось владеть рабами; а христианские и еврейские семьи, которые могли себе это позволить, владели рабами и нанимали их так же, как и их мусульманские коллеги. Им не разрешалось владеть рабами-мусульманами; и если раб, принадлежавший зимми, принял ислам, его владелец по закону был обязан освободить или продать его. Евреям и христианам, конечно, не разрешалось иметь наложниц-мусульманок, и их собственные религиозные авторитеты обычно запрещали – не всегда эффективно – сексуальный доступ к своим рабыням[208].
Еврейские рабы, приобретенные в результате каперства в Средиземноморье и захваченные при набеге татар в Восточной Европе, часто были выкуплены и освобождены их местными единоверцами. Гораздо более многочисленные рабы-христиане – за исключением западноевропейцев, за которых можно было договориться о выкупе из дома, – по большей части были обречены остаться. Иногда рабовладельцы-христиане и евреи пытались обратить своих домашних рабов в свою религию.
Согласно раввинскому закону, евреи действительно должны были попытаться убедить своих рабов принять обращение с помощью обрезания и ритуального погружения в воду. Широко практиковалась форма полуобращения, при которой раб принимал некоторые основные заповеди и обряды, но не всю строгость Моисеева закона.
Согласно иудейскому закону, обращенного или даже полуобращенного раба нельзя было продать язычнику. Если владелец действительно продал его или ее, раб должен был быть освобожден. И наоборот, раб, отказавшийся даже от частичного обращения, должен был по истечении оговоренного промежутка времени быть продан язычнику.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Hay numerosos e interesantes estudios que analizan el fenómeno contrario, es decir, el imaginario y la ideología que el cristianismo medieval construyó en torno al islam. Cabe destacar obras como Norman DANIEL, Islam and the West: The Making of an Image, Edimburgh University Press, Edimburgo, 1960; Benjamin KEDAR, Crusade and Mission: European Approaches Toward the Muslims, Princeton University Press, Princeton, 1984 y John V. TOLAN, Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, Columbia University Press, Nueva York, 2002.
2
Véanse interesantes trabajos sobre historiografía en torno al término «mozárabe» como Diego Adrián OLSTEIN, «Historiografía Mozárabe en su Contexto: Restauración, Dictadura y Democracia», Refejos, 8 (1999), pp. 91–104, y Diego Adrián OLSTEIN, La era mozárabe. Los mozárabes de Toledo (siglos XII y XIII) en la historiografía, las fuentes y la historia, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2006, pp. 23–50.
3
Francisco Javier Simonet, Historia de los mozárabes de España, Maxtor, Valladolid, 2005. 18.
4
anuel GÓMEZ MORENO, Iglesias Mozárabes, arte español de los siglos IX al XI, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1919, p. 1 y ss.
5
Manuel Rincón Álvarez, Mozárabes y mozarabías, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, p.
6
Juan FERNÁNDEZ VALVERDE (ed.), Roderici Ximenii de Rada. Historia de Rebus Hispanie sive Historia Gothica. Corpvs Christianorvm. Continuatio Mediaeualis, LXXII, Brepols, Turnholt, 1987, p. 107.
7
Pedro Chalmeta, “Mozarab”¸ EI, Brill, Leiden, 1993, vol. VII, pp. 246–249.
8
Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español, Espasa-Calpe, Madrid, 1950, pp. 414–430.
9
Isidro DE LAS CAGICAS, Minorías étnico-religiosas de la Edad Media española: los mozárabes, CSIC, Madrid, 1948, y Isidro DE LAS CAGIGAS, «Problemas de minorías y el caso de nuestro medioevo», Hispania, 10 (1950), pp. 506–538.
10
Ángel GONZÁLEZ PALENCIA, Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid, 1926–1930, vol. Preliminar, pp. 117–118 y Ángel GONZÁLEZ PALENCIA, Moros y cristianos en la España medieval, CSIC, Madrid, 1945, pp. 201–203.
11
Américo CASTRO, España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Editorial Losada, Buenos Aires, 1948.
12
Thomas GLICK, “The Acculturation as an Explanatory Concept in Spanish History”, Comparative Studies in Society and History, 11 (1969), pp. 136–154.
13
Dominique URVOY, “Les Aspects symboliques du vocable ‘Mozarabe’, essai de réinterpretation”, Studia Islamica, 77 (1993), pp. 117–153.
14
Jacques FONTAINE, “Mozarabie Hispanique et Monde Carolingien”, Anuario de Estudios Medievales, 13 (1983), pp. 17–46.
15
Dominique MILLET-GERARD, Chrétiens mozarabes et culture islamique dans l’Espagne des VIIIe-IXesiècles, Études Augustiniennes, París, 1984.
16
Hanna Kassis, “Arabic-speaking Christians in al-Andalus in an age of turmoil (f fth ing Christians in al-Andalus in an age of turmoil (V–XI century until A.H. 478/A.D. 1085)», Al-Qantara, 15 (1994), pp. 401–450.
17
Miguel José HAGERTY, Los cuervos de San Vicente: escatología mozárabe, Editora Nacional, Madrid, 1978, pp. 34–36.
18
Vicente CANTARINO, Entre monjes y musulmanes. El conficto que fue España, Alhambra, Madrid, 1978, pp. 108–109.
19
Emilio Cabrera Muñoz, “Refexiones sobre la cuestión mozárabe”, Actas del I Congreso Nacional de Cultura Mozárabe: (historia, arte, literatura, liturgia y música): Córdoba, 27 al 30 de abril de 1995, Obra social y cultural Caja Sur, Córdoba, 1996, pp. 11–26.
20
Jean-Pierre Molénat, “Le problème du role des notaires mozárabes dans l’oeuvre des traducteurs de Tolède (XII–XIII siècle)”, En la España Medieval, 18 (1995), pp. 39–60.
21
Edward Colbert, The martyrs of Córdoba (850–859): A study of the sources. The Catholic University of America, Washington, 1962.
22
Richard Hitchcock, “El supuesto mozarabismo andaluz”, Andalucía Medieval. Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Córdoba, 1978, vol. I, pp. 149–151.
23
Richard Hitchcock, “¿Quiénes fueron los verdaderos mozárabes? Una Contribución a la historia del mozarabismo”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 30:2 (1981), pp. 574–585.
24
Richard Hitchcock, “Mozarabs in medieval and early modern Spain: identities and infuences”, Ashgate, Burlington, 2007, pp. IX–XX.
25
Ann CHRISTYS, Christians in al-Andalus, 711–1000, Curzon Press, Richmond, 2002.
26
Cyrille Aillet, Les mozarabes: christianisme, islamisation et arabisation en Péninsule Ibérique (IX–XIIesiècle), Casa de Velázquez, Madrid, 2010, pp. 3 y ss.
27
Eva Lapiedra, «Ulug rum», «muzarabes» y mozárabes: imágenes encontradas de los cristianos de al-Andalus», Collectanea christiana orientalia, 3 (2006), pp. 105–142.
28
Francisco Javier Simonet, Historia de los mozárabes…
29
Reproduzco estos términos exactamente igual a como los escribió Simonet.
30
Eva Lapiedra, Cómo los musulmanes llamaban a los cristianos hispánicos, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1997.
31
Una serie de compilaciones de masā’il de juristas que pertenecen a la generación de maestros medineses, egipcios y norteafricanos, de alfaquíes andalusíes cuya actividad jurídica se desarrolló entre fnales del VIII y la primera mitad del IX. Se tratará con más detalle en el anexo documental. Ana Fernández Félix y Maribel Fierro, “Cristianos y conversos al Islam en al-Andalus bajo los Omeyas: Una aproximación al proceso de islamización a través de una fuente legal andalusí del s. III/ IX”, Visigodos y omeyas: un debate entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, (Mérida, abril de 1999), Luis Caballero y Pedro Mateos (eds.), Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Mérida, 2000, pp. 415–428.