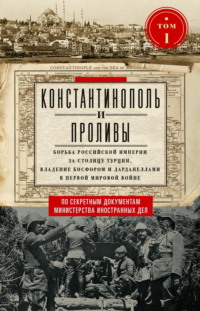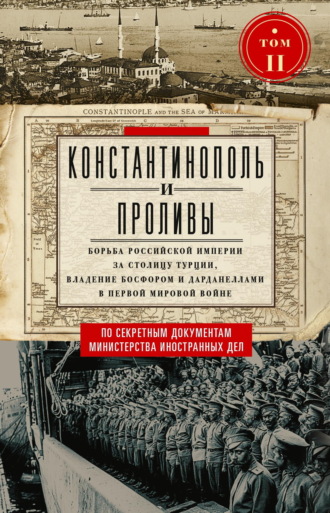
Полная версия
Константинополь и Проливы. Борьба Российской империи за столицу Турции, владение Босфором и Дарданеллами в Первой мировой войне. Том II
Если бы Болгария затруднилась выступить с военными силами, то за добросовестное соблюдение нейтралитета она могла бы быть вознаграждена Кочанами и Иштибом с территорией до Варадара лишь после победоносной войны, в чем Сербия теперь же даст обязательство России, которая сообщит таковое Болгарии. Делая настоящее сообщение, выскажите Пашичу следующую нашу общую точку зрения: начиная войну, требующую напряжения всех своих сил, войну, которая вызвана защитой Сербии и которая с божьей помощью приведет к исполнению ее (Сербии) народных идеалов, Россия не сомневается, что сербское правительство без колебания пойдет навстречу ее заветному желанию восстановить братство всех славянских народов, и прежде всего Сербии и Болгарии. Жертвы, которые придется для этого принести Сербии, несоизмеримы также с теми жертвами, которые несет Россия. Само собой разумеется, условия, сообщаемые ныне Пашичу, не должны быть нами сразу сообщены болгарам. Для нас необходимо лишь быстрое и категорическое согласие сербского правительства предоставить России полномочия начать переговоры в указанных выше пределах. Какие-либо колебания в настоящий момент мы считали бы прямо пагубными».
События последующего времени показали с полной убедительностью, что оценка положения, из которой исходил в данном случае Сазонов, – по каким бы мотивам он к ней ни пришел, – была правильна: только такими уступками Болгарии, какие он предлагал, можно было добиться ее участия в войне на стороне Антанты. Дальше того, что он предлагал предоставить болгарам в самые первые дни войны, строго говоря, не шли и гораздо более поздние притязания болгарских правящих кругов, поскольку речь шла о Сербии или, точнее, о Македонии[56]. Говорить же в это время, когда Турция официально еще не вошла в состав врагов Антанты, о Фракии и линии Энос – Мидия вообще не приходилось, да по отношению к сербскому правительству не было и надобности.
Потребность соглашения с Болгарией сознавали в это время и в самой Сербии, как явствует из телеграммы Штрандтмана от 2 августа (20 июля), в которой он сообщал Сазонову о желании Пашича, чтобы Россия взяла на себя функции примирительницы Сербии с Болгарией[57]. В те первые дни войны, когда Белград обстреливался австрийцами и сербская армия собиралась покинуть, а затем и покинула столицу королевства, а отношение Франции и в особенности Англии к начавшейся войне еще не определилось окончательно[58], в Сербии были готовы на широкие уступки Болгарии, дабы не довести дела до полной собственной катастрофы.
Вскоре, однако, положение дел изменилось. В то время как Сазонов, преследуя ту же цель обеспечения соучастия в войне Болгарии, старался подействовать на Грецию, убеждая и ее в необходимости сделать болгарам известные уступки, – на этот раз, однако, точно не формулированные[59], – от Штрандтмана стали поступать неблагоприятные сведения, вызывавшие раздраженный отклик Сазонова[60]. Становилось ясно, что в Сербии начинают преобладать иные настроения, чем в первые дни, и что представляется необходимым прибегнуть к средству весьма неприятному для русского правительства, все еще не привыкшего к мысли о преувеличенности ходячих в русских влиятельных кругах представлений о решающем значении «голоса России» для политики «славянских братьев», – а именно к совместному воздействию трех держав Антанты на строптивых сербов и не менее строптивых греков. Однако и тут идея Сазонова не встретила сочувствия: к концу августа выяснилось, что ни Грэй, ни Делькассе не желали вступить на путь, рекомендованный Сазоновым[61], а 1 сентября ⁄ 19 августа Пашич категорически отказался от каких-либо уступок, покуда державы не гарантируют Сербии «сербско-хорватских земель с прилегающим к ним побережьем», что в данной стадии войны было явно невозможно, как по условиям положения па фронтах, так и вследствие опасности оттолкнуть Италию предоставлением Сербии Фиуме и Далмации. Ответственность за эту неудачу своей политики Сазонов возлагал прежде всего на Англию, как видно из его телеграммы Бенкендорфу от 6 сентября ⁄ 24 августа № 3959, сообщенной одновременно к сведению русским представителям в Бордо, Константинополе, Афинах, Нише, Софии и Бухаресте:
«Прошу вас вновь повторить Грэю, что мы настаиваем на том, чтобы в Афинах и Нише были преподаны решительные советы в смысле соглашения с Болгарией на почве компенсаций.
Если Греция на это не пойдет, то мы не свяжем себя никаким обещанием начать враждебные действия против Болгарии, если бы последняя не оказала должного сопротивления Турции.
Результатом этого может явиться воздержание Сербии от активных выступлений против Австрии[62], что отразится на операциях нашей армии.
Считаю, что Англия, вследствие своей нерешительности, была бы в значительной степени ответственной за такой исход.
Наш образ действий объясняется тем, что, имея войну против Германии и Австрии, мы не можем не стремиться избегнуть столкновения с Турцией и Болгарией из-за безрассудства Греции[63], опирающейся на попустительство англичан.
Я высказался сегодня в этом смысле перед английским и французским послами».
Документально удастся установить мотивы политики сэра Э. Грэя лишь но опубликовании соответствующих английских данных, притом, разумеется, не типа «Синей» и т. п. книг, этих профессиональных лжесвидетелей современной дипломатии. Стоит, однако, сопоставить его нежелание содействовать Сазонову в деле воссоздания балканского союза с одобренной им же инструкцией Черчилля Н. Бекстону от 31/18 августа[64], в которой первенствующее место занимает как раз забота «не заинтересованной» в балканских делах Англии о воссоздании именно этого союза, кстати сказать, с присоединением к «славянским странам», – о которых Сазонов, по крайней мере в телеграмме Штрандтману, в первую голову заботился, – Греции и Румынии, чтобы не оставалось сомнений в существе той «союзнической» услуги, которую Грэй оказал в данном случае России. Весьма основательно поэтому русский посланник в Софии Савинский заметил несколько позднее в беседе с Бекстоном, прибывшим в Софию и говорившим о необходимости добиться для Болгарии у ее соседей территориальных уступок, «что именно таковой была ваша (Сазонова) первоначальная мысль, не нашедшая, однако, сочувствия у лондонского кабинета, и что теперь, после заявлений, обмененных в Нише между Пашичем и тремя представителями (речь идет о заявлении Пашича от 1 сентября ⁄ 19 августа), возвращение к вопросу о конкретных компенсациях гораздо труднее» (телеграмма от 22/9 сентября)[65].
Следить за дальнейшим течением нудных переговоров держав Антанты с Болгарией – здесь нет ни возможности, ни надобности. Упомянуть же о скрывавшихся за ними англо-русских трениях необходимо, дабы выяснить истинный характер балканской политики Англии в начале 1915 г. или, по крайней мере, одну из существенных ее сторон.
Черчилль, будучи вынужден считаться с «государственной тайной», окутывающей поныне во имя «государственных интересов» все зарождение дарданелльской операции, но заинтересованный в то же время лично в том, чтобы не оставаться в глазах современников и потомства в роли, не слишком выгодной для такого самолюбивого, честолюбивого и властолюбивого человека, – в роли талантливого, но пустого фантазера, виновного в неудаче «нелепой попытки» форсировать Дарданеллы без расчета на десантные операции, – приподнял край завесы не только над конкретным смыслом его собственного понимания дарданелльской операции, но, косвенно, и над мотивами, приведшими Китченера, после того как александреттская операция окончательно сорвалась, вследствие несогласия на нее французов, к неожиданной готовности предоставить для этой цели десантные войска.
Говоря о тех соображениях, которыми он руководился, настаивая на необходимости дарданелльской операции и на возможности благополучного ее завершения, несмотря на повторные отказы Китченера поддержать ее силами сухопутной армии, Черчилль приводит их четыре. Здесь говорится о политических последствиях, которые должно было вызвать в Константинополе появление перед ним английского флота (речь идет о восстании весьма многочисленного нетурецкого, в частности греческого и армянского, населения Константинополя, об анархии, о движении среди самих мусульман против младотурок и других подобных вещах, на которые не без приятности, а быть может, и не без всякого основания рассчитывали не одни только русские дипломаты!)[66]. Далее он говорит о «неминуемом» движении в таком случае болгар против Адрианополя и в конце концов о том, что Россия сочла бы себя вынужденной, как бы ни было тяжело ее положение на германо-австрийском фронте, принять участие в водворении креста над храмом Св. Софии, а стало быть, помогла бы Англии довершить дело захвата Проливов и Константинополя (не имея в то же время достаточных сил, чтобы занять здесь соответствовавшее ее давнишним замыслам положение). Не эти соображения, однако, стоят на первом месте. Это место по необходимости отведено подлинному козырю Черчилля (и Ллойд Джорджа), а именно Греции. Как Черчилль сам говорит, он полагал, что, «если и когда турецкие форты (на Дарданеллах) начнут падать (began to fall), греки к нам присоединятся и вся совокупность их войск будет с того времени в нашем распоряжении»[67].
В этих словах содержится ключ к пониманию всей дарданелльской операции в этой ее фазе. Дарданелльская операция, давно лелеемая если не всем английским кабинетом, то влиятельной его частью[68], заняла сначала и ввиду сопротивления лорда Китченера и адмирала Фишера, одинаково оценивших как ее военно-техническую трудность, так и трудности военного положения Англии, вообще лишь третье место в списке предположенных на Ближнем Востоке операций. Однако и тогда уже поддерживавшие ее члены кабинета придавали ей, несомненно, огромное самостоятельное значение. Вопрос сводился практически лишь к тому, чтобы усилить флот десантом. В известной степени разрешение этой задачи было облегчено крушением александреттской операции. С этого момента ее сторонники, поддержанные вдобавок встречной инициативой Ллойд Джорджа по вопросу о сербской экспедиции, могли опереться на тот факт, что, как-никак, лорд Китченер нашел «свободные» войска для Александретты, а раз они были свободны для Александретты, то они должны были оказаться свободными и для другой цели – в частности, для того, чтобы оказать «нравственное воздействие» на Грецию и вовлечь ее в операцию, которая отдаст «всю совокупность ее войск в наше распоряжение».
Разговор русского главковерха с генералом Вилльямсом играл во всем этом деле лишь объективно ничтожную роль. Он лишь облегчал английским политикам возможность предпринять всякие, с их точки зрения полезные для Англии, операции в любом месте Османской империи[69].
Центр тяжести всей дарданелльской операции заключался отнюдь не в помощи России. Он заключался в овладении Ближним Востоком Англией независимо от России и, строго говоря, против России или, точнее, против установления ее владычества на Проливах.
Этим объясняется и внезапный перелом в настроении Венизелоса, последовавший непосредственно за признанием им полуофициального предложения Грэя 23/10 января «абсурдным». Уже на следующий день, 24/11 января, он, как мы видели, представил королю меморандум, в котором страстно доказывал, что Греции надлежит немедленно принять участие в войне и не только отказаться ради привлечения к делу Болгарии от противодействия сербским уступкам в Македонии, но и самой добровольно отказаться от Кавалы. Главным соображением в пользу такого неожиданного поворота выставлялось, помимо настоятельной необходимости прийти на помощь Сербии, вдруг почему-то сознанной Венизелосом, возможность получить в Малой Азии компенсации, которые «сделают ее (Грецию) более великой и могущественной, чем самые сангвинические греки могли мечтать за несколько лет до того»[70]. Еще более любопытен был следующий меморандум, представленный им королю 30/17 января, уже после того, как на сделанный в Бухаресте, по желанию Константина, официальный запрос относительно готовности Румынии гарантировать Грецию, в случае несговорчивости Болгарии, от нападения последней, был получен уклончивый ответ. «У меня есть чувство (!), что уступки в Малой Азии, указываемые сэром Э. Грэем, могут, в особенности если мы согласимся на жертвы болгарам, принять такие размеры, что ими территория Греции будет удвоена». По его предположениям, Греции должна была быть предоставлена территория величиною не менее чем в 125 тысяч квадратных километров, с населением в 800 тысяч человек. Именно в связи с этим в меморандуме говорилось о «реализации самых смелых наших национальных идеалов»[71]. Как бы ни оценивать государственные дарования Венизелоса в общем, ясно, что поворот в его взглядах и размах его надежд не могут быть объяснены иначе, как новыми, в его глазах достаточно авторитетными, данными о намерениях английского правительства…
О шагах, предположенных Англией в Греции, Сазонов, правда, был извещен еще до выступления Венизелоса загадочной, на первый взгляд, телеграммой Савинского от 2 января ⁄ 20 декабря, в которой сообщалось, что «английский посланник (Айронсайд), посвятив меня в свою переписку последних дней с Лондоном и Афинами (!) о желательности скорейшего выступления Греции, сообщил мне, что, судя по телеграммам из Афин (!), на это выступление надеяться не приходится и что есть указания на разговоры греков с турками (!). Айронсайд очень смущен этим обстоятельством и просил меня поддержать перед вами его (!) мысли о необходимости во что бы то ни стало вывести греков из этого положения упорства, указав им, что высадка греков в Галлиполи имела бы решающее значение для прорыва Дарданелл и для быстрого исхода войны с Турцией». Не может быть сомнения в том, что дело заключалось тут не в фантастических личных переговорах Айронсайда с Афинами, на которые даже самый смелый и взбалмошный английский дипломат не решился бы без указаний из центра, а в желании Лондона подготовить Сазонова к «внезапно» – после провала александреттского дела – выяснившейся необходимости участия Греции в дарданелльской операции.
В дальнейшем вопрос был поставлен Сазонову временным заместителем Бьюкенена О’Бейрном, о чем свидетельствует памятная записка великобританского посольства, врученная Сазонову 27/14 января с очевидной целью зафиксировать его ответ на сделанное ему из Англии предложение согласиться на участие греков в дарданелльской операции. Из нее видно, что «г. Сазонов сообщил… что он не будет ставить никаких препятствий военной оккупации Галлиполи Грецией, при условии что французское и великобританское правительства примут меры к тому, чтобы Греция ни в чем не противодействовала русской политике и русским интересам в вопросе о Проливах». «Посольству его (великобританского) величества поручено заявить, что сэр Эд. Грэй согласен с условием, поставленным г. Сазоновым», – говорила записка в заключение.
Можно думать, что уступчивость Сазонова была обусловлена главным образом тяжелым положением русской армии вследствие германского наступления в районе Сувалкской и Курляндской губерний. Тем не менее его оговорка, поддержанная Францией, возымела свое действие, весьма разочаровавшее греческое правительство.
Шаг, предпринятый представителями Англии, Франции и России в Афинах 14/1 февраля для побуждения Греции выступить в помощь Сербии в связи с отправкой туда двух союзных дивизий, достаточно будто бы гарантирующих ее против нападения со стороны Болгарии, – причем никаких конкретных обещаний Греции не давалось, – в самом деле должен был подействовать на Венизелоса как холодный душ. Он показывал, что от официозных и секретнейших сообщений лондонских друзей Греции до практического оформления дела, в соответствии «с самыми смелыми национальными ее идеалами», была дистанция огромного размера, непреодолимая, в частности, без согласия России, отнюдь не желавшей допустить греков в Константинополь, но готовой втянуть ее силы в борьбу с Австрией. В результате Венизелос ответил отказом, покуда Антанте не удастся окончательно привлечь на свою сторону Румынию, назвав вступление Греции на указанных союзниками условиях в войну «актом безумия», как телеграфировал Демидов Сазонову того же 14/1 февраля. А хотя в Петрограде и сделали вид, что очень недовольны, – об этом сообщал Драгумис Венизелосу 16/3 февраля, – Сазонов уже 19/6 февраля поручил Бенкендорфу и Извольскому выяснить, сохранили ли Лондон и Париж намерение послать по дивизии в Сербию, «несмотря на занятое в этом вопросе Грециею положение». Из их ответов явствовало, что «проект оставлен», но что Англия сделала в Париже предложение оправить обе дивизии на Лемнос, «чтобы в случае надобности высадить их на Галлиполийском полуострове», на что Франция соглашалась (телеграммы от 19/6 февраля).
7. Английский десант. – Впечатление во Франции. – Отражение в России
Решающее заседание английского Военного совета по этому вопросу действительно состоялось 16/3 февраля. Тут именно было решено: 1) отправить ускоренным образом (в 9—10 дней) одну регулярную (29-ю) дивизию на Лемнос; 2) принять «на случай надобности» подготовительные меры для переброски войск из Египта; 3) использовать все названные силы, вместе с морскими батальонами, уже находящимися на месте, «в случае надобности», для поддержки морского нападения на Дарданеллы; 4) поручить адмиралтейству приготовить необходимые транспортные средства как в Англии – для 29-й дивизии, так и в области Леванта – для войск, находившихся в Египте. «Решения 16 февраля представляют основание военно-сухопутной атаки Дарданелл», – замечает по этому поводу Черчилль, прибавляя, однако, что условия применения сухопутных сил при этом не были точнее определены[72].
Обсуждение вопроса о дальнейшем образе действий между Лондоном и Парижем имело, по-видимому, довольно напряженный характер. Обеспокоенное еще раньше, в связи с вопросом об Александретте, энергичной инициативой, развитой англичанами на Ближнем Востоке, французское правительство, руки которого были связаны необходимостью напрячь все силы для защиты самой Франции, очевидно, опасалось создания на Востоке таких фактических условий властвования в пользу Англии, которые отнюдь не соответствовали его видам. Не кто иной, как Черчилль, помог французам понять размеры предположенной операции: это, по-видимому, одна из тех «индискретностей», в которых его поныне упрекают в Англии в связи с дарданелльским делом. В довольно сердитой, хотя и внешне сдержанной, форме высказал ему свое неудовольствие по этому поводу сам Китченер в записке от 20/7 февраля. «Французы, – писал он, – очень возбуждены большим количеством войск, которое, как вы им сообщили, будет пущено в дело. Я только что виделся с Грэем и надеюсь, что на нас не будет навьючен (hope we should not be saddled) французский контингент для Дарданелл»[73]. В этот же самый день Извольский сообщил о разговоре с Делькассе, в котором последний высказал надежду, что «наш черноморский флот… предпримет действия против Босфора и что, в случае успеха, обе эскадры – русская и англо-французская – появятся одновременно перед Константинополем, что весьма важно как с военной, так и в особенности с политической точки зрения». Франция действительно «навьючила» англичан своим контингентом, что привело Китченера в такое раздражение, что он, уже отказавшись под разными предлогами от немедленной отправки 29-й дивизии на заседании Военного совета 19/6 февраля, – вслед за тем, когда факт участия французов в деле окончательно выяснился, послал своего адъютанта, даже не переговорив об этом предварительно с Черчиллем, к адмиралу Фишеру и в транспортный департамент адмиралтейства с сообщением, что 29-я дивизия не будет отправлена, вследствие чего уже приготовленные транспорты были тут же освобождены для других надобностей и распущены без уведомление об этом Черчилля[74].
Отражением упомянутых англо-французских недоразумений и французских опасений является, по-видимому, также неожиданное и чрезвычайно быстрое изменение взглядов русской Ставки на возможность участия русских военных сил в начавшейся 19/6 февраля, путем бомбардировки внешних фортов, дарданелльской операции.
Еще 23/10 февраля Кудашев извещал Сазонова в чрезвычайно пессимистическом тоне о состоявшемся накануне в Ставке собеседовании генерала Данилова, адмирала Ненюкова и его самого, в котором выяснилось, что «если в отношении нашего флота произошла некоторая перемена к лучшему… то в отношении сухопутных войск перемен к лучшему нет, и никакой десантной операции мы и ныне не в состоянии сделать на Босфоре, даже если бы там появились наш и союзные флоты». А уже на следующий день, 24/11 февраля, то есть до получения в Ставке второй телеграммы Извольского от того же числа, переданной в Ставку лишь 25/12 февраля, в которой сообщалось о том, что «Делькассе еще раз высказал мне надежду, что мы будем участвовать в операции против Проливов и Константинополя не только нашим черноморским флотом, но и сухопутными войсками»[75], Кудашев, к своему крайнему удивлению, узнал, что «ген. Данилов вдруг находит возможным посадить один из кавказских корпусов на транспорты и выслать его к Босфору на случаи удачи прорыва Проливов». Вся обстановка дела едва ли допускает сомнение, что причину этого поворота следует искать отнюдь не в соображениях военного, а исключительно в соображениях политического характера.
В нашем распоряжении в настоящее время не имеется данных, которые позволили бы расшифровать тайну этого поворота до конца. Едва ли, однако, можно сомневаться в том, что разгадка заключается в приезде в Ставку все того же 24/11 февраля военного министра Сухомлинова – приезде, предшествовавшем ошеломившей Кудашева новости об изменении взглядов Данилова. Само собой разумеется, что Сухомлинов узнал до своего выезда из Петрограда об указании Делькассе (20/7 февраля) на политическую важность участия русских сухопутных сил в операции и что сообщение об этом, даже если ему не сопутствовало сообщение о каком-либо суждении по поводу него Николая II, должно было иметь существенное значение. В частности, в Ставке хорошо знали, с какой чрезвычайной напряженностью французское правительство следило всегда за тем, чтобы никакие силы, могущие быть употребленными против Германии, не отвлекались от «главной задачи» войны. Отступление от этого правила в данном случае приобретало тем более показательный и важный характер.
Тем не менее вопрос об отправке русского отряда на Босфор был решен в утвердительном смысле лишь к 1 марта /16 февраля. Мучимый неизвестностью, чем кончится обсуждение «еще не решенного» вопроса об отправке к Босфору десанта «численностью не свыше одного корпуса, взятого с Кавказа», о котором его известил телеграммой от 24/11 февраля Кудашев, а может быть, и полученными им сведениями о новых колебаниях Ставки, Сазонов, на которого наседали и Делькассе (телеграмма Извольского от 27/14 февраля и позднее от 2 марта /17 февраля), и Бьюкенен (телеграмма Сазонова Кудашеву от 28/15 февраля), в отчаянии возбудил вопрос, не признает ли великий князь возможным образовать десант «по крайней мере» из ополченских бригад, предназначавшихся для Сербии, причем «обязывался высказать убеждение, что, если это только представляется допустимым для нас с военной точки зрения, необходимо, чтобы при вступлении союзнических войск в Константинополь участвовали и наши войска» (телеграмма заместителю Кудашева Муравьеву от 28/15 февраля)[76]. В ответ он получил успокоительное, хотя и чрезвычайно осторожно формулированное, сообщение из Ставки: «Будет сделано все, что возможно. Решено послать войска с Кавказа» (телеграмма Муравьева от 1 марта /16 февраля), – а вслед за тем и сообщение о том, что «посадка всех войск… в количестве одного корпуса потребует от 15 до 20 дней» (телеграмма Муравьева от того же дня). Только после этого он известил Извольского для передачи Делькассе о том, что «вопрос о составе морских и сухопутных сил, намеченных к участию в совместных действиях против Босфора и Константинополя, разрабатывается в подлежащих министерствах» и что великий князь «повелел подготовить десант из числа войск, находящихся на Кавказе», обещая дать дополнительно «дальнейшие подробности» (телеграмма от 3 марта /18 февраля)[77].
Намеренная лаконичность и туманность этой телеграммы, позволявшей предполагать, что помимо уже подготовляемого десанта из кавказских войск имеются и еще какие-то более широкие возможности участия русских военных сил в «английском предприятии», являлась отнюдь не случайной. Она соответствовала новой попытке Англии вовлечь в дело Грецию и усилить при помощи этой вассальной державы позицию Англии на Проливах.
8. Новое обращение Англии к Греции. – Второй протест Сазонова
В результате двух заседаний Военного совета 24/11 и 26/13 февраля Китченер признал, что, «если флот не сможет прорваться через Проливы без помощи армии», придется пересмотреть весь план операции, так как «результаты поражения будут на Востоке весьма серьезны», а потому «не может быть речи об отступлении».