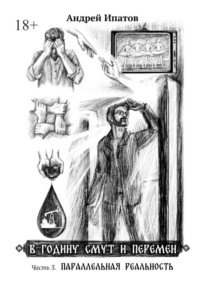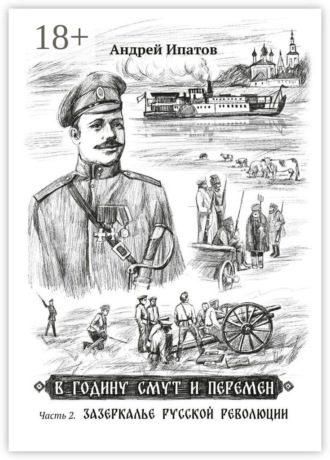
Полная версия
В годину смут и перемен. Часть 2. Зазеркалье русской революции
Путники решили потянуть удачу за хвост и сразу же, не откладывая на потом, показаться где надо с рекомендацией Верещагина к Милютину. Причем мысль пришла идти непосредственно к нему домой с утра, потому как в присутственном месте и без них было бы невесть сколько просителей, да и там все больше люди благородные, не им чета. Другое дело – передать письмо в ситуации, когда барин будет помягче в своей домашней обстановке, среди семьи, с детьми да с внуками. В том, что сразу их не погонят в шею, Василий не сомневался, ведь у них был припасен золотой ключик…
Николай Васильевич Верещагин считай что ровня самому голове, потому ему он никак не сможет отказать в малой просьбе. Ну, хотя бы письмо-то прочтет, а уж там как боженька дальше распорядится (к слову, в Бога Василий верил только на людях, а так сам по себе в этой вере, особо по ритуальной части, был непоследователен и явно пренебрежителен; домашние это видели и тоже не сильно старались, правда, часто крестились и божились – да и только…)
Ваньке бы сейчас в самый раз к какому делу в жизни приткнуться, иначе годы, благодатные для обучения, пролетят быстро, а потом и локти кусать уже поздно станет. В селе их, хоть оно всего в десяти верстах от города, все беспросветно, с голоду, конечно, не помрешь, но и в люди не выбьешься. Да и с нажитыми ремеслами трудновато теперь стало – почитай, таких умельцев сапожного дела в волости сейчас каждый пятый, и все хотят заработок сыскать, кусок хлеба друг у друга перехватывают на лету. Вот если бы дело какое редкое да прибыльное знать, ну или как сейчас может выпасть Ваньке в приказчики попасть. Он хваткий, справится, да выслужится справно на том!
В итоге в тот день отец Ивана с Федором за ночь выкушали полный штоф водки. Хозяин был человек молчаливый, неконфликтный – лучшего слушателя для Василия было и не сыскать! Уж как он ему пытался объяснить, какой это Николай Васильевич Верещагин великий человечище, да что он там в молочном деле самолично открыл и изобрел, – тот только на эти речи осоловелыми преданными глазками пялился да повядшей своей головушкой покачивал в такт за распалившимся «дирижером». Иван сначала сидел при них трезвым дураком, потом от греха подальше забрал у отца письмо (которое тот уже множество раз доставал для Федора в подтверждение своих рассказов и в итоге готов был потерять или испортить), после чего удалился спать в отведенное им место. Снилось что-то очень хорошее, доброе, светлое. Да вот беда, проснувшись, ничего не смог из того сна вспомнить.
Просыпался Иван всегда по-крестьянски ранешенько, еще до петухов. Здесь особо можно было бы и не спешить, не дома же, не на хозяйстве. Ну, встал, сходил до ветру, умылся колодезной водой, почистил зубы смоченным пальцем с сажей, привел в порядок свое дорожное одеяние, надраил ваксой самолично им сшитые сапоги.
Все равно рановато еще идти к Милютиным, хорошо, что день хоть и пасмурный, но без дождика. Парень еще вчера понял, что пойдет туда в любом случае один, отец явно не протрезвеет, а еще целый день сидеть тут было невмоготу. Продумал, как подойдет сам к знакомой усадьбе, зайдет через калитку и будет стучать в дверь, как это делают все посыльные. Допустим, дверь откроет кто-то из прислуги – он им четко так скажет: «Письмо личное для господина Ивана Андреевича Милютина от помещика Николая Васильевича Верещагина, с обратным поручением!» Последние слова очень важны, а то иначе еще невесть когда голове то письмо передадут. Далее надо остаться и ждать терпеливо. В дом, конечно, его никто не пустит, а так на крыльце почему не постоять… Ну а уж потом-то как оно там еще срастется. Лишь бы барин дома оказался, иначе, если он вдруг в отъезде, все неопределенно с его будущим станет. Ждать никакой мочи нет…
Все так почти и вышло, как он спланировал. Разве что руки ходуном от дрожи ходили, когда письмецо служанке передавал, да твердого голоса сказать не вышло, пришлось два раза повторить свои мямли, пока его наконец поняли. На удивление, внутрь дома его как раз пригласили. Служанка, не только лицо, но и возраст которой он вообще не разглядел, так как смотрел больше в пол, оставила ждать в прихожей, а сама застучала каблучками по дубовой лестнице с ограждениями из пропильной резьбы наверх, на второй этаж.
Пока парень стоял в томительном ожидании, он успел хорошо рассмотреть парадную лестницу, опиравшуюся почему-то на деревянную арку из двух колонн со сводом. Назначение этой подпорки было непонятно – явно лестница была устроена так, что могла бы прочно держаться и без этой детали. Возможно, для красоты? Или, например, для фотографирования? Но какая тут красота, если она совсем не нужна для прочности!
Далее на стене висела замечательная картина с изображением головы вороной лошади с уздечкой – как живая, даже со слезинкой в глазу. Иван страсть любил художества – особо если они были рисованы художником так натурально, что ему самому бы ни в жизнь не отобразить, даже если бы его и научили этому мастерству. Все люди, которые могли что-то сделать заведомо лучше или сказать образованнее и умнее его, были для пацана непререкаемыми авторитетами и предметами внутреннего восхищения и подражания.
Как-то года два назад зимой довелось ему еще в сопливом возрасте быть с дедом своим Иваном по сапожному промыслу в городе Белозерске. Там судьба столкнула на ярмарке с пацаном из их же волости, с деревни Погорелки Чудского прихода. Через Погорелку ту, что в двадцати верстах от родных Селец, они как раз и ездили на санях с товаром на Белое озеро. Потому встретившийся там паренек, нескладный да угреватый, Осипом названный, коему годика на два поменьше его самого было, сразу стал Ивану в отдаленном крае не чужд – земеля же! Разговорились, что да как, стали показывать друг дружке, какой товар привезли их старшие на продажу. Мальчишка тогда и похвастал отцовскими изделиями. Боже ты мой! Каково же было чудо у них сделано из обычной коровьей юфти! Как все ладно, да добротно, да красиво даже в мелочах. И швы-невидимки, и сама выделка кожи, блестючая как зеркало, и точеные ровные каблучки, а линия голенища! Это когда Иван те сапоги примерял – они же бесподобны были в своем изяществе на ноге! Такие сапоги было впору детям царским или хотя бы княжеским носить, а не на грязной толкучке показывать, чтобы пьянь их всякая потом купила да непотребно носила. Вот тогда Иван и понял определенно, что не подняться ему никогда до вершин такого мастерства. Нету от природы нужного таланта и видения. Для таких чумовых, как он сам, сладит добротные сапоги, а уже для благородного сословия – ни в жизнь, лучше и не браться…
Потом хлопец чудиновский (собственно, так и выяснилось, что его никто иначе как Чудей и не звал) с отцом своим Степаном познакомил, мастером тех замечательных товаров. Вроде и тот мужик с виду дохляк дохляком, волосья на голове ежиком, бороденка неладная, ростом недомерок. Но как разговаривать с ним начали – до чего же умный и начитанный во всех темах человек оказался. Как приятно было беседовать с ним. Как вообще такой знатный мастер да умница смог в нищем болотном крае сподобиться взрасти?! Самородок! Потому теперь, как только мимо их деревни с дедом и братом едут, обязательно на правах знакомцев к ним на двор заглянуть треба, повидаться да разговорами с тем Степаном и с сынками его потешиться. Дядя Степан еще, оказалось, ведал по решению схода при земской школе в Чуди библиотечкой. Поп да учитель их местный в том деле поддержали исключительно его кандидатуру – потому, видимо, Степан книжек разных немало и сам начитался, а еще по секрету сказал как-то, что свою пробует рукопись писать про жизнь крестьянскую.
По лестнице наполовину вниз сбежала прежняя служивая девица в белом франтовом фартуке и, перегнувшись через перила, негромко прошипела: «Его превосходительство спрашивает, не вы ли тот молодой господин, про которого в письме ему писано?» Ивана опять прошиб холодный пот: слово «господин» в свой адрес он уже никак не мог переварить… Тем не менее у него получилось в ответ утвердительно кивнуть и пробурчать что-то типа: «Оно того самого…» Служанка опять взбежала наверх, но через минуту уже совсем спустилась и попросила Ивана снять картуз, сюртучок и вытереть сапоги: «Прошу вас пройти через дверь в мужскую гостиную и подождать немного, его превосходительство скоро к вам спустится из своих покоев».
Юноша перешел в небольшой зал и застыл в стеснительном, но полном восторге. На одной из стен была вывешена карта железных дорог европейской России, на другой красовалась схема Мариинской водной системы. Такие планы парень готов был рассматривать и изучать часами. Прочие атрибуты приемной градоначальника его мало заинтересовали. А здесь были и картины, и макет колесного парохода «Смелый», курсировавшего с 1860 года по реке Шексне от Рыбинска до Чайки (Белозерска), красочно украшенные гербы городов, изысканные фарфоровые наборы, наконец, фотографии, на которых хозяин запечатлен с венценосными гостями, как, например, с Великим Князем Владимиром Александровичем, до того трижды (1884, 1892, 1896 гг.) посетившего данный гостеприимный дом. Тут был даже оригинальный немецкий графин «Домашний доктор» в комплекте со стопками, на которых с сарказмом изображались лица людей, отведавших крепкого напитка в разных пропорциях…
Однако Иван сразу уткнулся в географические схемы, отыскивая на них знакомые названия мест, особо заинтересовали скрупулезно отмеченные и подписанные каллиграфической вязью шлюзы, гряды, мели и пороги на Шексне. О некоторых ранее приходилось слышать от отца: Ошуриха, Моностырский Язъ, Филин… А вот и месторасположение той самой Пертовки, до которой они давеча ездили к Верещагиным, а вот и само Белое озеро, недалече Кириллов…
– Что, молодой человек, любите путешествовать? Вижу, карты читать разумеете, раз так прилипли к ним. – Иван и не заметил, как в комнату вошли два благородно одетых господина. Один, строгого вида, сильно пожилой, с четко выраженной лысиной и окладистой бородой, – явно сам градоначальник Иван Андреевич Милютин, второй же – несколько моложе, на вид лет пятьдесят, приятной наружности и внешне чем-то похожий на хозяина.
– Здравствуйте, Ваше превосходительство! – наконец-то не растерялся поприветствовать испуганный гость. – Пока все мои путешествия были недалече города Белозерска, но мечтаю, конечно, повидать все, что здесь показано.
– Вот как! Все в твоих руках! Мой давешний друг и соратник Николай Васильевич уж больно за тебя хлопочет. Пишет, что ко многим профессиям ты уже приучен: и сапожник, и молочник, и кузнец. Да и грамоте справно обучен. А главное, отметил он, что головаст ты не по годам, да и воспитан крестьянской жизнью правильно, без вольнодумства всякого да без лени. Годков-то тебе, я так понимаю, немного, только тринадцать минуло? Молодец, что к учениям и к ремеслам разным горишь, может, толк из тебя и получится со временем. Теперь, знаешь, для человека не знатность главное да не богатства родительские, а лишь то, что он сам из себя на деле представляет да как жизнь свою на то употребит. Мы вот с братом моим младшим такими же по возрасту, как и ты сейчас, дело свое начинали, оставшись без отца, да потом и без матери. Я только год один и смог поучиться наукам, а дальше все сам: и учился, и дела свои купеческие строил. Ну, да знаешь, небось, о чем я толкую, – тут и пароходство, и банки, и чего только нету. Кроме того, еще без малого полста годков как за город наш Череповец в полном ответе. Не хочется, знаешь, чтобы дурак какой напыщенный нам, патриотам российским и людям дела, мешал тут, если вдруг в кресло мое ненароком сядет. За все про все я теперь в округе Череповецком в ответе, если что: холера там, голодуха неурожайная или буза какая-нибудь революционная – так с меня же и спросят. Даже если не царь с министрами, так Господь Бог про то спросит, когда к нему приду главный экзамен держать, а ждать-то, видимо, уж недолго осталось, куда ни кинь, а семьдесят седьмой годок мне идет. Ну да не о том я что-то теперь. Тут про батеньку твоего еще писано… Ты же один пришел, значит, он тебе как взрослому доверяет, без няньки, сам обошелся – хвалю! Посоветовался я вот с сыном и компаньоном своим Василием. – Милютин наконец вспомнил про того и жестом представил его Ивану. – Что с тобой делать? Приди ты ко мне год назад – лучше, чем учиться тебе в моем техническом Александровском училище, не придумалось бы даже. Там ты с твоими способностями всем судоремонтным специальностям выучишься, а может, даже и на механика пароходного, что сейчас крайне востребовано. Про то, что есть насущная проблема с деньгами, знаю, не беда, я бы тебе и жилье при училище организовал, да и стипендию положил бы. Только вот сейчас там, понимаешь, для тебя не самое лучшее время – много стало политического беспокойства от некоторых наших нерадивых учителей, да и от самих одурманенных глупыми лозунгами учащихся. Был у меня в прошлом такой облом великий – учили парнишку, а он возьми и в смертоубийство нашего батюшки царя Александра Николаевича вовлекись. Так, не поверишь, каждый свой день теперь начинаю с молитвы во искупление того греха нашего, что до такого мы допустили…
Иван в этот момент увидел даже, как у градоначальника в глазах заблестели искорки слезинок, а голос его перешел на тех словах на низкую ноту хрипотцы.
– Поэтому годик лучше тебе с училищем повременить, пока ситуация успокоится. А она успокоится… Война, знаешь ли, бедовая с япошками нас с пути истинного сбила – вот народ российский в смуту и потянуло. Ну да это ненадолго. Государь наш Николай Александрович сейчас всех к порядку призовет, гайки закрутит, во фрунт поставит. Ну а смутьянов мы тут всех как раз и выявим, да и чтобы на каторгу их, дабы пользу там приносили, а не как раньше – за государственные провинности ссылали их в собственные имения да в заграницу отпускали, чтобы они на том еще большему разврату и террору научились. Глупость какая! Я сам, хочешь знать, неимоверно много сил положил для устройства образования в Череповце, а теперь вижу, как день ото дня зреет здесь рассадник смуты и вольнодумства. Учителя некоторые неблагодарные да залетные агитаторы-жиды смущают на собраниях учеников наших, забивают им головы революционными глупостями, мало им было французской революции с ее гильотинами. Тебе так скажу: держись, милок, за веру русскую православную да за царя-батюшку – это наша навеки столбовая опора, вокруг которой, сплотившись рука об руку, что хочешь построить для блага народа можно. А если дать тот столб расшатать да обрушить, то и люди в крыс сподобятся.
Иван продолжал молчаливо слушать, понимая, что Иван Андреевич рано или поздно дойдет и до его собственного дела. Ему уже много раз приходилось слышать в поездках на переправах да в трактирах споры на тему «Как правильнее обустроить жизнь в России». Против нынешнего самодержавного строя с попами и господами у него никаких возражений не было и в помине, но сильный патриотический угар заступников этого строя парня всегда коробил. Он подозревал, что такие рьяно защищающие царя с безмерной верой в него люди просто плохо знают жизнь простых людей, и особенно таких, как он, – из крестьянского сословия, а еще пуще с бедноты. А счастье человеческое надо же строить для всех, а не только для благородных…
Разумеется, сейчас у Вани хватало ума не перечить градоначальнику, да и вообще его ли это дело – что-то говорить таким великим людям, особенно когда они тебя и не спрашивают… Наконец Милютин дошел до долгожданной сути – до дальнейшей судьбы подростка.
– Так вот наше с Василием тебе пока такое будет предложение – на днях поедешь с сыном моим в Тотьму, а далее будете вместе через Великий Устюг и Котлас экспедицию по Сухоне и Северной Двине править для расширения нашего пароходного дела аж до самого Архангельска. Думаю, что как раз в годик-другой Василий там все справно сладит, чтобы не только по Мариинской системе на запад и на юг, но и на восток с севером наши товары беспрепятственно шли и конкуренты разные нам помех там не чинили. Твоя роль пока будет ученическая – у сына моего поработаешь в подмастерьях, значит, в качестве денщика и вестового, а там, глядишь, опыта поднаберешься в наших делах негоциантских и, как это в армии называется, станешь адъютантом, пароходным токо… Знаю, Василий тебя не обидит – через год, максимум два вернешься для доучивания в училище в Череповец, и с опытом, и с деньгами будешь. Я, как обещал, поспособствую. Ну, что думаешь? Годится тебе такая практика? Даю срока десять дён, чтобы с родителями проститься, да вот возьми червонец авансовых денег на подъем (в руках головы откуда-то появились два бумажных кредитных пятирублевых билета образца 1898 года с надменной царицей, восседающей на троне) – приоденься в городе получше. Все-таки по твоему внешнему виду люди будут думать и обо мне. А иначе скажут: «Что это у Ивана Андреевича Милютина за оборванцы по срочным поручениям работают?» Да, вот еще что – до Вологды наверняка вы поедете на поезде. Знаю, что вещь тебе пока диковинная, дорогу только-только как мы запустили с первого октября, – потому не загордись, что среди первых пассажиров ее будешь. Ну а мне эта дорога железная как бальзам теперь на душу – не зря я за нее бился столько лет головой об стену, теперь город наш заживет, забогатеет на торговом пути из Петербурга в Урал да в Сибирь.
Иван, готовый закричать от радости за такое невероятное предложение, начал горячо благодарить благодетелей, представляя уже, как прямо сейчас возвернется к отцу и как тот будет рад за него безмерно. А потом они поедут наконец к мамке домой в их Сельцы, и как там все его односельчане, прознав эту нежданную весть, начнут приходить к ним, чтобы выразить свои поздравления и почтение и, может, даже начнут обращаться к Ваньке уважительно по имени-отчеству: «Иван Васильевич»! Ах, хитер же был папаня, взяв его к Верещагину, рассчитывал небось, что тот выпишет рекомендацию для сына-подростка. Но такую, чтобы вдруг к самому городскому голове Милютину! – даже, конечно, он вообразить не мог. Это как раз – и нашел тысячу рублей золотом!
Манифест 17 октября 1905 года – в итоге: спустили или поддали пару?
Иван, слушая слова господина Милютина про бузу и смуту, и подумать тогда не мог, что через несколько дней в Череповце это все придется увидеть воочию. И плеснет керосина на эти тлеющие угольки народного недовольства и усталости не кто иной, как сам Император Всероссийский…
Собственно, и сам голова Иван Андреевич спич свой говорил тогда с большой внутренней надеждой, что до кризисных явлений в его тихом уездном городке революция никогда не дозреет. Однако же дозрела, занялась от просочившейся в город вести о подписании Николаем Вторым судьбоносного манифеста об «усовершенствовании государственного порядка», в котором провозглашались гражданские свободы, расширялись избирательные права и давались законодательные права Государственной думе. Новый председатель Совета министров граф С. Ю. Витте позже признавал, что «манифест всех ошеломил. Такого крупного шага в стране не ожидали, все почувствовали, что произошел вдруг „перелом“, причем не только духа, а и самой плоти…» Российское прогрессивное общество добивалось чего-то подобного начиная еще со времен декабристов. Однако многие либерально настроенные люди видели в дарованных свободах только начало, а не финал преобразований. Потеряв веру в самодержавие, они ждали теперь не просто смену режима государственной власти, но и падение высших носителей прежней власти, включая самодержца.
Сам факт обещания и провозглашения свобод не только в столицах, но и на периферии всколыхнул общество, инициировав столкновения народных масс с полицией: «неделя после манифеста 17 октября останется одним из самых сложных и поучительных моментов русской истории».
__________________________________________Документально известно, что 18 октября в 4 часа дня Череповецким городским головой Милютиным была получена соответствующая телеграмма из Петербурга, а в 7 часов вечера было назначено экстренное собрание в городской управе, куда были приглашены все гласные. Однако вместе с ними пришло множество и посторонней публики, включая мещанина Илью Чумакова с большой группой воспитанников от разных учебных заведений города. После публичного зачитывания телеграммы городским головой Милютиным И. А. было предложено отслужить благодарственный молебен с многолетием государю. Несмотря на всеобщее одобрение этого решения, господином Чумаковым были прилюдно заявлены оскорбительные выражения по отношению к императору. Пришедшая с ним молодежь его поддержала, требуя молебна о здравии «тех товарищей, кто пострадал в борьбе против самодержавия».
К этому времени у здания управы начали массово собираться воспитанники Череповецкого реального училища, Александровского технического и других учебных заведений. Большая шумящая толпа всегда притягивает и случайных прохожих-зевак, одним из которых в тот день случайно оказался досрочно приехавший в город за покупками Иван Ропаков.
Пробыв после возвращения от Милютиных в кругу семьи не более трех дней, насытившись в своей деревне славой успешного и уважаемого человека, он с нетерпением начал ждать и всячески ускорять новую поездку в город. Сельская жизнь, такая любимая ранее, уже претила ему. Друзья, родители, сестры и брат уже не держали его своими ослабевшими узами. Парень теперь в глубоком эмоциональном возбуждении грезил новыми горизонтами, мечтал о дальних поездках, о городской жизни и ее заманчивых возможностях. Уговорив родителей на время отпустить его для обновления гардероба, на который ему была ссужена работодателем немалая сумма (половину он, правда, тут же отдал в семейный общак), Иван на рассвете 18 октября 1905 года пешком ушел навстречу новой жизни в город, на постой в квартиру все к тому же Федору.
К моменту выхода из управы Чумакова с группой поддержки на площади уже скопилось не менее двух сотен сочувствующих, у многих из них были в руках яркие красные флаги. Чумаков, обрадовавшись такой широкой поддержке масс, возглавил толпу, которая с дружным пением революционных песен двинулась в сторону городской тюрьмы. В этой толпе Ивана притерло к одной боевой девчонке лет двенадцати, которая шла рука об руку со взрослым парнем, размахивавшим красным флагом. Люди пели явно провокационные для власти песни, но Ваня их раньше в деревне не слышал и потому не знал. Девочка повернулась в его сторону: «Ты чего не поешь?» Иван в ответ пожал плечами. «Деревня?! – засмеялась девчушка. – Как тебя звать? Ванькой? Будешь тезкой нашему бате. Я Наталка, а это мой старший брат Дмитрий из технического училища! Айда с нами выручать нашего тятю из тюрьмы! Он как раз политический! Свободу политическим заключенным! Ура! Долой!»
У здания тюрьмы пришедшие демонстранты пробыли недолго. Некоторые арестанты, услышав крики и песни, порвали на себе кумачовые рубахи и в виде флагов выставили их из окон. Невероятно, но про манифест, телеграмму о котором Милютин самолично зачитал всего час назад, в тюрьме уже все знали! На улицу спускалась ночь, поэтому первому же исправнику удалось достаточно легко в этот день уговорить людей разойтись по домам.
Иван теперь как веревочка ходил за своими новыми знакомцами, тем более мимоходом выяснилось, что у них такая же, как и у него самого, редкая фамилия – Ропаковы. Почти что родственники. А может, даже и дальние? Семья эта раньше проживала в Белозерске (вроде, согласно семейным легендам, и предок Ивана некто Ропак тоже пришел в старые времена на Череповетчину с того самого Белого озера).
Случилось так, что в 1902 году скоропостижно умерла их мать, и это подтолкнуло отца Натальи и Дмитрия выправить на семью паспортную книжку, дабы переехать жить в новое, более индустриальное место. Как раз в Череповце и окрестностях тогда началась большая стройка железной дороги из Петербурга до Вологды. Отец семейства был хорошим мастеровым по плотницкому делу, его туда сразу же взяли десятником. Работал он на строительстве дороги потом и каменщиком – строил здание вокзала, а затем и железнодорожное депо. Среди рабочих слыл активным борцом за их и больше даже за свои права. Кто-то месяц назад донес жандармам на «рабочего-социалиста», вот его без особых обвинений и засадили за решетку «до выяснения»… Ни в каких партиях отец знакомых ребят никогда не состоял и даже всегда чурался их агитаторов – просто по своей натуре не мог мириться с постоянными обманами, незаконными штрафами и другими явными несправедливостями приказчиков и учетчиков.
Дети отца своего не просто любили, а обожали, он для них после смерти матери стал непререкаемым авторитетом и лучшим другом. Заработки родителя в 25—30 рублей в месяц тем не менее позволяли жить в Череповце достаточно сносно – дети учились, причем смышленый Дмитрий смог попасть в престижное Александровское техническое училище (в которое как раз И. А. Милютин и обещал со временем устроить Ивана). Когда же отца неожиданно посадили, сын и дочь сами превратились в ярых противников самодержавия, у них на съемной городской квартире постоянно зависали юные революционеры, здесь они изготовляли флаги, писали от руки прокламации, пели песни и пересказывали друг другу разные революционные теории. Вот и сейчас, вместо того чтобы идти на ночлег к своему дальнему родственнику, проводивший было новых знакомцев до их дома Иван в результате завис в гостях и ночевал там же у них (пустующая кровать отца как раз была в его полном распоряжении).