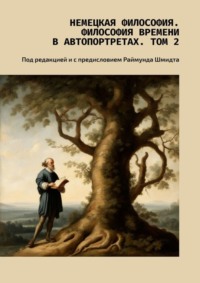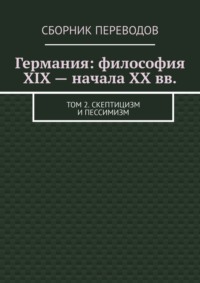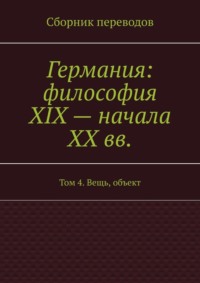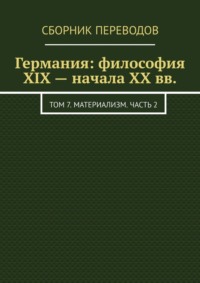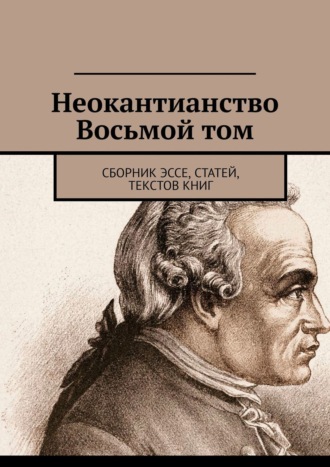
Полная версия
Неокантианство Восьмой том. Сборник эссе, статей, текстов книг
«Мы думаем, где то там, где то тут,
Мы внутри».
Действительно, Гете, архетип «объективного мышления», сказал абсолютно решающее слово перед лицом всех догматических уплощений и угасаний, в том, что он сам мыслит нас «место за местом», но «внутри». Пусть «ворота», человек как бессмысленный и отпавший субъект, ищет бытие вне себя. В той мере, в какой человек познает, участвует в познании, он знает и то, что это «вечно порождает его». Но, конечно, это «вечное» надо признать, если не хочешь низвести даже самого энергичного поборника «объективного мышления» до субъективиста.
«Ничто не находится внутри, ничто не находится снаружи,
Ибо что внутри, то и снаружи».
То, что это «что внутри, то и снаружи» – не неопределенное «колебание» (как будто он не знает, что говорит), а четко и однозначно достигнутая позиция, теперь должно быть, наконец, понято. Тогда станет понятно и то, что прозрение Канта, согласно которому условия, составляющие объекты, сами не могут снова стать объектами, должно восприниматься еще более серьезно и последовательно, чем это делал сам Кант в отношении этого своего фундаментального прозрения. Одна из решающих заслуг Фихте состоит в том, что он не только надолго закрепил это понимание, но и помог ему найти адекватное языковое выражение, решившись назвать воплощение условий предметности «Я», именно для того, чтобы четко отличить его как воплощение условий предметности от предметов как таковых. Поначалу это могло ввести в заблуждение, поскольку можно было предположить отождествление «Я» с индивидом, субъектом как существующей вещью. Но насколько в действительности Фихте был далек от такого уравнения, сегодня, наверное, знает каждый, для кого дух Фихте не является недоступным. Тот, кто сегодня, например, был бы еще достаточно глуп, чтобы видеть в Фихте субъективиста или даже солипсиста, самого ярого противника как догматических спекуляций натурфилософии Шеллинга, так и всякого субъективизма, всякого теоретического и практического эгоизма, не мог бы претендовать на то, чтобы наука позволяла себе определяться вниманием к нему и симпатией к нему, чтобы позволить этому фундаментальному прозрению увянуть даже в выражении.
Поскольку трансцендентальные условия объектов и объекты как таковые не являются двумя мирами, находящимися рядом или позади друг друга, поскольку ни один объект не является объектом, не будучи законно конституированным трансцендентальными условиями, и ни одно трансцендентальное условие не является трансцендентальным условием, не будучи конституированным объектом, Mессер должен иметь возможность сослаться на мои предыдущие замечания по поводу того, что он говорит об общей закономерной обусловленности реальности, в том числе с учетом истории. Но это, конечно, ни в коей мере не отменяет методологического различия между естествознанием и исторической наукой, провозглашенного Виндельбандом. Напротив, оно получает новую аргументацию. Однако следует обратить внимание и на различие между сближением отношений частностей к всеобщей закономерности и расхождением частностей между собой,92 так же как нельзя упускать из виду различительную функцию ценностного отношения в истории.
Во всяком случае, только трансцендентная обусловленность всей действительности позволяет понять, что каждый человек, даже просто чтобы быть человеком, должен всегда предполагать:
«Не имея над собой идеала, – метко выразился однажды Алоиз Риль, – человек не может идти прямо в духовном смысле этого слова». Это сверхчеловеческое, образцовое качество и есть мир духовных ценностей; – даже самый великий человек все равно имеет этот мир над собой, так же как и носит его в себе. Однако эти ценности, которые направляют действия человека и вдохновляют его, не изобретаются и не формируются заново путем переоценки; они открываются и, подобно звездам на небе, постепенно входят в поле зрения человека с развитием культуры. Это не старые ценности, не новые ценности, это ценности».93
Объективная действительность этих ценностей, которые не являются ни «старыми», ни «новыми», поскольку они вневременно вечны, должна существовать и предполагаться как независимая от субъекта, если субъект хочет своими действиями и установками утвердить для себя какой-либо смысл во времени, если он хочет своими действиями и установками в жизни придать ценность реальности и своей жизни. Но это также предполагает, что реальность может быть сформирована ценностным образом, что она такова, что в ней могут быть представлены ценности. Однако если бы реальность представляла собой жесткий, неразумный абсолют, «самость», абсолютно не поддающуюся разуму, то это условие было бы невозможно выполнить во всех отношениях. Оно может быть выполнено только через трансцендентально-разумно-законную обусловленность реальности. Однако это означает также, что вечный «мир ценностей» не является миром загробным и что через него реальность вновь удваивается. Ценности – это сверхреальность, идеалы, «вечные задачи», которые могут быть реализованы, представлены и исполнены только в единой реальности. Как с непревзойденной ясностью признавал Фихте, «вечность не осеняет человечество только за могилой, но приходит к нему в середине его настоящего». А для того, чтобы вечность вошла во время, чтобы ценности были реализованы, сама реальность непременно требуется разумом.
Таким образом, соотношение между трансцендентальным идеализмом и реализмом определяется четко и резко. Если реализм признает реальность рационально необходимой для познания и жизни, то он сам является рациональным и критическим. Как таковой, он сохраняется в рамках критицизма в идеализме, «отменяется» в хорошем смысле слова, по выражению Гегеля, в трансцендентальном идеализме. Если реализм не рассматривает реальность как определяемую необходимостью разума, а приписывает ей абсолютное существование в сфере, выходящей за пределы всякой необходимости разума, и при этом хочет предъявить претензии к разуму за такой подход и такое указание, т.е. закрепить место предполагаемой абсолютности и неразумности, т.е. абсолютной неразумности, в сфере закона разума, то он сам не знает, чего хочет. Сам он не является ни разумным, ни критичным. Реальность для него якобы стоит за пределами разума, и все же он хотел бы иметь возможность сказать хотя бы это с позиции разума. Поэтому разумная дискуссия невозможна с его неразумием, которое лишь мечтает о реальности. Подобно тому, как в рамках критики трансцендентальный идеализм вбирает в себя и сохраняет разумный реализм, т.е. реализм, мыслящий истинную реальность, он оставляет на произвол судьбы этот неразумный реализм как реализм без истинной реальности:
«В ничто с тобой, – - – - —
В небытие, в небытие!».
* * *
ЛИТЕРАТУРА – Bruno Bauch, Idealismus und Realismus in der Sphare des philosophischen Kritizismus, Kant-Studien, vol. 20, Berlin 1915.
АРНОЛЬД РУГЕ
(1881—1945)
Понятие и проблема личности
[в связи с кантовской доктриной морали]
Для того чтобы уловить и постичь проблему, волнующую философскую мысль во всех ее формах и во всех ее проявлениях, необходимо либо исторически искать в многообразии имен и трактовок то общее, что лежит в основе этих различий, либо, отталкиваясь от общей трактовки, понимать отдельные формы, исходя из этой точки отсчета. Последний подход, безусловно, проще и обещает лучший результат, чем первый, поскольку после определения понятия и узкого очерчивания проблемы в распоряжении оказывается принцип, в соответствии с которым можно отбросить все, что лишь внешне связано со смыслом. Однако преимущество последнего подхода состоит еще и в том, что он вкратце приводит к чему-то систематическому и в то же время дает ясное представление об историческом развитии проблемы. Итак, на данном этапе необходимо установить общие характеристики понятия личности, чтобы показать, как это понятие приобретает особый смысл в системе, а именно в системе морали Канта. Проблема личности, вопрос о значении и, соответственно, праве личности в целом – это вопрос, который возникает сегодня во всех областях культуры и на который часто отвечают с излишне громкой интонацией. Слово «личность» – сложное слово, которое не следует унижать, прикрывая необдуманные рассуждения сентиментальностью. По своему значению оно относится к самым чистым формам человеческой воли и человеческих способностей. —
В своей теории познания Кант допускал, что мир знания, мир общезначимого опыта, возникает в синтетических формах мышления, в категориях сознания вообще, через которые многообразие ощущений получает действительную характеристику для всех разумных и понимающих существ. На этом фундаменте знания Кант провел вокруг мира опыта узкую границу, которую можно проследить в основных ее пунктах: за этой границей, за всем возможным опытом, лежит безбрежный океан метафизики, сфера пустых понятий, а под всем опытом – столь же безбрежный простор иррационального, мир ощущений, мир неопределенного и неопределимого. Это мир вещи-в-себе, к границам которого вели трансцендентальная аналитика и трансцендентальная диалектика «Критики чистого разума», и это мир вещи-в-себе, от которого отрывается трансцендентальная эстетика, чтобы перейти к трансцендентальной логике. Только то, что специальный интерес разума извлекает из мира ощущений, становится содержанием для форм, законов опыта. Кант формирует мир возможных общих воль и мир возможных общих эстетических суждений точно по аналогии с этими результатами и методологическими путями своей эпистемологии. Во всех трех «Критиках» доказательство независимости действительных законов от контингентности эмпирического, учение о вневременной законосообразности во временности разумного бытия.
Из этой абстракции могут быть поняты и рассмотрены все многочисленные научные теории; особенности их интересов с последующим своеобразием их методов бесконечным числом способов конкретизируют чисто формальное понятие науки. Исследование причин такой конкретизации и характера претензий на достоверность получаемых в результате результатов отодвигает метафизические спекуляции далеко на задний план и заставляет нас примириться с опытом и противоречием эмпирического. Интерес к эмпирическому, с одной стороны, и к окончательно обоснованным законам – с другой, выходит даже за пределы формирования эмпирического в науке; он распространяется на другие документальные свидетельства формативных суждений, на феномены культуры. В области науки множественность претендующих на обоснованность суждений, в которых наиболее общие формы мысли соотносятся с конкретным содержанием, здесь спор о методологической корректности в соотнесении содержания с научной формой. С другой стороны, явления культуры, которые существуют в своей устойчивости, действительны и требуют признания, хотя и подчинены изменению времени; здесь вызов умозрительному исследованию причин временности их действительности, с одной стороны, и вневременности их действительности – с другой. В области науки – вечная борьба суждений, стремящихся к абсолютности, а здесь – упорная борьба приходящего и уходящего из того, что стало фиксированным, историческим. Там – документация рациональной формы, вневременная законность иррационального, основанного на мысли, здесь – объективная, временно действующая законность фиксированного. Между этими двумя формами, возможно, развитие или разворачивание как категории истории или самополагание разума, обе формы безошибочны в своем различии. Не берясь за метафизическую идею развития, необходимо лишь указать на различие этих двух форм и их обоснованность, лишь прояснить контраст между основаниями отношения содержания к предельным вневременным мерам блага, которые применяются во всех суждениях и оценках, претендующих на всеобщую обоснованность, противоположность между вневременными действительными объективными формами, которые зафиксированы в законе, в обычае, в социальной форме, в религиозном действии, во всех фактах, посредством которых создается и в целом организуется внешнее обязательство между людьми как разумными существами. Именно противопоставление этих законов и противопоставление формируемых ими реалий важно, если мы хотим понять проблему, возникающую между ними.
Возможно, различие в правомерности форм, составляющих эти две области, имеет свое основание в самом разуме, возможно, только в отношении разума к неразуму – в любом случае этот контраст ощущается только оценивающим существом, которое либо устанавливает ценности, либо только признает их в положительном или отрицательном смысле. Именно путем установления и признания действительных ценностей, законов, которым следует или необходимо подчиняться, рациональное существо приходит к тому, что, по его мнению, оно должно или обязано делать, помимо огромного разнообразия чувственных впечатлений. Проблемы этики и формы возможного продвижения к конечной цели вытекают именно из этого установления и соотнесения действительных законов с эмпирическим разнообразием, поскольку делается попытка соотнести всю полноту содержания жизни с чем-то действительным.
Здесь, в судящем бытии, конфликт предельно обоснованных норм с тем, что стало объективным, с одной стороны, и этих двух законов с собственной эмпирической субъективностью – с другой, является эмпирическим фактом, который, в свою очередь, становится понятным только благодаря эксплицитному включению третьего момента – понятия индивидуальности, точнее, субъективности. Субъективно-индивидуальное – это во всем иррациональное, оно образует в себе мир, закрытый для познания, это антитеза общего и объективного, это то, из чего все ценности впервые получают свой конкретный смысл как нормы, это, если смотреть с точки зрения общего и ставшего объективным, то, что подлежит преодолению. Мы можем распознать и оценить только те действия и достижения, которые возникли из субъективности, а не те субъективные причины и бездны, из которых они возникли. Только из сходства поступков можно вывести субъективные принципы и только из совокупности проявлений жизни можно вывести принципы, которые остались неизменными. Только там, где изменчивое море индивидуальных настроений, чувств и переживаний граничит с фиксированными формами, со сверхиндивидуальным, мы можем попытаться – но только попытаться – получить представление об этом огромном море совпадений. Как далеко простирается карта, которую мы рисуем для этого моря от твердой земли по общим признакам, как далеко вообще можно уйти от себя в другую субъективность – вот большой вопрос во всех попытках свести содержание жизни к формуле. Можно ли говорить о субъективной законности или понятие субъективности не противоречит понятию законности? Можно ли свести в один контекст субъективную, объективную и абсолютную законность? Это кардинальный вопрос для большой проблемы личности.
После этих общих указаний вряд ли стоит прямо говорить о том, что проблема личности отнюдь не является специфически этической. Ее постановка и решение относятся ко всем специальным областям философии. Достаточно обратиться к истории философии и истории церковных догм, чтобы осветить разветвления метафизической проблемы, вопроса о субстанциальном в субъективном. От платоновского учения о душе до формулировки Боэция «persona est naturae rationalis individua substantia» [Личность есть естественная рациональная и неделимая субстанция] – долгая история, в которой вывод от тождества сознания во временном бытии индивида к субстанциальному носителю этого сознания становился основой самых многообразных проблем.
И частью истории актуальной метафизической проблемы является то, что во времена Иулиана Отступника по ней был проведен целый собор, на котором должен был решаться вопрос о природе божественной личности, о соотношении ousia [дух-существо – wp] и hypostasis [по Канту, мысль, которой приписывается качество реального предмета. – wp] должно быть решено. Особенность кантовской философии как раз и состоит в том, что она отменяет этот вывод, всю основу метафизических дискуссий, и представляет его как паралогизм. Дискуссии о паралогизме личности выталкивают проблему на порог теоретической философии и сводят проблему личности к этическому смыслу. Для того чтобы сократить обсуждение многообразных формаций проблемы личности, следует сослаться на очень интересный, но довольно схематичный очерк Адольфа Тренделенбурга в одном из последних томов Kant-Studien;94 в этом очерке Тренделенбург начинает со значения слова persona в римском искусстве и показывает, как понятие «занавешенной маски» постепенно изменялось во всех возможных направлениях и давало этические, метафизические, юридические и психологические интерпретации. В посткантианскую эпоху кантовское разграничение проблем, связанных с понятием «личность», было частично отменено, метафизические и этические определения слились воедино. 95Но даже если не принимать во внимание, что проблема личности имеет множество направлений, следует признать, что пафос, сопровождающий это понятие, – пафос этический. В самом термине заложена сила суждения, через которое мы требуем как бы повышенной меры нравственных и человеческих качеств. «Личность» – слово горького трагизма, когда ее нет, и слово гордости и триумфа, когда на нее можно указать. Самобытная личность в ее противостоянии общим и объективным формам – тема самых благородных жанров поэзии, эпоса и трагедии, а тихая интроспекция личности живет в самых возвышенных формах поэзии. Конфликт этого индивидуального мира с объективным и абсолютным или с другим столь же самодостаточным индивидуальным миром раскрывается во все новых и новых формах, и этот конфликт противоположностей разрешается во все новых и новых формах. Но хотя этика и должна постичь суть этого противостояния, без напоминания о теоретической философии слово «личность» остается лишь выражением для потенции настроений и нематериальных суждений.
Мир познания формируется в формах отношения, которые сами получают свое единство и тем самым свой аналогичный смысл только в тотальности сознания в целом. Действительность конституирующих форм познания носит надличностный характер. Понятие личности предполагает объединение многообразия опыта в тотальность, которая по отношению к индивидуальной полноте жизни отсылает к предельному основанию единства, а также формирование целого из противоположности индивида. Совершенно верно говорит Карл Кёниг,96
«что мы всерьез говорим о личности только там, где ощущаем в человеке такой жизненный центр, где чувствуем, что перед нами человек, который не позволяет каждому опыту сбить себя с пути своего развития, где мы скорее осознаем, что действует объединяющая сила, что она делает человека самоуправляемым изнутри».
Таким образом, понятие личности содержит в себе понятие конституирующего синтеза. Если мы видим сущность личности – помимо ее ценности – в возможности согласования всех переживаний с конечным принципом единства, к которому эти переживания относятся, то мы противопоставляем обилие конституирующих принципов для создания мира общего знания или мира объективно действующих законов системе индивидуальных категорий для формирования индивидуального мира. Таким образом, вопрос о природе личности снимается в фундаментальной точке – это вопрос о возможности интерпретации субъективности в соответствии с общим постулатом единства.
Помимо постулата о единстве в формировании комплекса переживаний, возникает второй важный вопрос о природе основания единства или, говоря более четко, о сфере, в которой находится этот полюс единства. При этом мы должны отдавать себе отчет в том, что понятие личности совместимо только с понятием индивида в самом актуальном смысле этого слова, как численной единичности разумных существ, а не с тем смыслом, который мы сегодня вкладываем в этот термин «исторический индивид»; исторический индивид – это только в отдельных случаях реальный индивид как личность, в основном же – объединение индивидов в объективное целое, большинство индивидов, в той мере, в какой они связаны объективными формами. Вопрос о характере основания единства зависит от двух моментов: во-первых, от того, является ли этот момент единства субъективным, объективным или абсолютным, и, во-вторых, от того, сознательно или бессознательно он задается индивидом в качестве формообразующего принципа. На самом деле, если изначально не принимать во внимание решение о ценности личности, то в этих моментах мы увидим огромное богатство возможностей. Ибо все связанные с ними формы могут быть утверждены. Кристаллизация всего содержания жизни вокруг одного субъективного переживания, концентрация всего содержания жизни, способов действия и мышления вокруг все новой и новой витализации одного великого момента настроения может в значительной степени дать полноте переживаемого точку единства и тем самым прочно объединить противоположности, сконцентрировать их в органическое целое. Точно так же объективный момент может четко определить всю область переживаемого: выполнение установленного обычая, исполнение служебных обязанностей, поддержание традиции, создание определенного достижения может быть конечной причиной всех индивидуальных действий. И, в-третьих, как многочисленны великие личности исторического прошлого, которые перед лицом идеи, конечной абсолютной истинности, тратили свою жизнь и, возможно, отдавали свое богатство, чтобы сохранить верность этой конечной цели; их жизнь была мученической смертью во имя ее единства. И далее, что касается вопроса об осознанности или неосознанности этой причины единства, то и с этой стороны для обеих формаций личности можно привести доводы возможности и примеры из действительности. Тех, кто бессознательно проживает свою жизнь в ее временных пределах, чтобы образовать целое, следует рассматривать как эстетические формы, как прекрасные формы природы, которые представляют собой гармонию цветов и форм в соответствии с бессознательной целью; а тех, кто сознательно группирует полноту своего существования вокруг этого принципа оформления, можно распознать только в том случае, если мы можем вывести субъективные принципы их действий из чего-то твердого, из какого-то достижения.
Однако выявляемость сущности личности не заложена в самом понятии личности, а является требованием, с которым мы подходим к ней извне; многие великие личности, возможно, погибли, не обеспечив этого средства для выявления своей сущности, не сумев придать себе объективную ориентацию. Если мы, например, посмотрим немного дальше Канта, на Шиллера, то обнаружим там интересную попытку отделить формы личности от понятия достижения. Для Шиллера мужчина был исполнителем, а женщина – самореализующейся, а значит, безмерно более высокой формой личности. Но только вскользь. Помимо сущности и узнаваемости, необходимо упомянуть и эффект личности: это то, что не поддается описанию, это зависит от субъективной восприимчивости к личному, подобно тому, как эффект музыки зависит от ее восприимчивости. Эффект личности также не имеет представления, эффект тесно связан с ценностью.
О ценности или возможной валоризации личности здесь следует сказать лишь самое принципиальное. Ценность придерживается, с одной стороны, принципа единства, а с другой – той ступени цельности, которая достигается в формировании содержания жизни. Последняя форма суждения может быть названа эстетическим суждением. Суждение об основании единства зависит от точки зрения суждения, которая сама по себе может быть субъективной, объективной или абсолютной. Можно было бы показать самые разнообразные формы обоснованных оценок, можно было бы выделить отдельные области науки, где тот или иной принцип ценности становится существенным, можно было бы обсудить и рассмотреть, в частности, историческую науку, как она вычленяет личности из обилия индивидуальностей, но рамки данного очерка заставляют нас оставить его на этих ссылках. После этих принципиальных набросков, касающихся чистого понятия личности, мы попытаемся найти общее в частностях кантовской версии, причем только в том, что Кант учил о личности в своей «Этике»; то, что он сам проживал как личность, остается лишь на втором плане. —
Для того чтобы прийти к понятию личности в этике Канта, необходимо продумать все исследования «Оснований метафизики нравственности» и «Критики практического разума» вплоть до того момента, когда чисто рациональные рассуждения переходят в переинтерпретацию через моменты реальности. Основание априори в моральном суждении, дедукция чистого практического разума, установление практической и моральной свободы как формы отношения всех действий к умопостигаемому миру завершены, и теперь речь идет о том, чтобы сделать результаты этих исследований плодотворными для реального действия. Понятие разумного и одновременно неразумного существа расширяется до понятия человека как видового существа. Человеческий вид становится видом разумных существ, которому противостоят, с одной стороны, абсолютно рациональное или сакральное, а с другой – неразумное. Человек обладает органами чувств, которые обеспечивают его разнообразными впечатлениями и желаниями, поэтому его называют чувственным существом. Но у человека есть и разум, он – существо рациональное. Разум, однако, – это не просто преимущество перед неразумными существами, позволяющее человеку лучше достигать того, чего неразумные существа достигают с помощью инстинктов. Разум – это не просто средство для чувственности человека, но разум – это нечто актуальное само по себе, это самоцель, это причина всего действительного, это самоцель. Неразумное в человеке – это животное в человеке, или, как говорит Кант, анимализм, а разумное как цель – это то, что собственно человеческое в человеке, или, как говорит Кант, человечность в человеке. Исходя из того, что разумное есть цель, Кант также называет это разумное личным в человеке. В этом обозначении Кант придерживался значения, которое придается слову «личность»: Личность = цель в себе. Таким образом, человек – это чувственность и рациональность, анимальность и человечность, чувственность и личность, или, как часто говорит Кант, чувственность и индивидуальность.