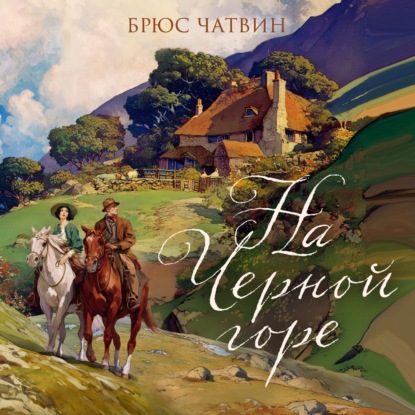Полная версия
Сцены из жизни провинциала: Отрочество. Молодость. Летнее время
Яростные нападки на мать – это одно из проявлений его характера, которые ему приходится тщательно скрывать от внешнего мира. Только они четверо и знают, какие потоки презрительных речей он на нее изливает, как высокомерно обращается с ней. «Если бы твои учителя и друзья знали, как ты разговариваешь с матерью…» – говорит, многозначительно грозя ему пальцем, отец. Он ненавидит отца за способность столь ясно видеть брешь в его доспехах.
Ему хочется, чтобы отец побил его, обратил в нормального мальчика. И в то же время он понимает: если отец посмеет ударить его, ему не будет покоя, пока он не отомстит. Если отец побьет его, он сойдет с ума – превратится в одержимого, в крысу, которую загнали в угол, и она бросается на всех, кто к ней подходит, щелкает ядовитыми клыками, слишком опасная, чтобы с ней связываться.
Дома он – раздраженный деспот, в школе – агнец, кроткий и тихий, сидящий в предпоследнем, самом неприметном ряду столов, старающийся не привлекать к себе внимания и замирающий от страха, когда начинается очередная порка. Однако, ведя двойную жизнь, он взвалил на свои плечи бремя мошенничества. Никому другому ничего подобного нести не приходится, даже брату, который представляет собой, и то еще в лучшем случае, его нервную, бледную имитацию. Вообще говоря, он подозревает, что брат, может быть, даже и нормален. И ему остается полагаться только на себя. Помощи ждать неоткуда. Он сам должен вырваться из детства, из семьи и школы, пробиться к новой жизни, где нужды в притворстве уже не будет.
Детство, уверяет «Детская энциклопедия», – это пора невинных забав, которую следует проводить в лугах, среди лютиков и крольчат, – или у домашнего очага, с увлекательной книжкой в руках. Такой образ детства ему совершенно чужд. Ничто из пережитого им в Вустере – и дома, и в школе – не ведет его к мысли, что детство может быть чем-то, помимо времени зубовного скрежета и терпения.
Поскольку организация бойскаутов-«волчат»[1] в Вустере отсутствует, он получает разрешение вступить в отряд настоящих бойскаутов, даром что лет ему всего только десять. К приему в скауты он готовится с особым усердием. Отправляется с матерью в одежный магазин, чтобы купить форму: плотную оливково-бурую фетровую шляпу и серебряную кокарду, рубашку, шорты и чулки цвета хаки, кожаный ремень с бойскаутской пряжкой, зеленые погончики, зеленые резинки для чулок. Срезает с тополя палку в пять футов длиной, очищает ее от коры и проводит полдня с раскаленной отверткой в руке, выжигая на белой древесине палки всю азбуку Морзе и все сигналы флажкового семафора. На первое свое скаутское собрание он отправляется с палкой, свисающей с его плеча на зеленом шнуре, который он сам свил из трех потоньше. И когда он, салютуя двумя пальцами, принимает присягу, то выглядит наиболее безупречно экипированным из всех скаутов-новичков.
Жизнь бойскаута, обнаруживает он, состоит, как и жизнь школьника, из сдачи экзаменов. За каждый сданный тобой экзамен ты получаешь нашивку, которую пришиваешь к своей рубашке.
Экзамены следуют один за другим в строго определенном порядке. Первый – на вязание узлов: рифового, двойного рифового, колышки, булиня. Этот экзамен он сдает, но без отличия. Как сдавать бойскаутские экзамены с отличием – как отличаться на них, – он не знает.
Затем следует экзамен на нашивку лесовика. Чтобы сдать его, нужно разжечь костер – без бумаги и всего с трех спичек. Зимним вечером, под холодным ветром, он складывает сбоку от здания англиканской церкви горку из веточек и кусков коры, а затем под наблюдением командира роты и начальника отряда скаутов начинает чиркать, одна за другой, спичками. Костер каждый раз не загорается, каждый раз ветер задувает крошечное пламя. Начальник отряда и командир роты отворачиваются и уходят. Они не произносят слов «ты провалился», и потому у него нет полной уверенности в провале. А вдруг они посовещаются и решат, что при таком ветре испытание становится не очень честным. Он ждет их возвращения. Ждет, что ему все-таки дадут нашивку лесовика. Однако ничего не происходит. Он стоит у кучки сучков, и ничего не происходит.
Никто даже не упоминает об этом ни разу. Так он впервые в жизни проваливает экзамен.
Каждый июнь, при наступлении каникул, отряд скаутов отправляется в лагерь. Если не считать недели, которую ему, четырехлетнему, пришлось провести в больнице, с матерью он никогда еще не разлучался. И тем не менее решает ехать со скаутами.
Ему выдают список вещей, которые он должен взять с собой. Одна из них – плащ-палатка. У матери плащ-палатки нет, да она и не знает, что это такое. Взамен она выдает ему красный резиновый надувной матрац. А в лагере он обнаруживает, что у всех прочих мальчиков правильные плащ-палатки цвета хаки имеются. И красный матрац мгновенно отделяет его от всех. Выясняется к тому же, что заставить себя испражняться над зловонной ямой в земле он, увы, не способен.
На третий лагерный день все отправляются на реку Бриде, плавать. И хотя, когда они жили в Кейптауне, он, его брат и кузен часто ездили поездом в Фисхук и проводили по полдня, карабкаясь по скалам, строя из песка замки и плещась в волнах, плавать по-настоящему он не умеет. Здесь же ему, бойскауту, предстоит переплыть реку и вернуться назад.
Рек он не любит – за мутную воду, за грязь, которая набивается между пальцами ног, за ржавые консервные банки и осколки бутылок, на которые так легко наступить; он предпочитает чистый и белый морской песок. Однако входит в воду и каким-то образом добирается, разбрызгивая ее, до противоположного берега. Там он вцепляется в корень дерева, нащупывает ногами дно и стоит, стуча зубами, по пояс в угрюмой воде.
Другие мальчики разворачиваются и плывут назад. Он остается один. Ничего не поделаешь, придется снова пускаться вплавь.
Добравшись до середины реки, он понимает, что смертельно устал. Перестает плыть, пытается нащупать дно, однако река слишком глубока, и он уходит под воду. Он вырывается на поверхность, пытается плыть дальше, но сил уже не осталось. И еще раз уходит на дно.
Он видит мать, сидящую в кресле с высокой, прямой спинкой и читающую письмо, в котором сообщается о его смерти. Рядом стоит брат и тоже читает поверх ее плеча.
А следом он обнаруживает, что лежит на речном берегу, и командир его отряда, Майкл, с которым он так и не решился заговорить, из робости, сидит на нем верхом. Он закрывает глаза, ему хорошо. Его спасли.
Целые недели после этого он думает о Майкле, о том, как тот рискнул собственной жизнью, бросился в реку, спас его. И каждый раз поражается мысли о том, какое это чудо, что Майкл заметил – заметил его, заметил, что он тонет. В сравнении с Майклом (который учится в Седьмом Стандартном, обладает всеми нашивками, кроме уж самых высоких, и скоро станет королевским скаутом) он – никто. И было бы более чем правильно, если бы Майкл не увидел, как он тонет, не хватился бы его, даже когда все возвратились бы в лагерь. А после этого от Майкла только и требовалось бы, что написать его матери спокойное, официальное письмо, начинающееся словами: «С сожалением извещаем вас о том…»
С того самого дня он сознает, что в нем есть нечто особенное. Он должен был умереть и не умер. Ему была дана, несмотря на всю его никчемность, вторая жизнь. Он был мертвым, но остался живым.
Матери он о случившемся в лагере не говорит ни слова.
Глава четвертая
Самая великая тайна его школьной жизни, тайна, о которой дома никто от него ни слова не слышал, состоит в том, что он обратился в католичество – стал, с любой практической точки зрения, католиком.
Дома говорить на эту тему затруднительно, потому что члены его семьи – они, по сути дела, никто. Конечно, они южноафриканцы, однако южное африканство – вещь отчасти сомнительная, и потому обсуждать ее не принято – ведь не каждый, кто живет в Южной Африке, непременно является южноафриканцем, во всяком случае настоящим.
В том, что касается религии, домашние его уж точно никто. Даже в семье отца, более надежной и заурядной, чем семья матери, в церковь ходить не принято. Сам он побывал там всего дважды – в первый раз, когда его крестили, во второй, чтобы отпраздновать победу во Второй мировой войне.
Решение «быть» католиком он принимает по наитию. В первое его утро в новой школе одноклассники строем уходят в находящийся в отдельном здании актовый зал, на общее собрание, а он и еще трое новичков остаются. «Ты какой веры?» – по очереди спрашивает каждого учительница. Он смотрит направо, потом налево. Каков правильный ответ? И каков, собственно говоря, выбор вер? Это что-то вроде русских и американцев? Подходит его черед. «Какой ты веры?» – спрашивает учительница. Он потеет, не зная, что ответить. «Кто ты – христианин, римский католик или еврей?» – нетерпеливо интересуется она. «Римский католик», – говорит он.
Когда опрос заканчивается, учительница жестом приказывает ему и еще одному мальчику, сказавшему, что он еврей, остаться в классе; двое других, назвавшихся христианами, отправляются на собрание.
Они ждут, гадая, что с ними теперь будет. Однако ничего не происходит. В коридорах пусто, здание школы безмолвно, никого из учителей в нем не осталось.
Они выходят на игровую площадку, где и присоединяются к прочей не допущенной на собрание шушере. В это время года все играют в шарики; на пустых площадках непривычно тихо, слышно, как в воздухе перекликаются голуби, издалека доносится приглушенное пение. Они играют в шарики. Время идет. Наконец звон колокола извещает о завершении собрания. Все остальные ученики возвращаются – рядами, класс за классом. Некоторые, судя по всему, пребывают в дурном настроении.«Jood!» – шипит ему, проходя мимо, мальчик-африкандер: Жид! Когда он присоединяется к своему классу, никто ему не улыбается.
Этот эпизод внушает ему беспокойство. Он надеется, что на следующий день его и других новичков снова оставят в классе и попросят заново выбрать для себя веру. И тогда он, явно совершивший ошибку, исправит ее и станет христианином. Однако второго шанса ему не дают.
Отделение овец от козлищ повторяется дважды в неделю. Евреев и католиков предоставляют самим себе, христиане уходят на собрания, петь и слушать проповедь. В отместку за это – и в отместку за то, что евреи сделали с Христом, – мальчики-африкандеры, крупные, грубые, с бугристыми лицами, время от времени ловят еврея либо католика и лупят его кулаками по бицепсам, нанося короткие, жестокие удары, или заезжают коленом по яйцам, или заламывают за спину руки, пока он не начинает молить о пощаде.«Asseblief!» – шепчет пойманный ими мальчик: Пожалуйста! «Jood! Vuilgoed!» – шипят они в ответ: Жид! Грязь!
Как-то раз, во время большой перемены, двое мальчиков-африкандеров загоняют его в угол, а после утаскивают на самый дальний край регбийного поля. Один из них огромен и жирен. Он пытается умолить их.«Ek is nie ’n Jood nie», – говорит он: Я не еврей. Предлагает им покататься на его велосипеде – катайтесь хоть с полудня до вечера. И чем бессвязнее становится его лепет, тем шире улыбается жирный мальчик. Ясно, что именно это ему и нравится: мольбы, унижение.
Жирный достает кое-что из кармана рубашки – кое-что, делающее понятным, зачем его привели в безлюдное место: извивающуюся зеленую гусеницу. Друг жирного удерживает его руки за спиной, а жирный щиплет его за уголки челюсти, пока он не раскрывает рот, и засовывает туда гусеницу. Он выплевывает ее, уже надкушенную, уже пустившую сок ему в рот. Жирный раздавливает ее и размазывает остатки гусеницы по его губам.«Jood!» – говорит жирный, вытирая ладонь о траву.
В то роковое утро он примкнул к римским католикам из-за Рима, из-за Горация и двух его товарищей, которые с мечами в руках, в шлемах с гребнями и с неукротимой отвагой в глазах защищали мост через Тибр от этрусских орд. Ныне же он, шаг за шагом, узнает от других мальчиков-католиков, что на самом деле представляет собой католицизм. Эти католики ничего общего с Римом не имеют. А о Горации они и вообще не слышали.Эти католики посещают по пятницам, после полудня, уроки катехизиса; ходят на исповедь; получают причастие. Вот чем положено заниматься здешним католикам.
И вскоре старшие мальчики-католики загоняют его в угол и начинают допытываться: ходил ли он на уроки катехизиса, исповедовался ли, принял ли причастие. Катехизис? Исповедь? Причастие? Он не знает даже, что означают эти слова. «Я ходил, в Кейптауне», – уклончиво отвечает он. «Куда?» – спрашивают они. Названий кейптаунских храмов он не знает, ни одного, так ведь и они тоже. «В пятницу придешь на катехизис», – приказывают они. А когда он не приходит, доносят священнику, что в Третьем Стандартном учится вероотступник. Священник посылает ему записку, мальчики передают ее: он должен явиться на урок катехизиса. Он подозревает, что записку мальчики подделали, и в пятницу остается дома – носа оттуда не высовывает.
Старшие мальчики-католики ясно дают понять, что не верят россказням о том, как он был католиком в Кейптауне. Однако он зашел слишком далеко, обратной дороги нет. Если он скажет: «Я ошибся, на самом деле я христианин», то покроет себя позором. А кроме того, пусть даже ему приходится сносить издевки африкандеров и допросы настоящих католиков, разве два глотка свободы в неделю не стоят того – два промежутка времени, в которые он может гулять по игровым площадкам, разговаривая с евреями?
В одну из суббот, после полудня, когда весь пришибленный жарой Вустер заваливается спать, он выводит из дома велосипед и едет на Дорп-стрит.
Обычно он объезжает Дорп-стрит стороной, поскольку на ней-то католическая церковь и стоит. Но сегодня улицы пусты, ниоткуда не слышно ни звука, только вода шелестит в колеях. И он якобы безразлично проезжает мимо церкви, притворяясь, что и не глядит на нее.
Церковь не так велика, как он себе представлял. Низкое здание с пустыми стенами и маленькой статуей над портиком: Дева, укрыв под капюшоном лицо, держит на руках младенца.
Он доезжает до конца улицы. Ему хочется развернуться, поехать назад, взглянуть на церковь еще раз, но он боится искушать судьбу, боится, что священник в черном выйдет на улицу и замашет ему руками, приказывая остановиться.
Католические мальчики донимают его глумливыми замечаниями, христиане преследуют, а вот евреи, те никого ни в чем не укоряют. Делают вид, будто совсем ничего не замечают. А кроме того, евреи тоже ходят обутыми. С евреями ему как-то уютнее. Не такие уж они и плохие, евреи.
Тем не менее и с ними следует быть поосторожнее. Потому что евреи, они везде, они, того и гляди, всю власть в стране захватят. Он слышит об этом отовсюду и в особенности от своих приезжающих в гости дядьев, двух холостых братьев матери. Норман и Ланс появляются летом, как перелетные птицы, хотя редко в одно с ними время. Они спят на софе, встают в одиннадцать утра, часами бродят по дому, полуодетые, всклокоченные. У каждого есть машина; иногда их удается уговорить покатать кого-нибудь после полудня, но, по всему судя, они предпочитают проводить время, куря, попивая чай и беседуя о прошлом. Вечером они ужинают, а после ужина играют до полуночи в покер или рами с теми, кого им повезет отговорить от сна.
Он любит слушать, как его мать и дядюшки в тысячный раз перебирают события детства, проведенного ими на ферме. Слушая эти рассказы, слушая поддразнивание и смех, которыми они сопровождаются, он испытывает счастье, ни с чем не сравнимое. В семьях его друзей таких историй не рассказывают. Это и отделяет его от них: у него за спиной две фермы, материнская и отцовская, и рассказы о них. Благодаря фермам он укоренен в прошлом; фермы делают его значительным человеком.
Есть еще и третья ферма: Скипперсклоф, близ Уиллистона. Но там у его семьи корней нет, ферма досталась ей после заключения брака. Тем не менее и Скипперсклоф тоже важна. Все фермы важны. Это пространства свободы, настоящей жизни.
В рассказах Нормана, Ланса и матери мелькают фигуры евреев, комичных, пронырливых, но также коварных и бессердечных, точно шакалы. Евреи из Оудсхурна каждый год приезжали на ферму, чтобы покупать у их отца, его деда, страусовые перья. И убедили его отказаться от шерсти и отвести всю ферму под страусов. Страусы сделают его богачом, так они говорили. А потом настал день, когда рынок страусовых перьев рухнул. Евреи перья покупать отказались, и дедушка обанкротился. Все в тех местах обанкротились, и фермы перешли в руки евреев. Вот так они и действуют, евреи-то, говорит Норман: евреям, им ни в чем верить нельзя.
Его отец возражает. Позволить себе поносить евреев отец не может, поскольку сам работает на еврея. Компания «Стэндэрд кэннерс», в которой отец служит бухгалтером, принадлежит Вольфу Хеллеру. Именно Вольф Хеллер и привез его в Вустер из Кейптауна, после того как отец лишился места на государственной службе. Будущее их семьи связано с будущим компании «Стэндэрд кэннерс», которая за те несколько лет, что ею владеет Вольф Хеллер, обратилась в гиганта консервного мира. Перед человеком вроде него, получившего юридическое образование, говорит отец, перспективы в «Стэндэрд кэннерс» открываются просто блестящие.
Так что суровая критика, которой подвергают евреев, на Вольфа Хеллера не распространяется. Вольф Хеллер заботится о своих служащих. Он даже подарки им делает на Рождество, даром что для евреев Рождество – звук пустой.
Дети Хеллера в вустерской школе не учатся. Если у Хеллера вообще есть дети, их, скорее всего, отослали в Кейптаун, в «Южноафриканскую школу-интернат», еврейскую во всем, кроме названия. А в Реюнион-Парке еврейских семей и вовсе нет. Вустерские евреи живут в самой старой, зеленой и тенистой части города. И хотя в его классе учатся еврейские мальчики, в гости они его никогда не приглашают. Он видит их только в школе да во время собраний, когда евреев и католиков отделяют от всех остальных и гнев христиан возгорается против них.
Впрочем, время от времени по причинам, которые остаются неясными, ограничение, дающее им свободу на время собраний, отменяется и их тоже призывают в актовый зал.
Там всегда тесно. Ученики старших классов сидят, мальчики из начальных стоят. Евреи и католики – их всего около двадцати – проталкиваются сквозь толпу в поисках свободного места. Кое-кто исподтишка хватает их за лодыжки, норовя повалить на пол.
Dominee[2] уже стоит на сцене – бледный молодой человек в черном костюме при белом галстуке. Высоким, напевным голосом он читает проповедь, растягивая гласные и старательно выговаривая каждую букву. Когда проповедь завершается, все встают, чтобы помолиться. А что полагается делать католику, когда христиане молятся? Должен ли он закрыть глаза и шевелить губами или лучше притвориться, что его здесь и вовсе нет? Ни одного из настоящих католиков он не видит и потому старается сделать так, чтобы глаза его становились на время молитвы бессмысленными и ни на что определенное не смотрели.
Domineeсадится. Всем раздают сборники песен – наступает время пения. Одна из учительниц встает перед учениками, чтобы дирижировать их хором. «Al die veld is vrolik, al die voёltjies sing», – начинают младшие мальчики. Тут поднимаются на ноги старшеклассники. «Uit die blou van onse hemel», – глубокими голосами запевают они, стоя по стойке смирно и сурово глядя прямо перед собой: это государственный гимн, их государственный гимн. Младшие школьники вторят старшим – неуверенно, нервно. Учительница склоняется к ним, машет руками, точно перья сгребает, стараясь поднять дух мальчиков, ободрить их. «Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra», – поют они: Мы ответим на твой призыв.
И вот все заканчивается. Учителя спускаются со сцены – первым директор школы, за нимdominee, а за ним все прочие. Школьники рядами покидают актовый зал. Чей-то кулак ударяет его по почкам, коротко, быстро, тишком. Он слышит шепот: «Jood!» А затем выходит под открытое небо – он свободен и может снова дышать свежим воздухом.
Несмотря на угрозы настоящих католиков, несмотря на висящую над ним опасность того, что священник навестит родителей и разоблачит его, он благодарен вдохновению, которое заставило его избрать Рим. И благодарен Церкви, приютившей его: он не питает сожалений и уходить из католиков не собирается. Если быть христианином означает петь гимны и слушать проповеди, а потом идти и мучить евреев, ни в какие христиане он подаваться не хочет. А если католики Вустера вовсе и не римские, если они ничего не знают о Горации и его товарищах, удерживавших мост через Тибр («Тибр, отец наш Тибр, коему молимся мы, римляне»), о Леониде и его спартанцах, которые удерживали проход в Фермопилах, о Роланде, удерживавшем проход от сарацинов, так он в этом не виноват. Он не может придумать ничего более героического, чем удержание прохода, ничего более благородного, чем смерть ради спасения других людей, которые потом плачут над твоим трупом. Вот кем ему хочется стать: героем. К этому и должен сводиться настоящий римский католицизм.
Стоит летний вечер, прохладный после долгого, знойного дня. Он в городском саду – играл здесь в крикет с Гринбергом и Гольдштейном: Гринберг учится хорошо, однако в крикет играет так себе; у Гольдштейна большие карие глаза, он ходит в сандалиях и любит порисоваться. Время позднее, больше половины восьмого. Сад, если не считать их троицы, пуст. В крикет уже не поиграешь: мяча не видно. И они затевают возню, такую, точно снова стали детьми, – катаются по траве, щекочут друг друга, хихикают и хохочут. Он встает, глубоко вздыхает. Волна ликования омывает его изнутри. Он думает: «В жизни не был таким счастливым. Хорошо бы навсегда остаться с Гринбергом и Гольдштейном».
Они расходятся. Все это правда. Ему хотелось бы жить так всегда – ехать на велосипеде по широким пустым улицам Вустера в сумерках летнего вечера, когда всех остальных детей уже загнали домой и только он один остается под открытым небом, точно король.
Глава пятая
Принадлежность к католикам – это часть его жизни, приберегаемая для школы. Предпочтение же русских американцам – тайна, настолько мрачная, что открыть ее он не может никому. Любовь к русским – дело серьезное. За нее могут отовсюду взашей погнать.
В ящике своего личного шкафа он держит альбом с рисунками, сделанными в 1947-м, когда им владела особенно сильная увлеченность русскими. На этих рисунках, выполненных темным свинцовым карандашом и раскрашенных цветными, русские самолеты сбивают в небе американские, русские корабли топят в море корабли американцев. Хотя страсти того года, когда из радиоприемников внезапно забили волны враждебности к русским и каждому приходилось выбирать, на чьей он стороне, теперь улеглись, он хранит свой тайную верность: верность русским, но еще в большей мере верность себе, каким он был, когда рисовал это.
Никто в Вустере о его любви к русским не знает. В Кейптауне у него был друг, Никки, с которым он играл в войну – оловянными солдатиками и пружинными пушечками, стрелявшими спичками; однако, когда он понял, чем рискует, то сначала заставил Никки поклясться в сохранении тайны, а затем, для пущей надежности, уверил его, что передумал и теперь любит американцев.
В Вустере же вообще никто, кроме него, русских не любит. Преданность Красной Звезде отделяет его от всех.
Где он подцепил эту безрассудную страсть, которая даже ему самому кажется странной? Имя его матери – Вера:Vera с льдистой заглавной V, острием летящей вниз стрелы. Вера, однажды сказала ему мать, – имя русское. И когда русские и американцы впервые предстали перед ним как противники, между которыми следует выбирать («Тебе кто больше нравится – Смэтс[3] или Малан?[4] Кто тебе больше по душе – Супермен или Капитан Марвел? Ты кого больше любишь – русских или американцев?»), он выбрал русских, как выбрал впоследствии римлян: потому что ему нравилась буква р, в особенности заглавная Р, самая крепкая из букв.
Русских он выбрал в 1947-м, когда все остальные отдавали предпочтение американцам, а сделав выбор, начал читать о них. Отец купил трехтомную историю Второй мировой войны. Он полюбил эти книги и подолгу сидел над ними, читая, разглядывая фотографии русских солдат в белых лыжных халатах; русских солдат с автоматами, крадущихся среди развалин Сталинграда; всматривающихся в бинокли командиров русских танков. (Русский Т-34 был самым лучшим танком в мире – лучше американского «Шермана» и даже немецкого «Тигра».) Он снова и снова возвращался к картинке, на которой русский летчик закладывает на своем пикирующем бомбардировщике вираж над разгромленной, горящей немецкой танковой колонной. Он принимал все русское. Принимал сурового, но по-отечески заботливого фельдмаршала Сталина; принимал борзую, русского волкодава, самую быструю собаку на свете. Он знал о России все, что о ней следует знать: ее площадь в квадратных милях, ее годовое производство угля и стали (в тоннах), протяженность каждой из ее великих рек – Волги, Днепра, Енисея, Оби.