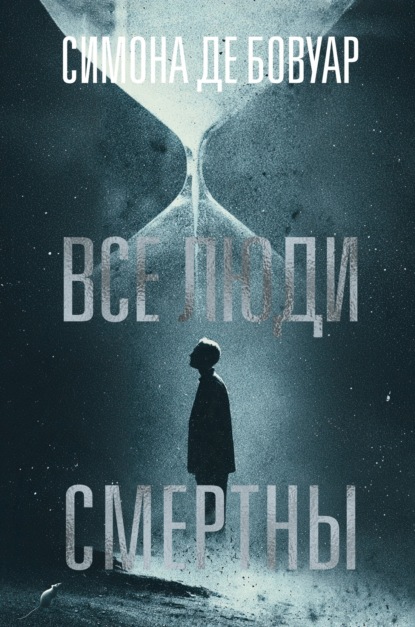Полная версия
Сцены из жизни провинциала: Отрочество. Молодость. Летнее время

Джон Максвелл Кутзее
Летнее время
Памяти Д. К. К.
J. M. Coetzee
SCENES FROM PROVINCIAL LIFE:
BOYHOOD Copyright © J. M. Coetzee, 1997
Portions of this work fi rst appeared in Artes, Common Knowledge
(published by Oxford University Press), Granta and West Coast Lin.
YOUTH Copyright © J. M. Coetzee, 2002
SUMMERTIME Copyright © J. M. Coetzee, 2009
Portions of this book fi rst appeared in The New York Review of Books.
Excerpt from WAITING FOR GODOT by Samuel Beckett.
Copyright© 1954 by Grove Press, Inc.
Copyright © renewed 1982 by Samuel Beckett.
Used by permission of Grove/Atlantic, Inc.
This selection has been altered by J. M. Coetzee
Boyhood, Youth and Summertime have been revised for this edition.
Copyright © J. M. Coetzee, 2011
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.
350 Fifth Avenue, Suite 5300, New York, NY 10176-0187 USA.
All rights reserved
© С. Б. Ильин (наследники), перевод, 2023
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Иностранка®
* * *
Со времен «Бесчестья» Кутзее не писал так тревожно и эмоционально.
The New YorkerШедевр постмодернизма.
New York PostЧитать «автобиографическую» трилогию Кутзее непросто, но это благодарный труд; перед читателем складывается подробнейший, без прикрас, мозаичный портрет творца, стремящегося только к тому, чего достичь нелегко. Далеко не все факты совпадают с тем, что мы знаем о биографии реального Кутзее, но тем интереснее возникающий стереоэффект.
The Seattle TimesВ его книгах – меланхоличная красота и тихая сила. Читая Кутзее, поневоле удивляешься, как искусно этот современный мастер умеет «сублимировать» (по его собственному выражению) сырой материал жизни и любви, чтобы зафиксировать истину человеческого существования – истину, для слов неуловимую.
O, The Oprah MagazineОзорная и неожиданно забавная книга, автопортрет бескомпромиссно исповедальный и в то же время замысловато зыбкий.
The New York Review of BooksИскренний пыл, сложное конструирование, первобытная страсть – эта трилогия бросает вызов привычному пониманию творчества Кутзее.
San Francisco ChronicleСвое молодое «я» Кутзее изображает худосочным и претенциозным, но даже если это нарочитое смирение – лишь самовозвеличивание иными средствами, результат завораживает.
Entertainment WeeklyКутзее виртуозно препарирует требования, которые мы предъявляем к искусству и творцам искусства.
TimeOut New YorkС утонченным, почти невидимым героизмом персонажи Кутзее пытаются жить будничной жизнью; иногда им это даже удается.
The San Diego Union-TribuneКутзее вскрывает саму механику писательского ума до таких глубин, на какие мы не смели и надеяться.
The NationПривычная серьезность смягчается неожиданными проблесками юмора в этом впечатляющем дополнении к и без того внушительному творческому наследию.
PortlandOregonian.com«Сцены из жизни провинциала» – несомненно художественная литература, и самой высшей пробы. Но никогда еще этот жанр не испытывали на прочность настолько провокативно и с таким мастерством. Кутзее – настоящий гений.
BookPageУ нас на глазах неуклюжий юнец превращается в настоящего художника.
The Wall Street JournalЧистый, беспримесный восторг. Эта книга будет вас раздражать и веселить, ее герои – внушать то презрение, то сочувствие, но оторваться от нее вы не сможете.
San Francisco ChronicleБезжалостный, лишенный малейшего намека на сентиментальность автопортрет художника в юности, выявляющий скрытые источники его творчества.
The New York TimesУникальная, выжженная солнцем история о стыде и расе, о социальных рамках и – порой – уморительной растерянности.
The New YorkerВоспоминания чувствительной души, вбирающей первичные жизненные импульсы для дальнейшего претворения в творчество.
The Washington Post Book WorldНевероятно сильно, увлекательно, экономно и мастерски изложено.
The Boston GlobeСвою жизнь Кутзее описывает настолько искусно, точно и беспощадно, что порой читателю не хватает воздуха. Такой автобиографии вы еще не читали.
The TimesПубликация этой «автобиографической» трилогии в одном томе лишь подчеркивает дистанцию между реальностью жизни Кутзее и вымыслом его книг.
New StatesmanВ трех частях – жизнь настолько замкнутая, настолько подавленная, настолько кипящая вежливой яростью и сдержанным отчаянием, что говорить о себе можно только в третьем лице.
Irish TimesЛишь писатель масштаба Кутзее способен размышлять об испорченной надежде юности так ясно и уравновешенно.
Daily MailОт автора
Три части «Сцен из жизни провинциала» публиковались по отдельности как «Отрочество» (1997), «Молодость» (2002) и «Летнее время» (2009). Перед изданием под одной обложкой в текст их внесен ряд изменений.
Хочу поблагодарить Марилию Бандейру за помощь с бразильским вариантом португальского языка и наследников Сэмюэла Беккета за разрешение воспроизвести (вернее, переврать) цитату из «В ожидании Годо».
Отрочество
Глава первая
Они живут в поселке под самым Вустером, между железнодорожной линией и Государственной автострадой. Улицы поселка носят названия деревьев, однако деревья на них пока отсутствуют. Их адрес: Тополевая авеню, дом 12. Все дома в поселке новые и все одинаковые. Стоят они посреди разделенных проволочными изгородями больших участков красного глинозема, на котором ничего не растет. На заднем дворе каждого дома имеется домик поменьше – одна комната и уборная. И хотя прислуги у них нет, они называют это «комнатой прислуги» и «уборной прислуги». В комнате прислуги хранятся всякие вещи: газеты, пустые бутылки, поломанное кресло и старый, набитый волокном кокосовой пальмы матрас.
В дальней части двора они сооружают птичий вольер и селят в него трех кур, чтобы те несли для них яйца. Однако жизнь несушек складывается неудачно. Дождевая вода, неспособная просочиться сквозь глину, стоит по двору большими лужами. Птичий вольер обращается в дурно пахнущую трясину. На ногах несушек появляются непристойные опухоли, покрытые подобием слоновьей кожи. Хворые и сварливые, они перестают нестись. Мать обращается за советом к своей живущей в Стелленбосе сестре, и та говорит, что куры начнут нестись снова лишь после того, как им удалят роговые наросты, которые находятся у них под языками. И мать зажимает каждую курицу, одну за другой, между коленями, стискивает ее щечки, пока она не разевает клюв, и загоняет ей под язык изогнутый нож. Куры визжат и бьются, глаза их выпучиваются. Его пробирает дрожь, он убегает. Он думает о том, как мать отбивает на разделочном столе кухни предназначенное для тушения мясо, как режет его кубиками, думает о ее окровавленных пальцах.
Ближайшие к ним магазины находятся в миле езды по обсаженной эвкалиптами дороге. Матери, запертой в смахивающем на ящик поселковом доме, занять себя целый день нечем – кроме метения полов и уборки. Когда поднимается ветер, он наносит под двери мелкую охряную глиняную пыль, она просачивается в дом сквозь трещины оконных рам, пробивается под свесами крыши и через потолочные соединения. После продлившейся целый день бури у передней стены дома образуются наносы пыли высотой в несколько дюймов.
Они покупают пылесос. Каждое утро мать таскает пылесос из комнаты в комнату, втягивая пыль в его ревущую утробу, на боку которой изображен перепрыгивающий словно бы через забор красный улыбающийся домовой. Домовой: почему домовой?
Он играет с пылесосом, разрывая на полоски листок бумаги и следя, как они впархивают в трубу, точно несомые ветром листья. Проводит трубой над муравьиной тропкой – и пылесос засасывает насекомых, обрекая их на смерть.
Муравьев и мух в Вустере хватает, а блохи так и вовсе целыми ордами водятся. Вустер стоит всего в девяноста милях от Кейптауна, и тем не менее все здесь как-то хуже. Его ноги опоясаны – там, где кончаются носки, – кольцами блошиных укусов, которые он расчесывает, пока не образуется короста. Некоторыми ночами его донимает такой зуд, что он не может заснуть. Он не понимает, зачем им было уезжать из Кейптауна.
И мать его тоже одолевает беспокойство. Вот была бы у меня лошадь, говорит она. Тогда я хоть по вельду могла бы кататься. Лошадь! – отвечает отец. Леди Годивой стать норовишь?
Лошади она не покупает. А покупает взамен, никого не предупредив, велосипед – дамский, подержанный, черный. Велосипед до того тяжел и огромен, что, когда он пробует проехаться на этой новинке по двору, ему не удается даже педали провернуть.
Управлять велосипедом мать не умеет; впрочем, и лошадью тоже. Покупая его, она полагала, что это дело простое. А теперь выясняется, что ей и поучиться-то не у кого.
Отцу не удается скрыть ликование. Женщины не ездят на велосипедах, говорит он. Мать упорствует. Я не буду узницей в этом доме, говорит она, мне нужна свобода.
Поначалу появление у матери собственного велосипеда представлялось ему событием замечательным. Он даже воображал, как они, все трое, мать, он и его брат, катаются вместе по Тополевой авеню. Но теперь он слушает шутки отца, на которые мать способна ответить лишь угрюмым молчанием, и начинает проникаться сомнениями. А ну как отец прав и женщины не ездят на велосипедах? Если матери не удается найти никого, желающего ее поучить, если ни у какой другой домохозяйки Реюнион-Парка велосипеда не имеется, так, может, женщинам и вправду кататься на них не положено?
Мать уходит одна на задний двор и пытается обучиться езде самостоятельно. Вытянув ноги по обе стороны велосипеда, она съезжает по склону к вольеру для птиц. Велосипед клонится набок, останавливается. Поскольку перекладины у его рамы нет, мать не падает, а просто глупо ковыляет некоторое время по склону, вцепившись в руль.
Сердце его восстает против матери. В этот вечер он присоединяется к насмешкам отца. Он хорошо понимает, какое это предательство. Теперь мать остается в полном одиночестве.
И все же велосипед она осваивает и ездит на нем, хоть и неуверенно, раскачиваясь, с трудом проворачивая тяжелые педали.
По утрам, когда он в школе, мать совершает экспедиции в Вустер. Только один раз он мельком видит, как она едет на велосипеде. На ней белая блузка и черная юбка. Она катит по Тополевой авеню к их дому. Волосы ее струятся по ветру. Выглядит она юной, совсем еще девочкой – юной, свежей и загадочной.
Отец, всякий раз, как ему попадается на глаза прислоненная к стене тяжелая черная машина, отпускает шуточки на ее счет. Рассказывает, как жители Вустера, побросав все дела, стоят и таращатся, разинув рты, на женщину, которая, тяжко трудясь, проезжает мимо них на велосипеде. «Trap! Trap!» – насмешливо кричат они: Тужься! Ничего смешного в этих рассказах нет, однако по окончании их он и отец всегда смеются. Что касается матери, она никогда с остроумным ответом не находится, нет у нее такого таланта. «Смейтесь, если вам так нравится!» – говорит она.
Потом, в один прекрасный день, она, ничего не объясняя, перестает ездить на велосипеде. И вскоре тот исчезает. Никто не говорит об этом ни слова, однако он знает, что мать потерпела поражение, что ее поставили на место и часть вины за это лежит на нем. Когда-нибудь я искуплю эту вину перед ней, обещает себе он.
Воспоминание о едущей на велосипеде матери не покидает его. Она крутит педали, уезжая по Тополевой, удаляясь от него, приближаясь к исполнению своего желания. Он не хочет, чтобы мать уезжала. Не хочет, чтобы у нее возникали свои желания. Он хочет, чтобы она всегда была дома, дожидалась его возвращения. Он далеко не часто объединяется с отцом, чтобы выступить против нее: в целом он склонен объединяться с ней против отца. Однако в этом случае он принимает сторону мужчин.
Глава вторая
С матерью он не делится ничем. Школьная его жизнь сохраняется в строгом секрете от нее. Она и не должна ничего знать, решает он, кроме табеля, который школа представляет родителям в конце каждой четверти, а в табеле он будет выглядеть непогрешимым. Первым учеником своего класса. Поведение его навсегда останется «Очень хорошим», успехи «Великолепными». И пока отчет будет безупречным, она не получит права задавать вопросы. Такой мысленный договор с ней он заключает.
А в школе происходит вот что: учеников секут. И секут каждый день. Мальчику приказывают нагнуться, прикоснуться к пальцам ног и лупцуют его тростью по заду.
Особенно любит учительница избивать его одноклассника по Третьему Стандартному, мальчика по имени Роб Харт. Учительницу Третьего Стандартного, вспыльчивую женщину с крашенными хной волосами, зовут мисс Остхёйзен. Его родители откуда-то знают ее как Марию Остхёйзен: она играет в самодеятельном театре, замужем никогда не была. Ясно, что у нее имеется некая жизнь за пределами школы, однако представить себе эту жизнь он не в состоянии. Он вообще не в состоянии представить себе учителя, у которого имеется какая-то жизнь за пределами школы.
Приходя в ярость, мисс Остхёйзен вызывает Роба Харта к доске, приказывает ему наклониться и принимается хлестать по ягодицам. Удары следуют один за другим быстро, на то, чтобы замахнуться, времени у мисс Остхёйзен почти не остается. К концу порки лицо Роба Харта заливает краска. Однако он не плачет; собственно, краснеет он, скорее всего, потому, что долго простоял согнувшись. Зато у мисс Остхёйзен тяжело поднимается и опускается грудь, и вообще кажется, что у нее вот-вот брызнут слезы – а то и кое-что еще.
После таких ее припадков неуправляемой страстности класс затихает и остается притихшим до самого звонка.
Довести Роба Харта до слез мисс Остхёйзен не удается ни разу; возможно, потому она так на него и ярится и бьет его так сильно, сильнее, чем кого-либо еще. Роб Харт старше всех в классе – он младше Роба почти на два года (он вообще младше всех своих одноклассников); ему кажется, что между Робом Хартом и мисс Остхёйзен происходит что-то такое, во что он не посвящен.
Роб Харт высок, красив и бесшабашен. И хотя Роб Харт не очень умен – и, может быть, даже не наберет необходимых для продолжения учебы баллов, – его тянет к этому мальчику. Роберт Харт – часть мира, пути в который он еще не отыскал: мира секса и побоев.
Что до него, он никакого желания получать порку от мисс Остхёйзен, да и от кого-либо еще, не питает. Сама мысль о такой возможности заставляет его корчиться от срама. Он готов на все, лишь бы избежать избиения. В этом отношении он ненормален, о чем хорошо знает. Да он и происходит-то из ненормальной, зазорной семьи, в которой не только не бьют детей, но еще и позволяют им обращаться к взрослым по именам, и в церковь там никто даже не заглядывает, и все целый день ходят обутыми.
У каждого учителя школы, и у мужчин, и у женщин, имеются собственные трости, и каждый волен использовать их по своему усмотрению. А каждая трость обладает индивидуальностью, характером, и все они хорошо известны мальчикам и порождают в их среде бесконечные разговоры. Школьники с видом знатоков и ценителей сопоставляют особенности тростей и разновидностей причиняемой ими боли, сравнивают технические приемы использования предплечий и запястий, усвоенные владельцем каждой из них. О стыде, который должен испытывать человек, когда его вызывают к доске, приказывают нагнуться и бьют по заду, у них даже речи никогда не заходит.
Не обладая личным опытом, он не может участвовать в этих беседах. И тем не менее знает, что боль – не самое главное. Если другие терпят ее, стерпел бы и он, обладатель куда более сильной воли. Чего он не стерпит, так это позора. А позор, опасается он, будет таким гнусным, таким пугающим, что, когда его вызовут к доске, он вцепится в свой стол и выходить к доске откажется. И это покроет его еще пущим позором: отдалит от других мальчиков, настроит их против него. Если его когда-нибудь соберутся выпороть, сцена получится до того унизительная, что вернуться после нее в школу он уже не сможет; в конечном счете ему останется только одно: покончить с собой.
Таковы ставки. Именно поэтому он не издает в классе ни звука. Именно поэтому всегда опрятен, всегда выполняет домашние задания и всегда знает ответ на любой вопрос учительницы. Он не может позволить себе оплошать. Если он оплошает, его могут побить; а побьют ли его, или он победит в борьбе за то, чтобы избежать побоев, это уже все равно: ему придется умереть.
И вот в чем странность: хватило бы всего одной порки, чтобы снять заклятие владеющего им страха. Он это хорошо сознает: если бы ему удалось каким-то образом проскочить через избиение до того, как он успеет обратиться в скалу и оказать сопротивление, если бы надругательство над его телом совершилось быстро и насильственно, он смог бы выйти из этого испытания нормальным мальчиком, способным легко включаться в дискуссии насчет учителей, их тростей и различных градаций и оттенков причиняемой ими боли. Однако сам он перескочить через этот барьер не может.
Вину за это он возлагает на мать, которая никогда его не бьет. Он, конечно, доволен тем, что ходит обутым, и берет в библиотеке книги, и с простудой остается дома, а в школу не идет, – всем тем, что отдаляет его от других мальчиков, – однако на мать, которая не смогла родить нормальных детей и заставить их жить нормальной жизнью, он гневается. Отец, если б он взялся править домом, мигом обратил бы их всех в нормальную семью. Отец-то как раз нормален в каком угодно отношении. Он благодарен матери, которая защищает его от отцовской нормальности, иными словами, от случающихся иногда вспышек пьяной ярости, от отцовских угроз избить его. И в то же время гневается на нее, обратившую его в существо ненормальное, нуждающееся, чтобы жить и дальше, в защите.
Если говорить о тростях, так наибольшее впечатление производит на него не та, что принадлежит мисс Остхёйзен. Самый большой страх внушает трость мистера Латегана, преподавателя столярного дела. Трость у него не длинная и не пружинистая – стиль, предпочитаемый другими учителями. Нет, она коротка, толста и похожа на какой-то обрубок – скорее палка или дубинка, чем трость. Если верить слухам, мистер Латеган наказывает ею только старшеклассников, потому что мальчикам помладше его наказания просто не выдержать. Уверяют также, что трость мистера Латегана заставляла даже тех, кто был без малого выпускником, реветь, молить о пощаде, мочиться в штаны и покрывать себя вечным бесчестьем.
Мистер Латеган – человек малого роста, с усами и коротко остриженными, стоящими торчком волосами. У него нет одного большого пальца: обрубок прикрыт аккуратным багровым шрамом. Мистер Латеган очень немногословен. Неизменно сух, раздражителен, как будто обучение мальчиков столярному делу – занятие, которое ниже его, которому он предается против собственной воли. Большую часть уроков он простаивает у окна класса, глядя на школьный двор, а мальчики тем временем производят неуверенные замеры, пилят, строгают. Иногда он приходит на урок со своей короткой «тростью» и, размышляя, лениво похлопывает ею себя по ноге. Обходя же класс и проверяя сделанное мальчиками, он презрительно указывает им на ошибки, но потом пожимает плечами и работу их принимает.
Мальчикам разрешается открыто шутить по поводу учительских тростей. Собственно говоря, это единственный допускаемый школой повод поддразнивания учителей. «Пусть споет, мистер Гувс!» – восклицают они, и запястье Гувса оголяется, и его длинная трость (самая длинная в школе, даром что мистер Гувс – учитель всего лишь Пятого Стандартного) со свистом рассекает воздух.
С мистером Латеганом не шутит никто. Мистер Латеган и то, что его трость способна делать с учениками, которые почти уже взрослые, внушают благоговейный трепет.
Когда под Рождество отец встречается на ферме со своими братьями, разговор у них всегда обращается к школьным дням. Они вспоминают своих учителей и их трости; вспоминают холодные зимние утра, когда трость оставляла на ягодицах синие рубцы, а тело потом целыми днями хранило воспоминание о жгучей боли. В произносимых ими словах проступает нота ностальгии и приятного страха. Он жадно слушает их, но старается оставаться по возможности неприметным. Ему не хочется, чтобы, когда в разговоре возникнет пауза, они обратились к нему и спросили, какое место занимает трость в его жизни. Его никогда не били, и он сильно стыдится этого. Он не может говорить о тростях с легкостью и знанием дела, присущими этим мужчинам.
У него такое чувство, точно что-то в нем повредилось. Точно что-то медленно прорывается внутри его: некая перепонка, стена. Он как можно крепче обхватывает себя, чтобы удержать этот прорыв в каких-то пределах. Удержать в пределах, не остановить: остановить прорыв не способно ничто.
Раз в неделю его класс строем проходит по территории школы в спортивный зал, чтобы заняться ФП, физической подготовкой. В раздевалке все облачаются в белые майки и трусы. Затем проводят под руководством также одетого в белое мистера Барнарда полчаса, скача через гимнастического коня, или перебрасываясь набивным медицинболом, или подпрыгивая и хлопая над головой в ладоши.
Все это они проделывают босиком. Уже за несколько дней до этого его начинает томить страх ФП – придется разуваться добоса, а он привык к тому, что ступни его всегда закрыты. И однако ж, стоит ему снять туфли и носки, выясняется, что ничего в этом страшного нет. Он просто отстраняется от своего стыда, переодевается торопливо и живо, и ноги его оказываются такими же, как у всех прочих. Страх еще маячит где-то поблизости, ловя возможность вернуться, но это его страх, личный, другим мальчикам знать о нем совершенно ни к чему.
Затем наступает день, когда привычная рутина меняется. Из спортивного зала их отправляют на теннисные корты, чтобы они поучились играть в падл-теннис. Путь до кортов не близкий, ему приходится ступать осторожно, под ногами много камней. Гудрон корта раскалился под солнцем настолько, что он вынужден, чтобы не обжечься, перескакивать с ноги на ногу. Легче становится, лишь когда он возвращается в спортзал и обувается, но к вечеру он уже едва-едва ходит, а мать, сняв с него дома туфли, обнаруживает на его ступнях волдыри и кровь.
Три дня он проводит дома, ноги заживают. На четвертый возвращается в школу с запиской от матери, гневной запиской, которую он прочитывает и одобряет. Подобно раненому воину, вернувшемуся, чтобы вновь занять место в общем строю, он, прихрамывая, идет по проходу к своему столу.
– Тебя почему в школе не было? – шепотом спрашивают одноклассники.
– Ходить не мог, от тенниса на ступнях волдыри выскочили, – шепчет он в ответ.
Он ожидает изумления и сочувствия, но получает взамен смешки. Даже те из одноклассников, что и сами ходят обутыми, не принимают его рассказ всерьез. Каким-то образом им удалось сообщить своим ступням загрубелость – такую, что волдырями те не покрываются. А у него ступни мягкие, и это, как выясняется, в знаки отличия не годится. И внезапно он оказывается в одиночестве – он, а с ним и его мать.
Глава третья
Ему так и не удалось понять, какое место занимает в семье отец. На деле для него не очевидно, что отец вообще имеет право присутствовать в ней. В нормальных семьях отец – самый главный: дом принадлежит ему, жена и дети живут под его властью. А в их случае, как и в семьях двух сестер матери, ядро составляют мать и дети, муж же – это более или менее довесок, экономическая составляющая наподобие платного жильца.
На его памяти он всегда был принцем их дома, а мать – несколько неуверенной в себе опекуншей и растерянной заступницей – неуверенной и растерянной, потому что ребенку, он это знает, верховодить в доме не полагается. Если он и может испытывать к кому-то ревнивые чувства, то не к отцу, а к младшему брату. Мать опекает и его: опекает и даже, поскольку брат хоть и умен, но не так, как он, – не так дерзок, не так безрассудно смел, – благоволит брату. На самом деле ему кажется, что мать старается все время держать брата под своим крылом, готовая отразить любую опасность, между тем как в его случае она стоит где-то в тени, вслушиваясь, ожидая, готовая прийти, если он позовет ее на помощь.
Он хочет, чтобы мать вела себя с ним так же, как с братом, но хочет этого как знака, доказательства ее любви, и не более того. И знает, что гневно вспыхнет, если мать хотя бы попробует взять его под свое крыло.
Раз за разом он загоняет ее в угол, требуя, чтобы она призналась, кого из двоих любит сильнее – его или брата. «Обоих люблю», – отвечает она, улыбаясь. Мать никогда не попадается в расставленные им ловушки. Даже самые изобретательные его вопросы – например: что, если дом загорится, а времени у нее будет только на спасение одного из них? – и те не берут ее врасплох. «Спасу обоих, – говорит она. – Наверняка спасу обоих. Но ведь дом не загорится». Он хоть и высмеивает мать за то, что она все понимает буквально, но к присущему ей упрямому постоянству относится уважительно.