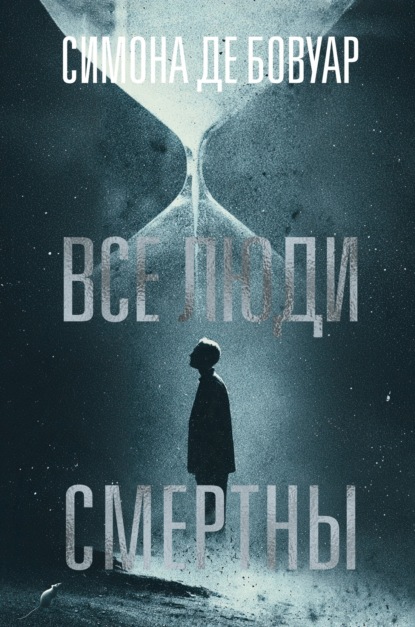Полная версия
Достойный жених. Книга 1
Несколько дней погодя Арун написал, вернее, нацарапал письмо матери:
Дорогая ма!
Прости, что раньше не ответил на твое письмо о Лате. Да, безусловно, будем искать. Но не обольщайся: договорники тут чуть ли не как дважды рожденные[90] и получают в приданое десятки тысяч, а то и сотни. Впрочем, ситуация небезнадежна. Будем искать, но я предлагаю Лате приехать на лето в Калькутту. Так легче ее познакомить и пр. Но она сама должна сотрудничать. Варун разгильдяйствует, начинает учиться как следует, когда я уже приложу руку. Девушками совершенно не интересуется, как обычно, разве что теми, которые на четырех копытах. По-прежнему увлекается жуткими песенками. Апарна весела и здорова, постоянно спрашивает о своей дади, так что, по всему видно, скучает по тебе. Папину инж. медаль М. расплавила ради пары висюлек в уши и цепочки, но на физ. я наложил вето, не беспокойся. В остальном все хорошо, спина норм., Чаттерджи в основном как обычно, напишу подробнее, будет время.
Привет и поцелуи от всех.
АрунЭта короткая записка в излюбленном телеграфном стиле Аруна, написанная неразборчивым почерком (поперечные линии букв беспорядочно торчали в разные стороны под углом в тридцать градусов), прибыла в Брахмпур со второй почтой однажды пополудни и возымела эффект разорвавшейся гранаты. Прочитав ее, госпожа Рупа Мера разразилась рыданиями даже без обычного (как не преминул бы отметить Арун, окажись он рядом) предварительного покраснения носа. На самом-то деле, если не рассматривать событие взглядом циника, она была расстроена до глубины души и по вполне очевидным причинам.
Ужас оттого, что медаль безвозвратно расплавлена, бессердечие ее невестки, пренебрежение последней к самым нежным чувствам, о чем свидетельствовал сей акт мелкого тщеславия, расстроили госпожу Рупу Меру сильнее, чем что-либо за много-много лет, даже сильнее, чем сама женитьба Аруна на этой Минакши. Она буквально воочию увидела, как золотое имя ее мужа физически истаивало в тигле. Госпожа Рупа Мера любила своего мужа и восхищалась им почти до самозабвения. И мысль о том, что одна из немногих вещиц, связанных с его земным присутствием, была теперь злобно – ибо подобное ранящее равнодушие нельзя назвать иначе как злобой – и безвозвратно уничтожена, изливалась теперь горючими, гневными, бессильными слезами.
Рагубир, ее муж, был блестящим выпускником колледжа Рурки, и это воспоминание о его студенческих днях было одним из счастливейших. Он никогда не зубрил, но все экзамены сдавал чрезвычайно успешно. Его одинаково любили и однокашники, и преподаватели. Единственным предметом, в котором он не преуспел, было рисование. Тут он еле-еле получил зачет. Госпожа Рупа Мера вспомнила его зарисовки в детских книжках для автографов и почувствовала, что экзаменаторы были невежественны и несправедливы к нему.
Некоторое время спустя, кое-как взяв себя в руки и протерев лоб одеколоном, она вышла в сад. Стоял теплый день, но от реки веял ветерок. Савита спала, а все прочие отсутствовали. Она оглядела неубранную дорожку возле клумбы с каннами. Молодая метельщица болтала с садовником в тени под шелковицей. «Надо бы ей сказать», – безучастно подумала госпожа Рупа Мера.
Матин, отец Мансура, человек весьма прозорливый и хитрый, вышел на веранду с бухгалтерской книгой в руках. Госпожа Рупа Мера была не в том настроении, чтобы вести подсчеты, но чувствовала себя обязанной этим заняться. Усталыми шагами она вернулась на веранду, вынула из черного футляра очки и заглянула в книгу.
Метельщица взяла метлу и принялась сметать с дорожки пыль, сухие листья, веточки и осыпавшиеся цветы. Госпожа Рупа Мера невидящим взглядом смотрела на открытую страницу бухгалтерской книги.
– Желаете, чтобы я пришел попозже? – осведомился Матин.
– Нет. Займусь ими сейчас. Погоди минутку.
Она достала синий карандаш и посмотрела на списки покупок. С той поры, как Матин вернулся из деревни, вести счета стало куда тяжелее. Если не считать довольно странного варианта хинди, Матин куда более умело мухлевал с бухгалтерией, нежели его сын.
– Это что? – спросила госпожа Рупа Мера. – Еще одна банка масла гхи[91] в четыре сира?[92] Ты считаешь нас миллионерами? Когда мы заказывали нашу предыдущую банку?
– Месяца два назад, наверное, бурри-мемсахиб.
– А разве Мансур не покупал еще одну банку, пока ты прохлаждался в деревне?
– Может, и покупал, бурри-мемсахиб. Я не видел.
Госпожа Рупа Мера принялась перелистывать страницы бухгалтерской книги, пока не отыскала запись, сделанную более разборчивой рукой Мансура.
– Вот же, он купил банку месяц назад. Почти за двадцать рупий. Что с ней стало? Нас не двенадцать человек в семье, чтобы в таком темпе уничтожить целую банку.
– Я ведь только вернулся, – осмелился вставить Матин, бросив взгляд на метельщицу.
– Дай тебе волю, ты бы покупал нам шестнадцать сиров гхи каждую неделю, – сказала госпожа Рупа Мера. – Выясни, куда делось оставшееся масло.
– Ушло на пури, паратхи и дал[93]. А еще мемсахиб любит положить сахибу немного гхи в чапати[94] и в рис каждый день… – начал Матин.
– Да-да, – перебила его хозяйка. – Я могу представить, сколько его ушло на все эти нужды. Мне хочется выяснить, что стало с остальным маслом. Мы не держим дверь нараспашку, у нас не лавка торговца сластями.
– Да, бурри-мемсахиб.
– Но похоже, юному Мансуру кажется, что это так.
Матин промолчал, но нахмурился с явным неодобрением.
– Он подъедает сласти и пьет нимбу-пани, которые оставлены на случай прихода гостей, – продолжала госпожа Рупа Мера.
– Я поговорю с ним, бурри-мемсахиб.
– Насчет сластей я не уверена, впрочем, – уточнила добросовестная госпожа Рупа Мера. – Он мальчик своевольный. А ты – ты никогда не приносишь мне чай вовремя. Почему никто в этом доме не заботится обо мне? Когда я жила в доме Аруна-сахиба в Калькутте, его слуга постоянно приносил мне чаю. А здесь никто даже не предложит. Живи я в собственном доме, все было бы иначе.
Матин, понимая, что со счетами на сегодня покончено, вышел, чтобы приготовить чай для госпожи Рупы Меры.
Минут через пятнадцать появилась трогательно-прекрасная Савита, пробудившись после дневного сна. Она вышла на веранду и застала мать за перечитыванием Арунова письма. Заливаясь слезами, она произнесла:
– Висюлек в уши! Он даже назвал это «висюльки в уши»!
Когда Савита узнала, в чем дело, ее охватил прилив сострадания к матери и негодования из-за поступка Минакши.
– И как она только могла? – воскликнула она.
За мягким характером Савиты скрывалась ее способность яростно защищать тех, кого она любит. Она была духовно независима, но в таком сдержанном ключе, что только самые близкие люди, хорошо ее знавшие, понимали, что ее желания и ее жизнь не определяются всецело тихим течением обстоятельств. Савита приголубила мать и сказала:
– Я поражена поступком Минакши. И обязательно прослежу, чтобы со второй папиной медалью ничего не случилось. Память о папе мне дороже, чем ее недалекие прихоти. Не плачь, ма. Я напишу ей немедленно. Или можем вместе написать, если хочешь.
– Нет-нет. – Госпожа Рупа Мера печально глядела в свою пустую чашку.
Когда вернулась Лата, новость потрясла и ее. Она была папочкиной дочкой и любила разглядывать его академические медали. Конечно, Лата ужасно расстроилась, когда их отдали Минакши. Что они могут для нее значить, недоумевала тогда Лата, по сравнению с тем, что они значат для его дочерей? И теперь ее правота подтвердилась таким ужасным образом. Арун тоже вызывал в ней негодование. Мало того что это случилось – с его ли согласия или из-за его попустительства, так он еще легкомысленно сообщает об этом в глупом и небрежном своем письме. Его грубые, мелкие попытки шокировать или задеть мать возмущали ее. Что до его предложения, чтобы она приехала в Калькутту и «сотрудничала», – тут уж Лата решила, что это она сделает в самую распоследнюю очередь на свете.
Пран пришел поздно, задержавшись на первом заседании комиссии по социальному обеспечению студентов, и застал свое семейство в полном раздрае, однако он слишком утомился, чтобы немедленно начать расспрашивать, что же произошло. Он сел в свое любимое кресло-качалку, реквизированную из Прем-Ниваса, и несколько минут предавался чтению. Чуть погодя он спросил Савиту, не хочет ли она прогуляться, и во время прогулки был вкратце посвящен в причину кризиса. Он попросил Савиту дать ему прочесть письмо, которое та написала Минакши. Не потому, что он не доверял суждениям своей жены, – совсем наоборот. Но он надеялся, что, не будучи Мерой и посему не испытывая слишком сильной боли от содеянного, мог бы удержать жену от необдуманных слов, способных спровоцировать необратимые действия. Семейные ссоры – из-за собственности или оскорбленных чувств – очень горькие события, и предотвращение их – почти гражданская обязанность.
Савита с радостью показала ему письмо. Пран прочитал его, кивая время от времени.
– Отлично, – сказал он совершенно серьезно, словно одобряя студенческое эссе. – Дипломатично, но наповал! Нежная сталь, – прибавил он уже совсем другим тоном и посмотрел на жену с удивлением и любопытством. – Я прослежу, чтобы оно ушло завтра.
Позднее пришла Малати. Лата пожаловалась ей насчет медали. Малати рассказала об опытах, которые им пришлось ставить в медицинском колледже, и госпожа Рупа Мера испытала достаточно сильное отвращение, чтобы отвлечься от своей обиды – хотя бы ненадолго.
За обедом Савита впервые заметила, что Малати влюблена в Прана. Это было очевидно: девушка украдкой смотрела на него поверх тарелки с супом, но избегала напрямую встречаться с ним взглядом. Савиту это нисколько не возмутило. Она приняла эту данность, поскольку знала, что муж преданно ее любит. Увлечение Малати было одновременно естественно и невинно. И совершенно очевидно, что Пран о нем ни сном ни духом. Он рассказывал о пьесе, которую поставил в прошлом году на День посвящения в студенты: «Юлий Цезарь» – типично университетский выбор (по выражению Прана), поскольку мало кто из родителей захотел бы, чтобы их дочери играли на сцене… но, с другой стороны, темы жестокости, патриотизма и смены власти в нынешнем историческом контексте звучали свежо как никогда. Недалекость умных мужчин, думала Савита, составляет половину их привлекательности. Она на секунду закрыла глаза и мысленно помолилась за его здоровье, за свое и за здоровье их еще не рожденного малыша.
Часть вторая
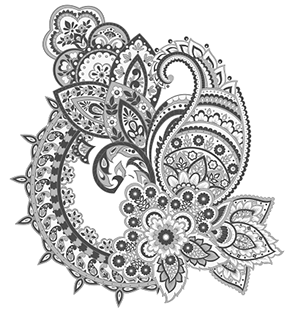
Утром в день Холи[95] Ман проснулся, улыбаясь. Он выпил не один, а несколько бокальчиков тхандая[96], сдобренного бхангом[97], и вскоре воспарил, точно воздушный змей. Он чувствовал, как потолок наплывает на него, – или это он сам плывет под потолок? Будто в тумане он увидел своих друзей Фироза и Имтиаза вместе с навабом-сахибом, прибывших в Прем-Нивас поздравить семейство Капур. Он вышел вперед, чтобы пожелать гостям счастливого Холи. Но смог только смеяться без умолку. Они вымазали его лицо краской, а он все хохотал и хихикал. Его усадили в уголок, и он смеялся, пока слезы градом не покатились по лицу. Потолок к тому времени уплыл на свое место, зато стены пульсировали чрезвычайно загадочно. Внезапно он вскочил, обхватил Фироза и Имтиаза за плечи и потащил к выходу.
– Куда мы? – спросил Фироз.
– К Прану, – ответил Ман. – Я должен отпраздновать Холи со своей невесткой.
Он сгреб два пакета с цветной пудрой и засунул их в карман курты[98].
– В таком состоянии тебе лучше не садиться за руль отцовской машины, – заметил Фироз.
– А, мы поедем на тонге, на тонге, – пропел Ман, размахивая руками, а потом снова обнял Фироза. – Но сперва выпейте тхандая. Вставляет потрясающе.
Им повезло. В то утро было немного свободных тонга, но одна из них катила мимо шагом, едва они вышли на Корнвалис-роуд. Все дорогу до университета лошадь нервничала, когда они проезжали мимо орущих праздничных толп. Тонга-валла получил от них вдвое против обычной стоимости поездки, а заодно они щедро вымазали розовой краской его лицо и зеленой – морду лошади.
Едва завидев, как они высаживаются из повозки, Пран радушно вышел им навстречу и повел в сад. Сразу за дверью веранды стояла широкая ванна, наполненная розовой краской, в которой плавало несколько футовых медных спринцовок. Прановы курта и паджама были насквозь мокрыми, а лицо измазано розовым и желтым порошком.
– А где моя бхабхи? – заорал Ман.
– Я не выйду! – сказала Савита из-за двери.
– Отлично! Тогда мы войдем внутрь! – крикнул Ман.
– О нет, не войдете, если у вас нет с собой нового сари для меня.
– Получишь ты свое сари, а теперь все, что мне нужно, – это фунт плоти, – сказал Ман.
– Очень смешно, – ответила Савита. – Можешь играть в Холи с моим мужем сколько душе угодно, но пообещай, что меня покрасишь только чуть-чуть.
– Да-да! Обещаю! Всего чуточку пудры, а потом – самую малость пудры для прекрасного личика твоей сестрички, и я буду удовлетворен – до самого следующего года.
Савита опасливо приоткрыла дверь. На ней был старый вылинявший шальвар-камиз, а вид у нее был премилый – смеющаяся, осторожная, каждую минуту готова броситься наутек.
Ман держал пакет с розовой пудрой в левой руке. Он покрасил немного лоб своей невестки. Она потянулась к пакету, чтобы покрасить его в ответ.
– И чуточку на щечки, – сказал Ман, продолжая обмазывать ее лицо.
– Хорошо, славно, – сказала Савита. – Очень хорошо. Счастливого Холи!
– И вот здесь еще капельку, – не унимался Ман, втирая пудру ей в шею, плечи и спину, крепко держа ее и слегка поглаживая, когда она пыталась вырваться.
– Ты настоящий хулиган, я больше никогда тебе не поверю! Пожалуйста! – взвизгнула Савита. – Хватит, отпусти меня, Ман, прошу – не в моем положении…
– Ах я хулиган? Вот как, значит? – Ман потянулся за кружкой и погрузил ее в ванну.
– Нет-нет-нет! Я не то хотела сказать. Пран, спаси меня! – крикнула Савита, смеясь и плача; госпожа Рупа Мера в тревоге выглянула в окно. – Только не жидкой краской, Ман, пожалуйста… – завизжала Савита что есть силы.
Но, несмотря на все ее мольбы, Ман выплеснул три или четыре полных кружки холодной розовой водицы ей на голову и размазал мокрую пудру по ее камизу на груди, хохоча без умолку.
Лата тоже смотрела в окно, потрясенная дерзким, фривольным нападением Мана, который явно воспользовался вседозволенностью праздничного дня. Она прямо почувствовала руки Мана на своем теле и затем холодную воду. К ее удивлению, да и к удивлению ее матери, стоящей рядом с ней, она ахнула и содрогнулась. Но ничто не могло заставить ее выйти на улицу, где Ман продолжал предаваться полихромным удовольствиям.
– Хватит! – крикнула Савита в гневе. – Что вы за тру́сы? Почему не поможете мне? Он же под бхангом – я видела его зрачки, – только гляньте ему в глаза!
Прану и Фирозу удалось отвлечь Мана, вылив на него несколько полных спринцовок цветной водицы, и тот побежал в сад. Ноги у него заплетались, и он рухнул в клумбу желтых канн. Затем высунул голову из цветов, чтобы пропеть одну строчку: «Кутилы, это Холи в стране Брадж!» – и снова присел, исчезнув из виду. Минуту спустя он выпрыгнул, словно кукушка из часов, повторил строчку еще раз и снова спрятался. Савита, горя жаждой мщения, наполнила медную лоту цветной водой и сбежала по лестнице в сад. Она подкралась к клумбе. В этот самый момент Ман снова встал, чтобы запеть. Как только его голова показалась среди цветов, он увидел Савиту и кувшин с водой, но было уже слишком поздно. Савита, решительная и яростная, выплеснула все содержимое ему в лицо и на грудь.
При виде ошарашенного выражения на его физиономии Савита начала хихикать. Но Ман снова сел, на этот раз уже рыдая:
– Бхабхи меня не любит! Моя бхабхи меня не любит!
– Конечно не любит! – подтвердила Савита. – А за что мне тебя любить?
Ман заливался слезами, он был безутешен. Когда Фироз попытался поднять его на ноги, он прижался к нему.
– Ты мой единственный дружок! – всхлипывал он. – А сласти где?
Теперь, когда Ман был нейтрализован, Лата решилась выйти и сдержанно поиграть в Холи с Праном, Фирозом и Савитой. Госпоже Рупе Мере тоже досталось немножко краски.
Но Лата не переставала думать, каково это, когда тебя вот так страстно, открыто и интимно вымазывает краской расшалившийся Ман. И это человек, который уже помолвлен! Она никогда не встречала никого, кто вел бы себя так, как Ман, – а Пран даже не рассердился. Странная семья эти Капуры, подумал Лата.
Тем временем Имтиаз, который, как и Ман, перебрал бханга, сидел на крыльце, мечтательно улыбаясь миру, и непрерывно бубнил себе под нос какое-то слово, очень напоминающее «миокардический». Он его то бормотал, то пропевал, а иногда казалось, что он задает миру вопрос – величайший и одновременно не имеющий ответа.
Время от времени он с глубокой задумчивостью трогал маленькую родинку у себя на щеке.
Группка из двадцати студентов или около того – разукрашенных почти до неузнаваемости – показалась на дороге. Среди них даже было несколько девушек, и у одной из них была теперь фиолетовая кожа, но по-прежнему зеленые глаза Малати. Молодежь уговорила профессора Мишру, жившего неподалеку, через пару домов от Прана и его семейства, присоединиться к ним. Не узнать его китоподобное пузо было невозможно, и к тому же краски на профессоре было совсем немного.
– Какая честь, какая честь! – воскликнул Пран. – Но это я должен был прийти к вашему дому, а не вы к моему.
– Оставьте церемонии, не терплю условностей в подобных случаях, – ответил профессор Мишра, поджав губы и прищурив глаза. – Лучше скажите, где очаровательная госпожа Капур?
– Привет, профессор Мишра! Как приятно, что вы пришли поиграть с нами в Холи, – приблизилась Савита с горсткой цветной пудры в руке. – Добро пожаловать! Добро пожаловать, все вы! Привет, Малати, мы все гадали, что с тобой стряслось, – ведь уже почти полдень. Проходите, проходите…
Немножко краски легло на широкий профессорский лоб, профессор поклонился.
Но тут Ман, который до этого безвольно висел на плече Фироза, отбросил соцветие канны, с которым он забавлялся, и с широкой доброй улыбкой направился к профессору Мишре.
– Так это вы и есть тот самый пресловутый профессор Мишра, – приветливо и восторженно произнес он. – До чего приятно познакомиться с таким гнусным типом! – Он тепло обнял профессора. – Скажите мне, а вы и вправду Враг Человечества? – ободряюще спросил Ман. – До чего примечательное у вас лицо, а мимика какая подвижная! – промурлыкал он в благоговейном восхищении, когда у профессора отвисла челюсть.
– Ман! – предостерег Пран.
– И мерзкая! – сказал Ман с искренним одобрением.
Профессор Мишра уставился на него.
– Мой брат называет вас «Моби Дик, великий белый кит», – продолжал Ман в совершенно дружеском тоне. – Теперь я понимаю почему. Пойдемте же поплаваем, – великодушно пригласил он профессора, указывая на ванну с розовой водой.
– Нет-нет, я не думаю, что… – начал профессор, оторопев.
– Имтиаз, дружище, помоги мне, – позвал Ман.
– Миокардический, – сказал тот, выражая тем самым свою полную готовность; они подняли профессора под руки и поволокли к ванне.
– Нет-нет, я схвачу воспаление легких! – завопил профессор Мишра гневно и ошеломленно.
– Прекрати, Ман! – потребовал Пран.
– Что скажете, доктор-сахиб? – спросил Ман у Имтиаза.
– Противопоказаний нет, – заверил Имтиаз, и они вдвоем затолкали профессора в ванну.
Он поднимал волны в ванне и расплескивал вокруг розовую жижу, пытаясь выбраться, мокрый до нитки, ошалевший от злости и стыда. Ман, глядя на него, не удержался от радостного смеха. Имтиаз тем временем благостно ухмылялся. Пран сел на ступеньку, уронив голову на руки. У всех прочих на лицах застыл ужас.
Выбравшись из ванны, профессор Мишра постоял секунду на веранде, дрожа от влаги и прилива эмоций, а потом удалился, капая розовым, по ступеням в сад. Пран был настолько потрясен, что не в силах был даже извиниться. С негодующим достоинством громадная розовая фигура вышла из калитки и исчезла на дороге.
Ман поглядел на собравшихся, ища поддержки. Савита старалась не смотреть на него, все остальные стояли притихшие и подавленные, и Ман смутно почувствовал, что снова почему-то впал в немилость.
2.2Переодевшись в чистую курту-паджаму после долгого отмокания в ванне, пребывая под счастливым воздействием бханга и теплого вечера, Ман уснул в своей постели в Прем-Нивасе. И снился ему необычный сон: он собирался сесть на поезд до Варанаси, чтобы поехать к своей невесте. Он понимал, что если он не уедет на поезде, то его посадят в тюрьму, только не знал – за какое преступление. Большой отряд полицейских – дюжина констеблей во главе с генеральным инспектором Пурва-Прадеш – сформировал вокруг него кордон, и его вместе с многочисленными селянами в заляпанной грязью одежде и двумя десятками нарядных студенток загнали в вагон. Но он, Ман, забыл что-то и молил, чтобы его выпустили и позволили забрать забытое. Никто не слушал его, и он все больше ожесточался и расстраивался. А потом он рухнул к ногам начальника полиции и билетного контролера и умолял их дать ему возможность выйти: он что-то забыл – не то дома, не то еще где-то – может, на другой платформе, и ему кровь из носу необходимо выйти и вернуть пропажу. Но тут раздался свисток, и его затолкали обратно в поезд. Некоторые женщины смеялись над ним, а он все больше отчаивался. «Прошу, дайте мне сойти», – настаивал он, но поезд, отъехав от станции, набирал ход. Ман поднял глаза и увидел красно-белую табличку: «Для остановки потянуть за цепь. Штраф за ненадлежащее использование – 50 рупий». Он запрыгнул на полку. Селяне попытались ему помешать, но он вырвался от них, схватил цепь и дернул ее что было сил. Но стоп-кран не сработал. Поезд ускорялся, и женщины хохотали над ним уже в открытую. «Я кое-что оставил там», – без устали повторял он, указывая туда, откуда они все уезжали, как будто поезд мог прислушаться к его объяснениям и остановиться. Вынув из кармана бумажник, Ман взывал к кондуктору: «Вот пятьдесят рупий. Только остановите поезд. Умоляю вас – вернемся назад. Я не против отправиться в тюрьму!» Но кондуктор продолжал проверять билеты у других пассажиров, отмахиваясь от Мана, словно тот был безобидным прилипчивым сумасшедшим.
Ман проснулся в поту и испытал облегчение при виде знакомых предметов обстановки своей комнаты в Прем-Нивасе – мягкое кресло, вентилятор под потолком, красный ковер на полу и пять-шесть триллеров в мягкой обложке.
Немедленно выбросив дурной сон из головы, он пошел умываться. Но, увидев в зеркале свою ошарашенную физиономию, живо припомнил лица тех женщин из сна. «Почему они надо мной смеялись? – спросил он сам себя. – И был ли тот смех недобрым?.. Это всего лишь сон», – убеждал он себя. Но сколько бы ни плескал он себе воду в лицо, он никак не мог избавиться от мысли, что объяснение существует, но где-то за пределами его понимания. Он закрыл глаза, стараясь воскресить в памяти обрывки сна, но тот внезапно померк, и теперь от него осталось лишь тоскливое, щемящее чувство, что он где-то что-то забыл. Лица женщин, селян, кондуктора, полицейского стерлись начисто. «Но что же я мог забыть-то? Почему они все надо мной смеялись?»
Откуда-то из недр дома он услышал резкий окрик своего отца:
– Ман! Ман, ты проснулся? Через полчаса гости начнут прибывать на концерт.
Он не ответил и посмотрел на себя в зеркало. Недурственное лицо: живое, свежее, с правильными, сильными чертами. Вот только залысины на висках – как-то это несправедливо в его двадцать пять. Через несколько минут пришел слуга и сообщил, что отец ждет его во внутреннем дворе. Ман осведомился у слуги, не приехала ли еще его сестра Вина, и узнал, что она с семейством приезжала и уже отбыла. Вина, вообще-то, заходила к нему в комнату, но, увидев, что он спит, не велела своему сыну Бхаскару его беспокоить.
Ман нахмурился, зевнул и открыл дверцу платяного шкафа. Его не интересовали ни концерты, ни гости, ему хотелось снова улечься спать, на этот раз без всяких там снов. Так он обычно и проводил вечер Холи в Варанаси – отсыпаясь после бханга.
Внизу начали собираться гости. Большинство из них были в новых нарядах и, не считая легкой красноты под ногтями и под волосами, полностью избавились от разноцветных последствий утреннего веселья. Но все находились в прекрасном расположении духа, и не только благодаря воздействию бханга. Концерты в доме Махеша Капура были ежегодным ритуалом и проходили в Прем-Нивасе с незапамятных времен. Еще его отец и мать устраивали их, и всякий помнил, что концерты отменялись только в те годы, когда хозяин дома сидел в тюрьме.
Сегодня вечером, как и предыдущие два года, пела Саида-бай[99] Фирозабади. Она жила неподалеку от Прем-Ниваса и происходила из семьи певцов и куртизанок. Голос у нее был красивый, глубокий и чувственный. Ей было около тридцати пяти, но слава ее как певицы распространилась за пределы Брахмпура, и теперь ее приглашали участвовать в концертах даже в таких отдаленных городах, как Бомбей и Калькутта. Нынче вечером многие гости Махеша Капура пришли не столько затем, чтобы насладиться радушием хозяев – или, точнее, ненавязчивой и скромной хозяйки, – сколько для того, чтобы послушать Саиду-бай. Ман, который предыдущие праздники Холи провел в Варанаси, слышал ее имя, но никогда не слышал ее пения.