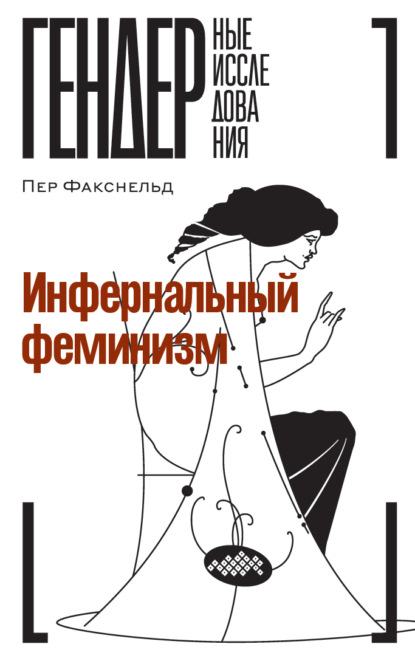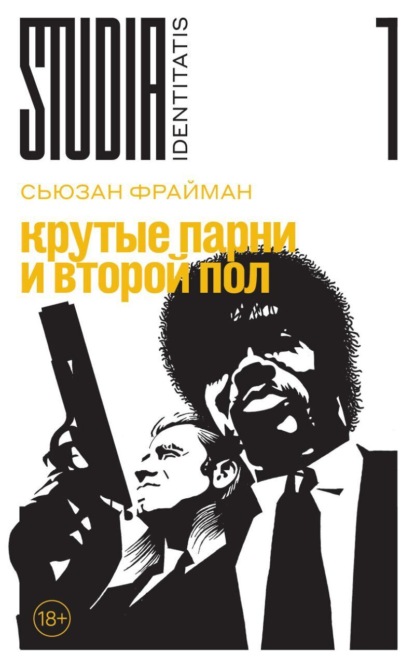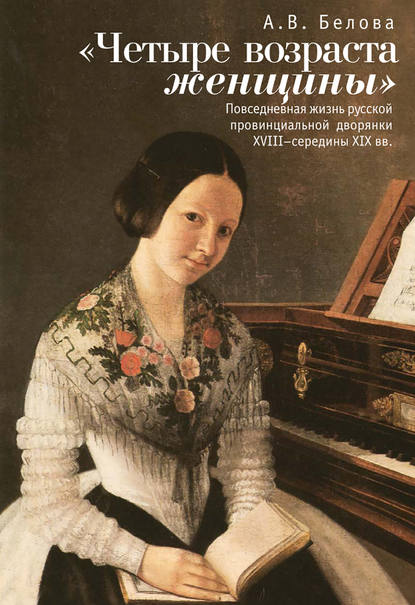Полная версия
Изображая женственность. Женщина как артистка в раннем русском кино
Зритель, как и мужчины, снова оказывается в позиции наблюдателя, пока молодая женщина представляет собой «зрелище». Оба явно сражены девушкой, и, пока Ольга танцует, гость Палицына больше не может сдерживаться: он встает с места, подходит к Ольге и грубо пытается ее поцеловать. Показательно, что в лермонтовском оригинале эта деталь отсутствует: от Ольги в романе требуется терпеть только мужские «пьяные глаза, дерзко разбирающие ее прелести»[105]. Когда в фильме Ольга отталкивает гостя и в смятении бежит к себе в комнату, жена думает только о том, чтобы просить прощения у гостя. Палицын, также взбудораженный танцем Ольги, следует за ней в ее комнату и пытается взять девушку силой. Только когда входит жена и застает Палицына врасплох, он останавливается. Она грозит кулаком Ольге, которую, очевидно, считает виновной в поведении своего мужа, и выпроваживает мужа из комнаты. И все же по ходу чардынинского фильма Ольга оказывается более удачливой, чем персидская княжна. Она находит счастье в любви с мужчиной своего возраста, сыном Палицына Юрием, и фильм нехарактерно заканчивается тем, что молодая пара намеревается жить долго и счастливо[106].
И хотя очень разные судьбы дранковской персидской княжны и чардынинской Ольги, несомненно, намечают сдвиг в сторону женской точки зрения, которая (согласно Мириам Хансен) отличает раннее русское кино от ранних кинематографий других стран[107], все же более существенным для данной дискуссии является тот факт, что Чардынин использует те же кинематографические приемы, что и Дранков. Причем ровно по тем же причинам – чтобы сосредоточить внимание зрителя на молодой героине, охарактеризовать ее как объект (мужского) желания и вместе с этим показать и власть, которой она обладает, и сопутствующую парадоксальную уязвимость.
Более того, не исключено, что танцевальная сцена из более раннего «Стеньки Разина» и вдохновила Чардынина на разработку этой сцены. Вхождение Чардынина в русскую кинопромышленность началось с поступления на московскую студию Ханжонкова в качестве актера в 1908 году. В 1909-м он начал работать на Ханжонкова как режиссер, там и оставался, пока в начале 1916-го не перешел к конкурирующей продюсерской компании Дмитрия Харитонова. По ходу своей карьеры Чардынин приобрел репутацию плодовитого режиссера, чьи фильмы неизменно пользовались огромной популярностью у зрителей. При этом художественного признания, которое получили другие авторы раннего кино, такие как Евгений Бауэр и Яков Протазанов, Чардынин так и не добился. Верно, не будет преувеличением сказать, что если Бауэр считался большим новатором, то Чардынин был его большим имитатором. В своих мемуарах Ханжонков называет его, пусть и несправедливо, «человеком без выдумки»[108], а критики отмечали – и, надо сказать, не всегда в негативном ключе – его склонность из фильма в фильм переносить, лишь с небольшими изменениями, одни и те же формулы. Это могут быть темы, типы персонажей, декорации, сюжетные коллизии или даже костюмы, которые имели успех в предыдущих картинах, причем как его собственных, так и сделанных другими режиссерами. Невозможно отрицать, что сцена с танцем чардынинской Ольги имеет поразительное сходство с выступлением персидской княжны в «Стеньке Разине». В самом деле, между двумя этими эпизодами существует всего одно существенное различие: сцена из «Стеньки Разина» снята на натуре, Чардынин же переносит танец Ольги в интерьер. Большинство рецензентов того времени отмечали умелое и практически повсеместное использование натурных съемок в «Вадиме»[109], интерьерная съемка обособила сцену с танцем от всего остального фильма. Поместив выступление Ольги в помещение, Чардынин добавил к нему оттенок стилизации, «постановочности», словно акцентировав, что к 1910-му выступление стало признанной «единицей кинопостановки». Вероятно, это объясняет, почему тексты того времени все как один игнорировали танец, описывая достоинства фильма: в первые годы русского кинопроизводства рецензенты, как правило, уделяли внимание тому, что считалось новаторским. В итоге показное заимствование Чардыниным многих деталей сцены с танцем персидской княжны, вероятно, является самым ярким показателем того, что создатели первого русского игрового фильма заслуживают звания кинематографических художников, а сама полоненная персиянка может претендовать не только на звание первой танцовщицы в русском кино, но и его первой, истинно кинематографической героини.
Луша: танец, инцест, самоубийство
Образ танцующей крестьянки вновь появится два года спустя в необычном фильме, который заслуживает куда большей известности[110]. Как следует из красноречивого названия, «Снохач» (1912)[111] рассказывает шокирующую историю. Луша, молодая крестьянка, замужем за безвольным пьяницей Иваном (в исполнении будущего короля экрана Ивана Мозжухина). Жизнь Луши только ухудшается, когда ее красота привлекла внимание свекра. Как и следовало ожидать, все решительные попытки Луши сопротивляться тщетны: пока пьяный Иван лежит в поле во время вспашки, свекор насилует Лушу тут же. По селу пошли пересуды, свекровь советует Луше спасать душу молитвой. Иван бездействует, и его отец продолжает добиваться Луши. Вызванная им на ночное свидание, Луша вешается, тем самым доведя свекра до безумия.
Многочисленные сведения о создании «Снохача» остаются неподтвержденными. Неизвестен режиссер – фильм приписывают Александру Иванову-Гаю и/или Петру Чардынину; нет общего мнения в отношении некоторых актеров; и оператор Александр Рылло – фигура загадочная. И все же фильм демонстрирует почти преждевременную кинематографическую глубину. Как заметила Дениз Янгблад, этот фильм (который она упоминает под названием «Любовник невестки» [The Daughter-in Law’s Lover]),
становится одним из первых признаков «смены парадигмы» в русском кино: от заснятых картин или «аттракциона» к фильму как фильму, целиком созданному при помощи средств киновыразительности. Это не рудиментарная отснятая пьеса, а история, которую можно рассказать гораздо выразительнее на экране, чем на сцене. Темы насильственного секса, инцеста, смерти введены в фильм не только тем, что показано на экране, но и тем, как сцены смонтированы[112].
Более того, многие сугубо кинематографические средства выразительности, найденные в относительно сыром виде в «Стеньке Разине», появляются и в этом более позднем фильме. В частности, мизансценирование, работа с природными, экстерьерными сценам и использование различных методов съемки и движения камеры. Все они усовершенствованы и доработаны в «Снохаче», и эти способы не встречаются ни в фильмах, вышедших на экран в 1912-м, ни в более ранних картинах. Как мы вскоре увидим, отношение создателей фильма к женским и мужским персонажам и к теме их взаимоотношений здесь также будет более сложным.
Мизансцена
Впервые свекор осознаёт влечение к Луше, когда наблюдает за ее работой в поле, но, как и следовало ожидать, именно во время исполнения Лушей танца его желание становится необоримым. Сцена танца – одна из наиболее новаторских, мощных и четко выстроенных в фильме, но очевидно и то, что своим существованием она по-прежнему обязана дранковской постановке танца княжны в «Стеньке Разине».
Дневные труды окончены, и крестьяне хотят отдохнуть. Выстроившись полукругом, который создает скромное сценическое пространство перед ними, крестьяне настойчиво призывают Лушу станцевать. И хотя она трижды просит мужа составить ей пару, Иван каждый раз отказывается, отдаляясь от своей жены к крайней левой стороне групповой композиции и кадра и оставляя женщину на центральной сцене в одиночестве. Когда она выходит на передний план, то, как и многие танцовщицы до нее, автоматически становится точкой притяжения всеобщего внимания – и персонажей, и зрителей. Луша танцует с такой живостью и чувством, что зритель, как и крестьяне, увлечен ее движениями и не замечает: среди смотрящих находится и ее свекор. Он хоть и стоит прямо посередине наблюдающей толпы, но оказывается скрыт от глаз танцующей девушкой. Поэтому для зрителя и становится полной неожиданностью, когда свекор внезапно встает, выходит на передний план и, отбрасывая картуз и армяк, готовится сделать то, в чем отказал Луше ее безвольный муж – танцевать с ней.
Распаленный их танцем, свекор не может удержаться и поддается желанию: он обхватывает невестку за талию и, приподняв ее над землей, целует в губы, сбивая при этом платок – традиционный символ замужества у крестьянок[113]. Луша замирает, но уже через секунду она в ужасе обхватывает голову руками. Иван безмолвно взирает, едва ли выражая хоть какую-то реакцию. Наступает недолгое затишье, но музыканты не прерывают игру, и вот уже следующая крестьянка выходит танцевать, привлекая внимание односельчан. Зрительское же внимание остается на трех центральных героях и на драме, постепенно разворачивающейся между ними. В отличие от других крестьян, Иван, его отец и Луша недвижимы, словно окаменев от ужаса и важности произошедшего.
Этот украденный свекром поцелуй явно предвосхищает будущее изнасилование девушки. За счет четкой расстановки трех ключевых персонажей в кадре пусть и не столь явно, но обозначено неминуемое присвоение отцом роли своего сына. И Иван, и его отец стоят с левой стороны экрана: Иван – на заднем плане и на несколько шагов ближе к центру, чем отец, отец же – ближе к передней части кадра, но у самого левого края. Луша тем временем стоит впереди, у правого края кадра: по диагонали от Ивана, своего все более отчуждающегося супруга, и прямо напротив свекра. Благодаря этой расстановке зарождающийся между свекром, невесткой и сыном/мужем треугольник обретает визуальное воплощение на экране.
К тому же Луша и свекор расположены и на одной прямой, и на переднем плане, что позволяет создателям фильма обозначить: эти двое формируют новую «пару». Еще лучше эту перемену поясняет последующее хоть и неявное, но все же тщательно спланированное и замышленное создателями фильма, движение героев в кадре. Иван медленно делает шаг в сторону жены, но затем останавливается, смотрит в противоположном направлении, на своего отца, и неожиданно делает шаг назад – прочь от Луши. Надевая картуз, он смотрит вниз и отворачивается от жены. Пока Иван отступает, его отец делает один уверенный шаг к Луше, заслоняя Ивана. Так режиссер обозначает: здесь отец утверждает доминирование над Иваном. Вскоре он утвердит и свою власть над телом его жены. Луша, несомненно, сознаёт, что ни один, ни другой добра ей не принесет, и отворачивается от обоих, склоняя голову к земле и тревожно укладывая свои растрепанные выбившиеся косы.
Эпизод занимает всего несколько секунд, танцы продолжаются, но создателям фильма удается донести до зрителя огромное количество информации одной расстановкой актеров в кадре и координацией их движений и жестикуляций относительно друг друга и кадра в целом. Сложное, сверхточное построение мизансцены, которое предлагают создатели «Снохача», достигает того уровня нюансировки, какой редко можно встретить в фильмах 1912 года; вместе с тем очевидно, что такое мизансценирование отталкивается от своего более раннего образца в «Стеньке Разине».
С женской точки зрения: природный фон и подвижная камера
В остальном, однако, «Снохач» сильно отличается от «Стеньки Разина». То, как вдумчиво, изучающе подают создатели главных героев, резко контрастирует со схематичной обрисовкой в «Стеньке Разине»; не похож «Снохач» и тем, с чьей стороны задано повествование, по крайней мере в первых сценах. Если в «Разине» зрителя подталкивали к тому, чтобы отождествлять себя с мужчиной-разбойником и видеть персидскую княжну его глазами и глазами его товарищей, то в «Снохаче» авторы развивают тенденцию, присутствующую также в чардынинском «Вадиме» и направленную на утверждение повествовательной точки зрения виктимизированной женской героини. Таким образом, на протяжении всего «Снохача» создатели фильма стремятся побудить зрителя к тому, чтобы он отождествлял себя с Лушей и сочувствовал ее беспомощному положению.
Одним из ключевых методов, которым авторы достигают своей цели, является неизменное использование экспрессивных возможностей природного фона, в особенности естественных света и тени, – на тридцать минут фильма только одна сцена снята в интерьере. Их обращение с природой и стихиями (особенно с ветром) для передачи Лушиной жуткой повести, действительно, сравнимо с кадрами из Тарковского. При всей захватывающей красоте и глубине некоторых пейзажных кадров природа в фильме не является просто привлекательным задником. Напротив, она разнообразно используется, чтобы задать настроение и атмосферу, отразить душевное состояние героев и предсказать их неизбежную судьбу.
Показательно, что именно Лушины точка зрения на мир и ее положение в нем наиболее часто выражены через природные образы. Поразительно и то, что визуальные, а значит, и эмоциональные характеристики природного мира, в котором существует Луша, кардинально меняются по ходу фильма. В первых сценах фильма Луша снята на фоне природы, которая показана плодородной, богатой и щедрой. Так, они с мужем лежат на красивом лугу, утопающие в высоких травах и диких цветах. Позже, когда женщина возвращается к своим повседневным заботам, босая и с голыми ногами, она излучает силу, энергию и витальность. Крестьянка получает чувственное удовольствие от природы вокруг, сладко потягиваясь от тепла, разлитого солнцем по ее оголенной коже. Однако после сцены с танцем и украденным поцелуем свекра природный мир, окружающий Лушу, постепенно претерпевает трансформацию, равно как и ее отношения с ним. Мягкие лучи солнца сменяет безжалостный ветер, да и природа вокруг все чаще представлена враждебной и грубой: так, мягкие травы из первых сцен фильма заменены выжженными бороздами полей, которые кажутся настолько бесплодными, что зрителю впору усомниться, способны ли они вообще дать урожай, невзирая на все старания Луши с плугом.
Точно так же беспомощность и смятение Луши, безнадежность ее ситуации выражены в пейзаже на пути женщины, когда она после изнасилования отправляется к колдуну. Глубоко в тени, окруженная густыми зарослями и деревьями, Луша пытается править лодку по реке. И хотя течение не сильное, лодку то и дело сносит в направлении, противоположном тому, что держит Луша. Все же ей удается причалить. И как только она выходит на заросший берег, происходит что-то странное: камера начинает двигаться, медленно панорамируя слева направо и следуя за движением героини. Берег крутой, и, поднимаясь, Луша выходит за рамку кадра. Однако же побег невозможен. Быстрый монтажный стык, и камера уже поджидает Лушу на вершине склона. Такое сочетание киноприемов повторяется дважды, создавая почти невыносимое напряжение. И хотя иногда кажется, что Луша сможет ускользнуть от взгляда камеры, – она не сможет. При такой съемке камера перестает быть пассивным наблюдателем событий и становится антагонистом, зловещим двойником беспощадного хищного свекра.
Камера продолжает следить за девушкой на пути к заброшенной мельнице, где живет колдун. Луша движется почти по сюрреальному ландшафту: крутые склоны усеяны обрушенными камнями, валунами, мертвыми деревьями, покинутыми домами и другими преградами. В этой и других сценах после судьбоносного танца Луши показано, как она угнетена агрессивной и злобной природной средой, которая предстает ярким символом социальных и культурных обычаев, поработивших женщину. Как формулирует Хансен, в сценах после танца на Лушу «давит заговор между миром вещей (выжженные борозды, безжалостный ветер, огромные камни и щебень на пути к мельнице) и социальными условиями патриархата»[114]. Глядя на нее, зритель просто не может не ощущать сострадание и обреченность.
Луша: от жертвы к автору собственной судьбы
Описанные выше киносредства делают очевидным тот факт, что, как бы горячо ни желал зритель, чтобы Луша сбежала, она не сможет этого сделать. На обратном пути в село ее свекор продолжает домогаться ее, и она не может ему отказать. Как поясняет Янгблад: «Насилуя жену своего сына, отец… „всего-то“ берет то, что ему причитается по деревенскому обычаю»[115]. И такова, по-видимому, была реальность многих молодых крестьянок того времени. В работе 1879 года «История русской женщины» историк С. Шашков, оценивая механику снохачества, подчеркивал, что невестка не имела никакого права отказать свекру в его посягательствах. Генриетта Мондри резюмирует выводы Шашкова:
…вся семья со стороны мужа, включая и самого мужа, оказывала давление на молодую невестку, чтобы та вступила в сексуальные отношения со свекром в знак покорности деспотичным запросам патриарха в крестьянской семье. Страх домочадцев перед ним настолько силен, что девушка, которая откажется стать снохачкой, подвергается тирании и унижению со стороны остальных членов семьи[116].
Впрочем, Луша настолько полна решимости сопротивляться, что придумывает выход из ситуации, прибегая к тому, что Хайде Шлюпманн называет «окончательным отказом», то есть к самоубийству. В этом отнюдь не сентиментальном фильме сцена с самоубийством, тем не менее, должна шокировать. Она начинается, когда Луша, одетая в простую белую ночную рубашку, на которую спадают ее длинные распущенные волосы, в тиши туманной ночи покидает дом. Зритель знает, что она направляется на свидание со свекром, так как в предыдущей сцене он приказал ей сделать это, отмахиваясь от мольбы Луши оставить ее в покое. Более того, когда Луша выходит, у двери внезапно появляется ее свекровь и гневно обращается к ней: «Знаю, распутная, к кому направляешься…» Девушка смотрит на нее с сожалением и печалью, но ничего не отвечает и решительно уходит в туман. Дальше авторы фильма через монтажный стык показывают свекра, который украдкой приближается к клети, которую назначил местом встречи. Подходя к двери, он постоянно оглядывается, проверяя, не видит ли кто его, и все еще оглядывается, когда, наконец, отворяет дверь. Следующий кадр внезапно показан с обратной точки: мы внутри хижины и смотрим на другую сторону двери, которую вот-вот откроет мужчина.
В этот момент освещение минимально: внутри хижины почти полная темнота, и зритель может видеть только несколько тонких полос света, которые пробиваются через скверно подогнанную дверь. Но как только свекор открывает ее, свет заливает хижину, и зритель понимает, что она не пуста: там повешенная Луша. Зритель видит тело девушки еще до снохача, так как, заходя в клеть, тот все еще оглядывается. Поэтому он и натыкается на ее обмякший труп. Моментально сообразив, что натворила его невестка, снохач в ужасе выбегает из клети. Для зрителя, однако, такая ретировка не предусмотрена: на семь секунд камера задерживает взгляд на мертвом теле ниже пояса и, таким образом, вынуждает аудиторию созерцать и размышлять над судьбой девушки. Более того, важно и то, что это зрелище не предполагает скопофильное удовольствие, скорее – уродливую действительность Лушиной смерти. Так происходит благодаря тому, что авторы фильма отказываются эстетизировать мертвое тело или окружающее неприютное пространство. В самом деле, темная клеть, в которой Луша повесилась, является мощным символом не только ее будущей могилы, но и угнетающего, исключающего всякую жизнь социального положения, которым эта энергичная девушка оказалась стеснена и раздавлена.
Однако, как следует из описания самоубийства у Шлюпманн, поступок Луши не может рассматриваться как пассивное принятие поражения. Напротив, он представлен создателями фильма, понят другими героями и задуман Лушей как акт неповиновения и попытка разговора. На протяжении всего фильма мы видим, как девушка пытается бросить вызов воле ее свекра и избежать его посягательств, мы также видим ее попытки, неоднократные и всегда безуспешные, завести разговор со своими родственниками – с Иваном, со свекровью и с самим свекром, – чтобы заручиться их поддержкой в ее сопротивлении патриарху и убедить их в неправильности того, к чему он ее принуждает. Парадоксальным образом самоубийство Луши позволяет ей достичь обеих целей. Ибо, как настойчиво утверждала Элизабет Бронфен, в тех нарративах, культурах и обществах, которые неразрывно связывают женственность с телом и объективацией, женское тело как таковое порабощает женщину[117]. Мир «Снохача» и есть тот самый случай: страдания Луши вызваны такими неизменными факторами, как ее пол, физическая красота и социальные и культурные убеждения. Следовательно, единственный способ, которым она может вернуть себе субъектность, – это «отринуть» или «уничтожить» свое тело через самоубийство[118]. С такого ракурса момент Лушиного саморазрушения парадоксальным образом становится актом самоутверждения. Как пишет Бронфен:
Выбор смерти выступает как женская стратегия, в рамках которой написание телом – это способ избавиться от гнета, связанного с женским телом. Инсценировка развоплощения как формы бегства от личных и социальных ограничений служит критикой тех культурных установок, которые сводят женское тело к позиции зависимости и пассивности, к уязвимому объекту сексуальных вторжений[119].
Выходит, когда Луша вешается, она собственноручно превращает свое тело из источника удовольствия в объект террора. Она отказывает снохачу в том, что он требует, и этим бросает вызов не только его патриархальным представлениям о природе и роли женщины, но и его патриархальному авторитету и, воистину, его вере в себя.
«Полная сцена» и снохач: от угнетателя к угнетенному
Итак, самоубийство Луши – мощный и красноречивый жест. Он показывает ее как сильную, решительную девушку, которая не соглашается пассивно следовать укоренившему патриархальному праву снохачества. И все же «Снохач» не заканчивается долгим планом мертвого тела девушки. Вместо этого, вероятно, встревоженные криками патриарха, прибывают Иван и его мать, они срезают веревку с телом Луши и уносят ее труп обратно в дом. Покидая клеть, Иван бросает на отца полный отвращения взгляд, явно обвиняя его в смерти своей жены. Поразительно все же, что камера не следует за Иваном, когда он уносит Лушу с места ее смерти, как мог ожидать зритель. Напротив, камера остается позади, обращенная на свекра, который делает шаг в ее сторону. Это любопытное движение словно бы намекает, что с этого момента снохач будет находиться в центре внимания, как и было обещано его названием ленты. Действительно, ровно это и происходит: далеко не останавливаясь на смерти Луши, фильм длится почти пять полных минут, на протяжении которых камера преследует снохача так же неотступно, как ранее она, да и сам снохач преследовали Лушу.
И вот мы движемся за ним по пути домой, где Иван уложил тело своей жены, наблюдаем, как он пытается выразить сыну свое раскаяние, на что тот лишь в ужасе отшатывается от отца. Мы наблюдаем, как в поисках прощения старый патриарх припадает к другому источнику: склонив голову перед иконой, которая висит в углу, он начинается молиться. Отвернувшись от иконы, он явно потрясен присутствием трупа Луши и не может заставить себя прикоснуться к ней, хотя, кажется, хочет этого. Вместо этого он бежит из хаты, а потом из села. Камера, разумеется, следует за ним в его пробеге, и финальная сцена фильма изображает снохача бредущим вдоль ветреного берега реки. Босой, обезумевший и терзаемый случившимся, невидящий и недвижимый, он взирает на реку, очевидно, воскрешая в памяти кошмарные события минувшей ночи и каменея от ужаса.
Современному зрителю при первом просмотре может показаться, что эти финальные кадры ослабляют общее воздействие фильма, ведь после напряжения, динамизма и новизны предыдущих двадцати пяти минут финал выглядит медленным и конвенциональным. Кажется, что такая фильмическая «кода» противоречит и всему предшествующему повествованию, которое, как мы видели, участливо изображало события с точки зрения Луши. Однако, как отмечает Хансен, такой переход к мужской точке зрения не является полной неожиданностью, поскольку ранее в фильме авторы снабдили снохача «долей субъектности», когда его «первоначальное признание неудачи сына с Лушей» выделили в отдельном титре: «Тоскует ее душа, не любит она моего Ивана»[120].
Этот словесный индикатор, однако, не единственный способ, которым авторы фильма прокладывают путь к точке зрения старика. Сцена, к которой обращается Хансен, утверждает субъектность героя и визуально, то есть кинематографически. В начале фильма показана ссора между Лушей и ее мужем. Жалуется ли она на его пренебрежительное отношение к ней, на его алкоголизм или на его нежелание помогать ей в поле? Как бы то ни было, Иван отказывается слушать; все, что ему хочется делать, – спать. В следующей сцене Луша безуспешно пытается его разбудить. Появляется свекор и тоже пытается растолкать своего ленивого сына. Свой гнев он обращает и на Лушу, ведь, в конце концов, она тоже отлынивает от работы, вот он и отправляет ее обратно в поле. Луша подчиняется, но она еще не отошла от перебранки с мужем и останавливается у дерева, чтобы собраться, прежде чем возвращаться к другим рабочим, которые видны на заднем плане. Заметив на ее лице слезы, свекор искренне обеспокоен ее состоянием, он приближается к ней и пытается утешить, по-отцовски поглаживая по голове и тихо подталкивая вернуться к работе. Успокоившись, Луша и вправду возвращается в поле, оставляя свекра у дерева. Он смотрит, как молодая женщина уходит, в этот момент и появляется титр. Дальше мы возвращаемся к свекру, который стоит на том же месте. На мгновение он замирает, затем, словно от физической боли, резко хватается за сердце и отшатывается к стволу дерева, ища опоры. Там он и остается, и лицо его выражает потрясение и ужас от эмоций, которые испытывает старик. Кадр держится несколько секунд, позволяя зрителю стать свидетелем того, как отцовскую заботу свекра сменяет сексуальное влечение.