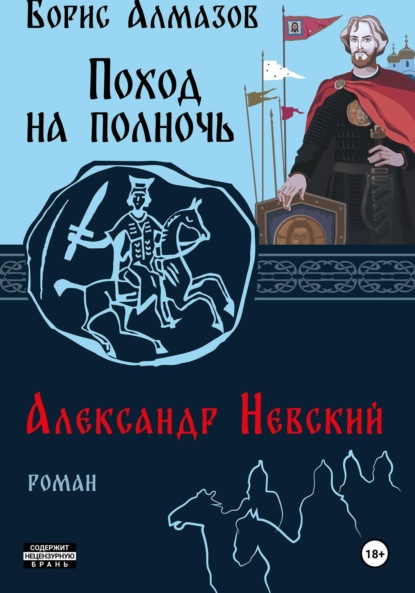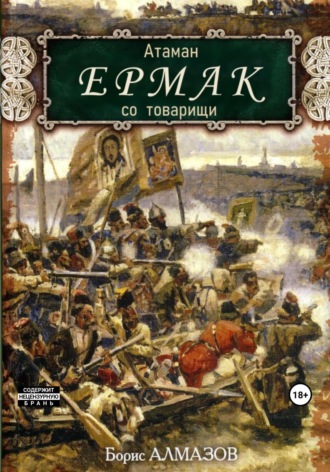
Полная версия
Атаман Ермак со товарищи
– Вот зажили они миром да порядком. Хозяйка мальчику не нарадуется, хозяин мальчиком не нахвалится. Они в поле пахать уйдут, мать блины печет, дожидается. Они вечером воротятся – мать их кормит, любуется.
«Расти, наш гусенок хроменький».
– А как стало ближе к осени, – сказал Якимка, – стал гусенок на небо поглядывать. Вот летит стая гусей-лебедей. Увидала его, закружила над избой. Давай лети и меня спрашивай.
Ермак сел на постели замахал руками-крыльями:
– Эй! Не ты ли гусенок хроменький? Летим с нами в родные места!
– Нет! – сказал Якимка. – Ты по-правдошному, по-лебединому спрашивай.
Ермак повторил по-кыпчакски.
– Нет! – закричал Якимка, путая кыпчакские и русские слова. – Мне и тут хорошо! Хоть и манит меня на родину, у меня тут отец с матерью, как я брошу их, они – старенькие.
Крестьяне эти речи слушают душа у них замирает. Ну, как улетит их сыночек названый, их гусенок хроменький? Вот взяли они, не подумавши, да и сожгли лукошко с перышками, чтоб гусеночек их не покинул. Как увидел мальчик заплакал горько. Ну, – сказал Ермак, – говори за гусика…
– Сам говори! – сказал Якимка, расстроено..
– Что ж вы, отец с матерью, понаделали! Как хранились тут мои перышки, так была тут моя родина, а теперь унесет меня ветер северный во донскую степь на реку Хопер, не видать вам меня на веки вечные! Налетели ветер-пурга северная, подхватили гусеночка да и унесли неведомо куда. Якимка молчал, подозрительно сопя.
– Ты чего притих? Много ли, мало время минуло, а совсем крестьяне состарились. Не могут работать ни в поле, ни по дому, а кормить их задаром некому.
Взял их князь да и продал половцам, променял на линялого сокола. Повели полон из рязанских мест во широкую степь незнаемую. Далеко она, широко лежит, в ней травы растут шелковые, в ней реки медовые, в омутах рыбы бесчисленно, в табунах коней несчитано…
– А мы туда поедем? – спросил Якимка.
– А как же! – сказал атаман. – Это наша земля, наша родина-матушка, как же мы не поедем. Хошь через сто лет, а возвернемся! Это наши места. Это мы счас мотаемся Бог знает где, а возвернемся! Вот прошли они горы Еланские, заступили в степь ковыльную. Как лебяжий пух ковыль стелется, под степным ветерком наклоняется. Привели их во Червленый Яр на реку Хопер. Старики стоят, озираются. «Не про эти ли места нам сынок сказывал?»
– Про эти! -.-; сказал Якимка.
– Вдруг толпа раздалась в стороны…
Якимка вскочил, сел верхом Ермаку на грудь, стал сам сказывать:
– Едет хан молодой на лихом скакуне. На нем шапка трухменка высокая с голубым тумаком – в леву сторону, на нем синий чекмень с голубым кушаком, за спиной башлык пуховый будто крылья лебединые. Вот он спрыгнул с коня молодецкого, избоченясь прошел перед пленниками, а на левую ногу прихрамывает; а глядит хан на них ласково, а глаза у него слезами полны.
– А не наш ли ты гусенок хроменький?
Обнял хан тут отца с матерью, на руках понес их на широкий двор. Там детишки навстречу выскочили: «Ты кого ведешь, батюшка, не рязанские ли то рабы-пленники?» – – «Не рабы это и не пленники, это ваши дедушка с бабушкой! Они меня спасли-выходили, когда был гусенком хроменьким! Вы омойте их, накормите их, нарядите их в одежды лучшие, посадите в красном углу и во всем их слушайтесь. Они станут вам сказки сказывать да закону учить православному»
Ермак подхватил Якимку на руки и подбросил взвигнувшего от удовольствия мальчонку и раз, и два, и три…
– Этто чего тут такое! – просунул голову в дверь его дед Алим. – Ты что гостю покоя не даешь! А ну, беги к мамке…
– Да что ты? Мы тут дружбу водим, а ты, дед, ругаешься… – сказал, подымаясь, Ермак.
Мальчонку, как ветром, сдуло.
– Эх!– сказал, усаживаясь к Ермаку на постель, Алим. – Жениться тебе надоть… Ишо своих бы нарожал.
– Куды! Я уж седой весь.
– Седина бобра не портит. Вон Царь-то наш постарее табе будить, а ничаво, царевича спородил… Дмитрия-то.
– Одного-то спородил, а другого-то посохом угодил…
– Ииии, – сказал Алим. – Страх! – Алим сидел, как приехал, не отстегнув сабли, не сняв тегиляя.
– С чем приехал-то? – спросил Ермак, подымаясь. Алим слил ему умыться над тазом, подождал, пока атаман расчешет гребнем густые седеющие кудри.
– Да вот уж приехал, – сказал он, наконец. -Нонь был я в Разрядном приказе, стрел дьяка знакомого. Сказывает, навроде на тебя указ есть – в Пермский городок воеводой идти.
– Колокол льют! – не поверил Ермак. – Еще скажешь, воеводой! Когда это казаки воеводами делались? Казак он и есть казак – – меня Царь назначить не может. Я ему не присягал!
– Ну, как бы воеводой! – сказал Алим, – Казаками командовать, супротив сибирских людишек.
– Давай-ко не так скоро сказывай! – Ермак уселся против кума. – Откуда голос?
– Стало быть, стрел я дьяка. То да се… Он и гутарит – война, мол, кончается. Навроде Баторий от Пскова уйти собирается.
– Вона! – – сказал Ермак. – Так наступать скореича надоть!
– Кем? Войско все в художестве. Да и крымцы на границу выходят. Которые против литвы стояли, уже на юг потянулись. На Волгу.
– Эта новость невелика, – улыбнулся Ермак. – Я-то причем?
– Дак вот навроде Строгановы выпросили цареву грамоту, чтобы казаков и прочих воинских людей к себе на службу звать, ради обороны от тамошних басурманов…
– Ну, а я-то как в воеводы?
– Сказывают, у Царя про тебя спрос. Дескать, кто к царевичу ездил? Сам ли, или по вызову? И всех, кто по вызову приезжал, по дальним крепостям распихивают. Государь навроде в Пермь тебя ладит.
– Ну вот! – сказал Ермак. – Другой голос. А то воеводой!
– А кем?
– Поди знай! На Руси нонече в славе, а завтра в колодке…
– Да полно тебе жалиться! Ты в служилом разряде. Верно говорил дьяк, про тебя Государь спрашивал. Он тебя помнит…
– Ну, помнит, и слава Богу, – отгрворился атаманн, – а то лучшее, чтобы и позабыл… Сказано близь Царя, близь смерти…
Но и за завтраком, когда нес ко рту ложку с толоконной кашей да хозяйку похваливал, не мог отогнать тревожное предчувствие – не любил он, когда про него в царском терему спрашивали. Всегда это становилось предвестием беды или тяжкой службы.
– Эх! – сказал он Алиму, когда подали пирожки, – Сейчас бы в свои юрты на Дон. Жить бы, доживать, Богу молиться. Так ведь и там мира нет. А у меня сейчас казаков три сотни, как их там прокормишь? Там у меня табун небольшенький да две отары – маловато.
– Неужто чигов три сотни?.. Откуда их столько? – удивился Алим, омывая пальцы в чашке-полоскательнице и вытирая руки широким рушником.
– Да нет. Чигов-то десятка три. Но других родов казаки: боташевы, аксаковы, кумылги, буканы. С Червленого Яра.
– Погоди! – сказал Алии. – А разве ты не Сары Азман?
– Сары, да не Азман, а Чига! У тех кочевья на низу, а мы с Верхнего Дона. У нас юрт до Казарина-городка, дальше Букановский юрт, а Сары Азманы – лукоморцы, на самом низу, почти что у Азова…
Они долго считались родами, уточняли, где и какие земли принадлежали какому роду. Это было одно из любимых занятий вольных казаков, которые никак не хотели примириться с тем, что многих родов уже нет в степи, а имена многих – позабыты… И живут вчерашние степняки аж до Студеного моря, до Литвы болотной, до Днестра и Терека… Всех разметала Золотая Орда. Когда-то были и стада тучные, и табуны, и отары. И славянские князья за честь считали породниться со степными знатными родами. И сливались степняки и жители лесов в один народ – русский, но когда это было! Пришли монголы, все перемешали, перепутали… А уж как явился в степи Тамерлан, да загнал Тохтамыша-хана в Сибирь, да начал Узбек-хан басурманскую веру насильно степнякам насаждать – так и побежали они кто куда, бросив родные юрты, реки, степи и увалы.
Не стал Ермак говорить, что у него-то оставались родовые юрты, а вот у хозяина его, городового казака Алима, кроме родовой тамги и нет ничего. На месте кочевий его предков – засечная линия, через кою ни конному, ни пешему ходу нет. Половина родов, ислам принявши, к татарам в Крым ушла, половина – к московским князьям на службу подалась – как без хозяйства прокормишься? Только службой. Вот и получается: донской казак Алим, московского жительства, на городовой службе. Правда, потянула степь нынче своих сынов. Частенько слышит Ермак – белгородская орда на Хопер вернулась. Каргин род на Дон ушел. Да и московские казаки чуть-что – домой откочевать собираются. Только степь-то стала другой, не такой, как прежде, как старики сказывали. До прихода монголов была она домом и крепостью, никто туда сунуться не смел. А теперь – проезжая дорога, поле боя, нива войны… Трудно на этом поле укорениться, когда что ни год – враги со всех сторон налетают. Однако, и без родины, хоть бы какой, не может человек.
Помолясь Богу и позавтракав, пошел Ермак сам в Разрядный приказ, да и казаков проведать, что постоем в Замоскворечье стояли. Запоясавши короткий полушубок, привесив саблю, как положено служилому казаку, и сбив на бровь атаманскую шапку с тумаком и кистью, Ермак с двумя казаками вышел на ослепительно сиявшую морозным инеем и снегом московскую улицу.
Белый дым из сотен печных труб поднимался строго вверх в чистое голубое небо. Даже глухие заборы выше человеческого роста из черных бревен, припорошенные снегом, смотрелись весело и нарядно. Пестрыми жар-птицами проходили мимо сугробов чинные москвички в золоченых киках, высоких кокошниках, парчовых душегреях и шубейках. Зевали около разведенных на ночь рогаток сторожевые стрельцы. Далеко виднелись их красные, желтые или зеленые, в зависимости от полка, кафтаны. У Москвы-реки Ермака обогнал городовой казак в синем архалуке и шапке с алым тумаком. И хоть летел он на взмыленном коне и, судя по заиндевевшей шапке и сосулькам на усах, гнал издалека, своих увидел – приветственно поднял нагайку и, свистнув, помчался дальше.
Во всех церквах толпился народ, на папертях, несмотря на мороз, нищие гнусавили Лазаря, высовывая из тряпья ужасные культи.
Юродивый, гремя веригами, прыгал босиком и без порток, в одной посконной рубахе до колен, колотил ложкой по медному котлу, надетому вместо шапки, что-то выкрикивал внимательно слушавшей его невеликой толпе.
Толпился народ и в торговых рядах. Чем ближе к Кремлю, тем гуще. Сквозь толпу проталкивались крикливые разносчики, продававшие пироги, сбитень. Не видать было только ни скоморохов, ни петрушечников – пост.
– Вот Москва! – покрутил чубом ермаковский есаул. – День будний, а народищу! Быдто и не работает никто.
– Ты чо! – возразил второй казак. – Кака работа! Послезавтря – Рожжество.
– Работа работе – рознь, – сказал Ермак, – Кто работает – тому нонь роздых. А кто служит – тому роздыха нет, и труды его – по надобности.
– Да! – согласился есаул. – Война и в Светлое Христово Воскресение – война. Ее не остановишь!
– Эх! – вздохнул второй, – Как там наши во Пскове?! Как там Миша Черкашенин? Сказывают, он обет какой-то дал…
– Какой обет? – спросил Ермак.
– Да так… – замялся казак. – Станишники бают, дескать, было ему видение, мол, Иоанн Предтеча ему явился и сказал, что Псков падет, а Черкашенин, мол, обетовал взамен Пскова – голову свою…
– Кто это знать может, кому что попритчилось да во сне привиделось? – строго сказал Ермак, – Суесловы!
– Да нет, батя, – засуетился казак. – Черкашенин сам гутарил: мол, Псков отстоится в осаде, а я погибну. Мол, держитесь, казаки, – вы моею головою выкуплены…
– Эх! – крякнул Ермак. – То – бой! Чего людям не скажешь, чтобы дух поднять. Ну-ко, зайдем! Они завернули в ближайшую церковь. Храм был полон беременных женщин.
– Вона! – хмыкнул казак. – Откель их столько? Понаперлись!
– Нонеча Анастасия, ей и молятся! – сказала строгая старушка, – Она, матушка, в родах воспомогает.
– А ну-ко, ну-ко… Умели, бабочки, с горки кататься, умейте и саночки возить, – засмеялся казак и вдруг увидел лицо атамана.
Ермак побелел, будто мелом вымазанный. Странно сверкнули его черные глаза. Он прошел к выносной иконе и пал перед нею в земном поклоне. Казаки смущенно отошли к выходу. Они видели, как Ермак долго стоял на коленях, а потом поставил свечи на канун -на поминание усопших.
Поставили свечи и о здравии, о Мише Черкашенине и всех воинах Христовых – казаках, в боевых трудах пребывающих.
Дальше шли молча. Казаки боялись даже переговариваться. Впереди шел, глядя себе под ноги, как-то сразу постаревший атаман. У громадной избы Разрядного приказа он вдруг снял шапку и, оборотившись на купол Успенского собора, перекрестился:
– Вот как в один день припало… Неспроста это. Неспроста, – и нырнул в дверь.
Казаки протискались к стоявшим поблизости саням, присели на солому.
– Чегой-то он? – спросил казак, тот, что был помоложе.
– А хто знаить? – ответил односум. – Може, у него память сегодня какая-то совершается… Зря он, что ли, на помин поставил? Надо его родаков спросить. Мы-то ему не кровные. А в сотне человек с полста будуть его рода. Оне должны знать.
– Так они тебе и сказали! Они чуть что – бала-бала по-своему, я и не понимаю ничего. А ты разве не коренной казак?
– Коренной. Да я из городовых. У меня и дед, и прадед в Старой Ладоге да в Устюге служили, я на Дону отродясь не бывал. У меня и матушка из Устюга…
– Эх! – сказал казак постарше. – Я и сам-то уж не все понимаю по-нашему. А жалко. Говорят, второй язык – второй ум.
– Где на ем говорить-то? – сказал молодой. – И в Старом-то поле все давно по-русски говорят. Ты хоть одного казака видал, кто бы по-русски не говорил? Хоть он самый коренной-раскоренной!
– Эт верно, – охотно согласился казак постарше, – А ну-ко ты покарауль маленько, а я прикемарю. Чей-то на сон тянеть. На вот, от скуки, – он дал молодому кусок пирога с кашей, – пожуй.
– Во! Откель это?
– Да у стрельчихи, у вдовы, постоем стоим, она меня привечает… – задремывая, сказал есаул.
– То-то тя на сон и клонит, – засмеялся молодой, впиваясь крепкими зубами в пирог.
– Жалко мне ее. Хорошая она. Судьбы – талана, вишь, ты, нет… – И старший всхрапнул. А младший, не торопясь, откусывая пирог, принялся разглядывать народ, сновавший у приказных изб.
Двери приказов то и дело хлопали, оттуда вместе с клубами пара выскакивали дьяки в длиннополых кафтанах, с гусиными перьями, заткнутыми за уши и просто воткнутыми в волосы, измазанные чернилами. Тащили свернутые в трубки какие-то бумаги. Проехал боярин, торжественно колыхая брюхо на высокой луке дорогого седла. Вел коня зверовидный детина с бичом в руке. Проехал зарешеченный возок с опричниками на запятках. Оттуда выволокли кого-то в цепях, потащили в Разбойный приказ. У дверей одной из изб, запорошенные снегом, стояли на коленях крестьяне, держа на лбу развернутые свитки прошений. На них никто не обращал внимания, точно их, истуканами стоящих, и нет вовсе.
Тут же совершенно пропитый, с битой рожей и здоровенным синяком под глазом грамотей писал, оперев доску на спину просителю, прошения, макая перо куда-то под лохмотья, за пазуху, где на теле согревалась чернильница.
Проходили не по-русски одетые иностранцы, ради сугрева натянувшие на иноземное платье тулупы…
Казак начал уж было зевать со скуки. Пирог кончился, а завести переглядывания с какой-нибудь девкой или бабенкой было невозможно – не было около приказных изб ни одной женщины, но вдруг он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд.
Латинский поп в круглой шляпе, невзирая на мороз, рассматривал его.
«Вона! – подумал казак. – Еще сглазит али наворожит, антихрист…»
– Чего уставился! – спросил он, кладя руку на саблю.
Спавший есаул тут же сел на санях, и по тому, как ворохнул плечом, молодой понял, что вытряхнул из рукава в рукавицу нож.
Латинский поп сделал вид, что не понял или не расслышал, и неторопливо прошел мимо.
– Ты чо шумел! – спросил старший.
– Да вон энтот уставился, ишо сглазит либо порчу каку понапущает…
– Да ну тя! – сказал старший, заваливаясь уже всерьез на сено. – Порчу! Богу молись да за саблю держись – ничо и не пристанет.
– Куды он поперси? – спросил молодой.
– А че ж ты не спросил? – хмыкнул старший. -Эх, такой сон хороший испортил.
«Спросишь его, – подумал молодой. – Вот ужо в другой раз мне попадется, я его нагайкой порасспрошу». Он не мог объяснить, почему этот латинский поп вызвал в нем такую тревогу. Попытался вспомнить лицо попа – и не смог. «Бона! – подумал он с удивлением. – Безликий какой-то. Как оборотень».
– Чегой-то атаман не ворочается! Замерзнем тута, – проворчал он. Но старший только присвистнул носом в ответ, торопясь досмотреть сладкий сон.
Ермак вошел в огромные сени приказной избы и поморщился от густого запаха паленого сургуча и еще какого-то особого, приказного духа, который возникал, может быть, от холодного пота просителей, липких рук дьяков… Ермак считал этот запах запахом подлости. Ходить по приказам не любил. И гул тут стоял особый: монотонно бубнили писцы, скрипели перья. Что-то гундосил проситель, старый дьяк что-то кричал, рывшемуся в бумагах и пергаментных свитках, молодому…
«И голоса-то у них какие-то поганые, – подумал атаман, – будто перья не то двери скрипят. Вот тут-то они всякие ковы да каверзы и выдумывают…»
Два дюжих стрельца поднялись Ермаку навстречу у дверей палаты:
– Чего?
– Дьяка. Урусова кликни. Бегом! – властно сказал Ермак неохотно пошедшему исполнять стрельцу.
– А ты кто таков? – напыжился второй стрелец, наверное, старший по караулу,
– Ермак Тимофеев – служилых казаков атаман.
– А грамота где?
– А грамоты две! – вспыхнул, не любивший грубости и чванства, атаман. – Вот одна, – и перед носом у стрельца взлетел смуглый крутой кулак. – А не прочтешь – вот вторая, – левая рука атамана легла на рукоять сабли.
Стрелец было открыл рот, чтобы осадить казака, но из двери выскочил дьяк Урусов и кинулся к Ермаку:
– Ермак Тимофеич, благодетель мой! Да что ж ты не предупредишь никогда! Нет, чтобы в дом, а не в приказ…
Троекратно расцеловавшись, атаман и дьяк пошли в отдельную хоромину, куда заходили только самые почетные посетители. Мигом атаман был усажен на почетное место. И стрелец, которому пришлось подавать угощение, не мог скрыть удивления при виде того, как неподдельно радуется дьяк приходу этого неизвестного атамана.
– Ходют тут тати разные! – ворчал он. – Басурмане!
– Ты говори да откусывай! – посоветовал ему плешивый старый писарь, который чистил перо, толкая его в жидкую рыжую бороденку. – Услышит дьяк Урусов – он тебе башку-то твою дубовую, страховидную, как цыпленку отвернет!
– А чего я сказал?! – огрызнулся стрелец.
– А того, что это благодетель дьяков. Он его мальчонкой на Казанском разорении подобрал, да вылечил, да выходил, да в монастырь уму-разуму набираться отдал! И вклад за него сделал! Вот и вырос дьяк Урусов на казацкие деньги, в большие люди атаманским благословением вышел. Ты-то у нас недавно и того не ведаешь, что Урусов атамана Ермака выше отца родного почитает.
– Тоже отца нашел! Да на вид Урусов атамана не моложее, оба уже как старые псы в седину отдают! – не унимался обиженный стрелец.
– Заткнись, дурья башка! – посоветовал старый писарь. – Выпорют тебя за невежество! Право слово, выпорют! А дьяк атамана не намного моложее, при Казанском взятии атаман-то годов пятнадцати был, а Урусов лет семи… Вот и полагай!
– Нечего мне полагать: не велики бояре – казаки да татаре!
– А ну пошел во двор! – затопал на него ногами старый писарь. – Скотина чумовая! И на нас-то своею грубостью гнев накличешь… – И сам, взявши поднос с заедками, потащил его в особливый покой, где разговаривали дьяк и атаман.
Вскоре он выскочил обратно и, кликнув двух писарей в помощь, принялся шарить по полкам, где грудами лежали свитки; погнали молодого писаря на полати, где лежали «скаски» за много лет. Раза два выходил сам дьяк Урусов, рылся, в одному ему ведомых документах, и уносил их в особливую палату. Зверовидный стрелец только диву давался – такого переполоха, вызванного приходом безвестного атамана, он, отродясь, не видывал, и страшно ему хотелось узнать, что же там, за крепко затворенными дверями, происходит. Раза два он исхитрился и заглянул в, на мгновение открытую, дверь. Атаман сидел на лавке, а перед ним, как ученик перед наставником, что-то вычитывал из свитков, грудой лежащих перед ними на столе, дьяк.
Но вряд ли сгоравший от любопытства стрелец понял бы, о чем идет речь между седым, изрубленным атаманом и спасенным им когда-то на Казанском пожаре татарчонком.
Дьяк подтвердил, что Государь справлялся об Ермаке и даже поговаривал, что Ермака следовало бы отправить в Пермь, для обороны противу сибирских набегов, но указа писать пока не велел.
– Велел, не велел, а ежели решил в Пермь меня послать, не забудет. Государь долгопамятлив!
– Ну и хорошо! – сказал, щуря хитрые татарские глаза, Урусов. – А тебе что, батька, на старости лет неохота в тепле да покое пожить? Хватит казаковать-от!
– Я и хотел… – сказал Ермак. – Вернуться бы на Дон. В свой юрт. Там у нас вся станица вернулась. Городок поставили. Отары у нас, табуны… Отеческие места!
– Да Бог с тобой! – сказал дьяк. – Какой там покой?! Какие табуны! Неровен час – ногаи прорвутся… вот тебе и отеческие места! А они пойдут! Обязательно пойдут. Наши доносят: им большие деньги папа римский на поход прислал.
– Посулил небось, – усумнился Ермак. – Однако они и на посулы падки. Пойдут.
– Знамо, пойдут. Мы уж сейчас потихоньку воинских людей на засечную линию переводим… Под Псковом-то на убыль идет. Застрял Баторий, не сегодня завтра побежит.
– А ну, что там за Пермской острог? Сказывай, – попросил Ермак. – Может, и вправду там служба гожая?
Вот тут-то и кликнул дьяк Урусов писарей, и забегали они, как мыши по амбару, и натащили вскоре ворох бумаг да пергаментных свитков. Но дьяк Урусов, недаром Царем ценился превыше многих, – он со «скасками» только сверялся, а говорил-вычитывал все по памяти, точно в книгу глядел.
– Пермская земля и Велкий Камень, татарами Уралом рекомый, нам давно ведомы! И русские люди за Камнем давно бывали и живали, промышляли зверя, и зимовья там стоят. Почитай, лет с четыреста новгородские мореходы за Камень плавали, в Югру и Мангазею до реки Оби. Того же времени и ход за Камень есть, по реке Печоре. Кузьма! – крикнул он властно. Ермак подивился, как из заморыша-татарчонка вон какой дельный дьяк вырос. Да как он в кулаке весь Разрядный приказ держит. – Кузьма, подай чертеж вот отсюдова. Первый раз дань с тамошних жителей собрал воевода Василий Скряба, -Урусов нахмурился, посчитал и сказал точно: – Сто шестнадцать лет назад! Вот так будет!
– Ловко, – похвалил не то воеводу, не то своего найденыша Ермак.
– А сто десять лет назад воевода Федор Пестрый повоевал всю Пермскую землю и поставил острог Чердынь.
Кузьма притащил чертеж земель, разведанных по Камню и за Камнем, Ермак вгляделся в переплетение линий и букв и единственно, что понял, – за Камнем земли почти незнаемые и списков на них нет.
– Ходили за Камень сто лет назад Федор Курбский да Иван Салтыков – Травин; разбили пелымское войско, прошли по Тавде мимо Тюмени в Сибирское Ханство, обошли владения хана Ибака Сибирского, который в те поры с Ордой воевал и нам не препятствовал, и вышли по Иртышу на Обь. Тогда тамошние люди князек Пыткей, Югра, Юмшан в Москву к нам ездили и под цареву руку просилися, потому от татар тамошних большую тяготу терпели. Переговоры шли, но Ибак-хан задурил, решил стать Царем Золотой Орды, его и убили люди хана Мамука. А Тюменский хан Мамук сразу Казань захватил и хоть сидел тамо недолго, а крамол своих не оставил. Тогда Государь наш Василий Иванович Третий послал воевод князя Семена Курбского, Петра Ушатого да Василия Бражника Заболоцкого с четырьмя тысячами ратников из городов северных.
Урусов выхватил ведомую ему бумагу и прочитал:
– «Тысяча девятьсот человек с Двины, Ваги и Пинеги, тысяча триста четыре человека из Устюга Великого, пятьсот человек с Выми и Вычегды, а также вятичи, двести человек руси да сто человек татар из Казани да из Арска…» Может, и мои там были, -откомментировал Урусов.
– А уж мои-то наверняка! – сказал Ермак. – Мы-то как из Старого поля ушли от Темир-Аксака, так к Великому Устюгу прибились, там и бедовали.
– Да ведаешь ли, Ермак Тимофеевич, что это за поход был? Это же в темень да мороз ночью непроглядной на лыжах Камень обошли, да пятьдесят восемь князьков покорили, да Югорскую землю подчинили Москве. С тех пор Государь к титулу прибавил: князь Кондинский и Обдорский! Вот они, эти земли, – показал Урусов на чертеже. – Вот земли Югры, а вот – Пелым, а ниже – Ханство Тюменское и Ханство Сибирское, – вот откуда ковы да козни да война идет.
– А я гляжу, – сказал Ермак, – покорить – покорили, а земли незнаемые… Мало кто сюды ходил.