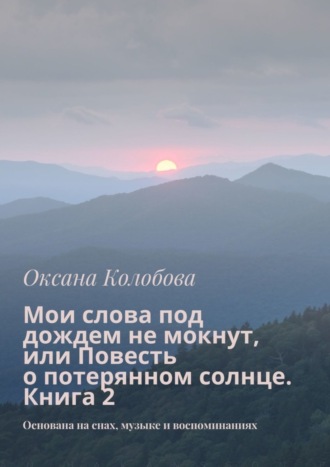
Полная версия
Мои слова под дождем не мокнут, или Повесть о потерянном солнце. Книга 2. Основана на снах, музыке и воспоминаниях
– Я думал, что ты не куришь.
– Я тоже так думала.
Он протянул мне зажигалку и я подожгла сигарету.
– Та самая зажигалка?
– Та самая?
– Так, мысли вслух.
– Ясно.
I am a moth, who just wants to share your light. I’m just an insect, trying to get out of the night. I only stick with you, because there are no others. Я – это мотылек, который хочет лететь на твой свет. Я – просто насекомое, пытающееся улететь из сумрака. Я хочу быть только с тобой, потому что других просто не существует.
На улице темнело. Остап вел машину, изредка постукивая по рулю пальцами. Дорога была пуста. Я курила и думала о том, что ляпня на обложке «Radiohead» была обычной абстракцией, но никак не космосом. В таком случае и космос, и наша жизнь, и мы сами – все было сплошной абстракцией. It’s all wrong. It’s all right. It’s all wrong. It’s all right. Это – неправильно. Все в порядке. Это – неправильно. Все в порядке.
– Я могу поплакать?
– Конечно.
Я заплакала, утираясь свободной от сигареты рукой. Плакала долго и тихо, будто бы бренчать во мне и действительно было нечему. Слезы мешались с соплями и небрежно вытирались моим рукавом. Временами я затыкала рот сигаретой и забывала дышать, но диск продолжал вертеться в своем привычном ритме. Заканчиваясь, песня начиналась сызнова – так за неимением солнца жизнь продолжала свои усталые обороты. У диска было свое предназначение. Будет ли он вертеться? Я плакала долго, плотно сжав губы и переносицу пальцами. Мой клубок медленно разматывался, показывая мне то, что в нем скрывалось. Я была уверена – внутри лежала маленькая вишневая косточка. Эту косточку надо было достать и закопать под окном. Из нее вырастет дерево, которое не проживет и трех дней. вечно I’m the next act, Waiting in the wings. I’m an animal, trapped in your hot car. I am all of the days that you choose to ignore. Я – это следующий эпизод, ждущий за кулисами. Я – животное, пойманное в ловушку в твоей горячей машине. Я – все те дни, которые тебе хочется игнорировать.
Я успокаивалась. Сигарета осталась далеко на асфальте – дождь ее сам затушит. Она бы меня наругала, но мне было глубоко плевать. Мы приближались к библиотеке. Мне нравилось то, что Остап не задавал мне вопросов. Я не могла знать, понимал ли он хоть что-то, но тоже продолжала молчать. Конец света был близок, а музыка продолжалась.
– Ты думала над тем, какие слова могли тебе принадлежать?
– Да. А ты?
– Тоже.
– И какие слова у тебя? Вскрывай карты.
– , ,, , , и . Оранжевый необязательный беспорядок последовательность дым боль человечно
– Хорошие слова.
– Спасибо. Теперь твои.
На секунду я задумалась, а потом выселила все мысли из головы – в подобных вещах они лишние. Лучше говорить не задумываясь, а там будь что будет – авось, получится куда искреннее, чем могло бы быть.
– о, , , , , , и . Пуст та прощение неизвестность страшный суд солнце проигрыш добро зло
– Твои лучше.
– Правда?
– Да. Звучит поэтично. Долго придумывала?
– Нет. Прямо сейчас.
– Круто.
– Расскажи одно свое воспоминание, связанное . с ней
Остап замялся и включил дворники. дождь не планировал прекращаться ни на секунду. Я вообразила, как ветер беспощадно треплет тетрадь бога, перелистывая ее со страницы на страницу. Вечный
– Моя бывшая подружка часто пекла мне торты. От этих тортов у меня сгнили все зубы. На их лечение я спустил дохренищу бабок. Сладкое я очень любил…
– И дальше что?
– Ия покупала мне леденцы для диабетиков. Ну, знаешь, те, что без сахара.
– Хорошее воспоминание.
– Спасибо. А у тебя что?
– Я помню, как она стригла себе ногти.
– И все?
– Да. В этот раз ты выиграл.
Остаток пути мы ехали молча. В приоткрытое окно заползал шум дороги. Radiohead продолжали играть, но прежних чувств во мне вызвать уже не могли. Дворники мазали по лобовому стеклу, а он крепко держался за руль. Оно и понятно – отпустишь и пиши «пропало». Все в мире распадается на буквы – «м», «и», «р». Собрать их в слово уже не выйдет. Среди всех этих развалин воспоминание о том, как она состригала себе ногти и складывала их себе в ладонь, было чем-то вроде . Чем-то, что пристегивает и не дает зайти – чем-то вроде отправной точки, вокруг которой все существует: ты сам, мир с его тремя буквами, птицы, бог… Я склонила голову. Лихорадка не отпускала меня. Я представляла, как Ия стрижет себе ногти, отстригая себя от этого мира. Я знала – у мертвецов они не растут. Иначе в их могилы должны были класть щипцы. А раз их нет, значит ногти и вправду расти не могли. Была ли она мертвецом? – да. А ? якоря дальше Формально неформально
Когда Остап остановил машину, на улице было уже темно. На часах – 19:19. Жаль, что 12:12 наступило уже где угодно, но только и … Дождик перестал капать. Небо было неспокойно – видно, в каком-нибудь уголке нашей земли дождь все еще продолжался. Наши уголки ждали своей участи. Мы оделись и вышли из машины. Покинутая, одна среди деревьев и ограды, она выглядела заблудившимся путником или – одно из двух. Путником, потому что она действительно куда-то стремилась, – возможно туда, куда не стремились мы сами. , потому что ждала нас здесь и служила опорой – как край миски, за которое не выливается молоко. не здесь не с нами якорем Якорем
Библиотека выглядела так, какой мы с ней оставили ее в те дни. Те дни казались мне далекими и выцветшими – как фотографии или иллюстрации к книгам. Нашим словам были свои иллюстрации – это мы в нашем дорогом . А книги с библиотеками были нам уже не нужны – у нас были свои. Мы поднялись на крыльцо. Я чувствовала, как на меня смотрели большие, размером с солнце или луну, глаза. Я не знала чьи они и откуда. Ступеньки приняли меня спокойно. Былого скрипа я не услышала. Не понятно, – то ли он помазал себе коленки и тихонько ушел на покой, то ли у нашего мира кто-то действительно подворовывал вещи и звуки. Одно я знала точно – для меня изменение незамеченным не прошло. Дверь была неплотно прикрыта. Были ли здесь кто-то? – на этот вопрос я ответа не знала. Внутри темно; кругом осколки и книжные потроха. прошлом
– Взять тебя за руку?
– Зачем?
– Чтобы не потеряться.
– Если потеряемся – потом найдемся. Другого выхода у нас все равно нет.
– Так значит, ? не надо
– Не надо.
Ему знать не следовало. о наших с ней руках
– Ты был здесь?
– Нет.
Я слышала, как он хрустел стеклом а потом вдруг перестал. Тишина ощущалась здесь чем-то невыносимым. Чем-то, что хотелось разбить и ходить по тому, что останется. Но бить было нечего – из целого были только мы сами. Может, это так невыносимо и как-то звучали? Но что это такое – ? И что такое ? Быть может, мы были той библиотекой, а она была нами? Библиотека дышала, библиотека смотрела, библиотека чувствовала и умела страдать. И что среди этого всего по-настоящему было нами? – полуразрушенный стул, матрас, книги? Может, лунный свет из окна, летящий к нам с каких-то других миров? мы по-громкому тихо мы я
Путь к матрасу преграждали хаотично расставленные стеллажи. В какой-то момент мне показалось, будто они стояли немного иначе – в нас ведь тоже что-то , . Матрас был тверд, как и тогда. Крыша подтекала. Звезд на ней я уже не нашла – все напрочь смыло дождем. Сквозь дыры в потолке мне на лицо капал дождь. Мне казалось, что библиотека застыла. И теперь уже навсегда. Мне казалось, что книги перестали рассказывать друг другу свои слова. Они закончили свой бесшумный шелест – в преддверии говорить было не о чем. Остап тоже молчал. Он лежал рядом со мной на твердом матрасе и смотрел в потолок, пытаясь усмотреть на нем то, то я так старательно отыскивала сама. Пружина упиралась мне в ребро. Ее руки в моей больше не было, как и звезд. У библиотеки отняли птиц. У нас – наше дорогое солнце. Потому мы не могли произнести ни слова? поменялось перестроилось конца
– Скучаешь по себе старому?
– Временами.
– Хотел бы вернуть то время?
– Нет.
– Почему?
– Я уже другой человек.
– Ты хотел быть таким, какой ты сейчас?
– Нет.
– Тогда в чем дело?
– Мне кажется, что мне нигде нет места.
– Место найдется каждому. Оно изначально у всех есть.
– Тогда я где-то Вне выбора и вне того, в чем эти места существуют. вне.
– Ты хотел бы плавать вместе с богом?
– Всю ? вечность
– Ага.
– Наверное, да.
– Я думаю, ты сможешь составить ему компанию.
– Да?
– Определенно. Ему будет не так скучно. Главное курить его не учи.
Слова выползали из меня медленно и как бы с опозданием. Я вообразила, будто я – змея, желающая проглотить собственный хвост, но в последний момент решившая его выплюнуть.
– А что будет с тобой?
– Я не думаю, что сейчас это важно. Не думаю, что сейчас хоть что-то может быть … по-настоящему важным
И время остановилось. Стрелки замерли в одном положении. Наперекор всем моим словам Остап нашел мою руку и с рвением сжал в своей, будто бы все, что в ту секунду было для него , приобрело ее ледяной и несуразный силуэт. Я легонько пожала его горячие пальцы, а он прижал к себе наши руки с таким затаенным отчаянием, будто бы от этого что-то зависело: будь то сохранность мира или единство нашегопрошлого, настоящего и будущего. Я молча позволила. Тогда мне уже никто не был нужен. Пустота пожирала меня, выселяя саму меня из моего И я чувствовала – пора уходить по-настоящему важным Человеку нужен человек, и неважно какой. внутреннего. . С течением времени мы необратимо меняемся. Когда-то настанет время, когда от нас прежних ничего не останется. Вот тогда люди уходят и больше не возвращаются. Потерять себя – это самое страшное, что может произойти с человеком.
В ту секунду я поняла для себя кое-что важное – в детские штаны мне было уже не суждено влезть. Я не догадывалась, что с ними стало, но что-то все-таки – либо их передарили какому-нибудь грустному и одинокому ребенку, либо просто пустили на тряпки. Важно было лишь это – мне их не видать как собственных ушей. Остап молча смотрел в потолок – наверное, думал о боге и о их будущих совместных странствиях, а может, и о своих штанах – каких-нибудь ярко-красных с черными кармашками. Ему, видимо, тоже их не хватало, а еще – ему до них было как до луны. Та же луна светила в окно библиотеки и трогала предметы под собой: скрипящие половицы; стул и стойку библиотекаря; разорванные книги и их полууничтоженные переплеты. Несправедливо – она до нас дотягивается, а мы до нее не можем. С нами и нашим миром она знакома больше, чем мы с ней. О мире, как оказалось, мы от и до ничего не знали. В последние минуты я жалела лишь о трех вещах – о том, что соврала ей тогда в кафе, о том, что не уберегла бабушку с Бимом, и о той мошке, которую мне пришлось раздавить на чьем-то рисунке с лестницей. Ее мне было жаль больше всего – она не могла дать мне сдачи. стало
– Что мы будем делать эти три дня?
– . Стараться жить
– Что ты сделаешь первым делом?
– Приберусь в доме и почитаю ее тексты, потом – послушаю музыку в ее машине и найду фотографии ее деда. Еще нужно купить телефон и позвонить матери.
– Какие у вас отношения?
– Никаких, в общем-то. Но если я собралась , как-никак, ей нужно об этом знать. уходить
– Да. Я думаю, ты права.
– Чем ты займешься?
– Пожалуй, постираю одежду и поиграю со своей кошкой. Еще как-то давно хотел посмотреть «Пекановый пирог» с Джимом Керри. Никак руки не доходили.
– Да уж… Смотреть фильм с Джимом Керри в свои последние дни – это, конечно, что-то новенькое.
– А что еще делать? Подвиги? Миру уже все равно.
– И то верно. У тебя появилась новая кошка?
– Ага. Совсем недавно.
– Как назвал?
– Пока никак.
– Надо придумать ей имя. Помирать безымянными могут только солдаты.
Я подумала – еще надо подстричь ногти и обязательно приготовить сэндвич с луком и огурцом. И – о, боги, – полить ее чертову рассаду.
– Пусть она будет просто «Кошечка». Ничего в голову не приходит…
– Кошечка так Кошечка. Тоже неплохо.
3
Шепот прошлого
Мне было жалко птиц. Без них небо выглядело безжизненным, будто бы оно было не небом, а картонным плакатом, нарисованным рукой бога – в общем-то, все так и было, только в последнее время это стало заметно чуть больше. Мне казалось, что теперь мир вертелся и жил на автопилоте – небо без солнце и птиц не могло. существовать
В своей одинокой кровати я спать уже не могла и на оставшиеся мне дни перебралась к ней в комнату. Жить там, где она жила, дышала, творила и часами со мной говорила – так мне становилось намного лучше. Это действовало на меня как ромашковый чай – вроде и горько, но плакать хотелось все меньше и меньше. Время от времени звонил Остап. Я ставила телефон на базу, включала громкую связь и говорила с ним из кровати или из-за стола, пока не надоест. Иногда, когда говорить становилось уже не о чем, мы возвращались к своим делам, прерываясь на вдруг пришедшие в голову комментарии и истории из детства – по какой-то причине их вспоминалось все больше и больше. Мне часто приходилось слышать, как он жует, курит, ходит по квартире, а и иногда играет с кошкой по кличке «Кошечка». Со временем я могла различать, в какой части квартиры он находился в моментах и как она вообще выглядела – люди дальтоники тоже как-то цвета понимают. Вот и я так же . Но не наверняка. Так, по звукам, его рассказам или каким-то другим мелочам у меня в голове формировалась картинка, которую мне потом предстояло забыть. понимала знала Розовый напоминает что-то нежное и уютное. Желтое – что-то оптимистичное. Синий – цвет свободы и полета мысли.
Так начался . За окном и в душе было все то же – грязно и мутно, будто у меня в душе кто-то полоскал свои мыльные пододеяльники. И те были чьи-то чужие – ее пододеяльника я бы точно среди них не нашла. Часы тянулись медленно. Они, как жвачка, которую долго мусолишь во рту, со временем теряли свой вкус и затвердевали, становясь чем-то незыблемо-вечным. Кроме прошлого в голову ничего идти не хотело, и я чувствовала себя так, словно подвожу прожитому некую черту – хотя, то чертой не совсем являлось – все-таки, ничего еще не закончено, и вряд ли когда-то будет. Сны не снились и спала я как-то поверхностно. Часто просыпалась от ощущения взгляда. Глаза смотрели на меня пристально и без единой мысли, как если бы просто выполняли свою главную функцию – . Я тут же открывала глаза и искала эти глаза по стенам, и потолку, а потом, нигде не найдя, долго рассматривала в окне серое небо, выполняя ту же привычную нам функцию. Если бы только была возможность прожить оставшиеся дни вслепую! – завязать глаза и на время погрузиться в искусственную тьму, пока не придет время погрузиться в нее первый день смотреть настоящую.
Когда я была ребенком, я часто вставала с солнцем. Оно светило мне в лицо и падало на руки. Я пыталась его схватить, накрыв сверху раскрытой ладонью, а потом сжимала ее в кулак. Солнечные блики гнулись и искажались, как бы приминаясь моей рукой – тогда мне казалось, что мне и вправду удавалось его на время украсть – но стоило мне убрать руку, как оно снова висело на небе. Тогда я и поняла – Но больше мне нравилось то, как мои руки просвечивали на солнце. Я не знала, что это было – свойства наших организмов или просто игра света, но контуры моих пальцев становились красными, а сами ладони оранжевыми. Тогда мне казалось, что солнце сканировало меня на манер рентгена и делилось со мной собою. Из этого выходило, что у каждого из нас было по куску солнца. Но без самого солнца они были бесполезны. С детского возраста, прислоняясь к солнцу руками чуть ли не каждое утро, я накопила в себе много таких кусков, но теперь не знала что с ними делать и как мне быть с самой собой. Так и получалось, что солнце высвечивало предметы и дарило нам то, что было у него самого. А ночь все это у нас отбирало, оставляя нас голышом в поле или на берегу. Ночь заставляла нас смотреть внутрь себя, а не вокруг. Однако, смотреть вокруг было куда безопаснее… солнце ни у кого украсть не получится.
Я лежала на кровати и смотрела на свои руки. Со вчерашнего вечера они оставались непривычно холодными, словно их раздели догола и пустили во двор в мороз. На них я могла видеть отголоски всего, что со мной случалось, но так и застряло где-то, до куда дотянуться уже не представлялось возможным. Уходя, солнце забрало с собой все, что когда-либо подарило. Я лежала под одеялом и смотрела вокруг. Я думала – не она ли теперь за мной наблюдала? Должно быть, она теперь обо всем знала – и о Остапе, и о наших словах, и о его новой кошечке по кличке «Кошечка». Хотела бы я, чтобы она об этом знала? – это уже совсем другой вопрос. В тот день, примерно в два часа дня, мне удалось вспомнить запах из школьного туалета. Я не знала, запомню ли я его теперь, но знала одно – он нашел меня сам. Я вспомнила , вспомнила ряды умывальников и блестящие лужи под ними, вспомнила твердые накрахмаленные полотенца, отдающие туалетным мылом, ополаскивателем и отчего-то – хлоркой. Еще я вспомнила девчонку младше меня всего на год. У нее всегда были до жути тонкие, но длинные косы. Я вспомнила один из дней, когда мы с ней сидели на унитазах рядом друг с другом, практически касаясь коленями и локтями. Я вспомнила, как мы закрывали глаза и давили на глазные яблоки. Так мы оказывались во тьме, разбавленной яркими вспышками красок. Они рассыпались в глазах, как искры от оголившегося провода, и лопались, как салюты в честь Девятого Мая. Девочку звали Настей. Настя называла эти видения . Она вылавливала меня в коридоре и говорила только одно: «Пошли смотреть на ». И я шла за ней, будто у меня не было другого выбора. Но выбор есть и был всегда. И я всегда выбирала сидеть с ней на унитазах и давить на глазные яблоки. Настя называла эти вспышки А сейчас мне хочется сравнить их с обложкой Radiohead. Сейчас мне кажется, что видели мы не , а космос, запертый глубоко-глубоко внутри нас. Иногда мне могло привидеться чье-то лицо или фрагменты рук. И теперь я была уверена – если я закрою глаза и со всей силы надавлю на свои веки, в моем не окажется ничего, кроме черных волос и неровно подстриженной челки. женщину-зеленый-костюм Что же сталось с ними теперь? Жар-птицами Жар-птицу Жар-птицами. Жар-птицу личном космосе
Я закрыла глаза и слегка надавила на глазные яблоки. Меня окутала темнота. Спустя время ее вытеснил оранжевый свет, словно солнце все еще было с нами и просвечивало сквозь тонкую кожу век – наверное, это и были те куски потерянного солнца, что все еще во мне оставались. Их, как и татуировку Остапа, было уже ничем не вытравить, не убрать. – это я знала как свои пять пальцев. Свет, идущий откуда-то изнутри, медленно погружал меня в себя – так на дно тянет привязанная к ноге гиря. Образы не отличались четкостью – референсы рук сменялись расплывчатыми фигурами, перетекающими в чье-то усатое лицо, потом – в неразборчивый каллиграфический текст. Скрюченные буквы ломались и накладывались друг на друга слоями, уплывая от меня куда-то в сторону, откуда я уже не могла за ними наблюдать. На секунду мне показалось, что я вижу перед собой ветви деревьев. Они двигались, словно живые руки, принадлежащие тому, кого на земле или не было – словом, то были руки Солнечный свет остался татуировкой на обратной стороне моих век еще уже без имени и владельца. 2
Солнечные лучи прыгали меж ветвей и изредка поблескивали у меня в глазах. Теперь мне было ясно – качались не ветви, а я сама. Оранжевое тепло согрело мне руки. Лучи касались моих век и бежали вверх-вниз от лица к шее. Вверх-вниз качалась и я. Когда я открыла глаза, то увидела перед собой взаправдашние ветви и запутавшиеся среди них солнечные блики. Крохотные качельки, на которых я качалась, поднимали меня высоко вверх, так что я могла дотянуться до облака и украсть у него пару солнечных лучей. Их я рассовывала по карманам и продолжала качаться. Я больше не помнила себя и своего прошлого. Я больше никого не помнила. Вернулась ли я в или вышла за границы времен? – я не знала. Но теперь у меня появился другой смысл – качаться на крохотных качелях и воровать у неба его солнечные лучи. Вдруг я поняла – я сама была крохотной. Я стала маленьким человечком. Ветви, что били меня по рукам и ногам, росли из гигантского терновника. Он простирался высоко-высоко за моей спиной. Остановив ход качелей, я ухватилась за ближайшую ветку и сорвала с нее первый попавшийся плод. Он был слегка недозревший и раскусился с трудом, оставив на языке горько-вяжущий вкус. Я выплюнула косточку на ладонь и стала рассматривать ее на солнце. Примеряя ее то так, то сяк, как ракурс для фотографии, в какой-то момент я полностью загородила ей солнце… Вверх-вниз. Вверх-вниз. самое начало
Остап позвонил в полночь. Я готовила сэндвичи с огурцом и луком. Нарезала батон, подогрела его в тостере и промазала получившиеся куски майонезом и хреном. Огурец очистила от кожуры и порезала ломтиками, лук – на ломтики потоньше. На улице шел дождь. Я ела сэндвичи, периодически запивая их кофе. Рассада на подоконнике грустно кивала мне головами. В этой глухой тишине, в которой каждый звук звучал резко и как бы не вовремя, звонок Остапа застал меня врасплох. Я положила недоеденный сэндвич обратно в тарелку и поплелась к телефону. Единственно горевшая лампочка проводила мой постепенно остывающий след. Темнота встретила меня его голосом.
– Привет.
– Привет.
– Как поживаешь?
– Неплохо. А ты?
– Как-то погано. Сикось-накось.
Я стояла по середине ее комнаты и рассматривала засветившуюся «базу» в ожидании пространного монолога с описанием его «поганого» дня. Выслушивать Остапа у меня, мягко говоря, не нашлось сил. А полезешь в карман – наткнешься на угасающие куски солнца. Я вышла из темноты и пошла обратно на кухню. На тарелке лежал одинокий сэндвич. Доедать его уже не хотелось. В голову пришло выражение «След простыл» – кому надо, чтобы он простывал? И почему это происходило? След мог простыть только в двух случаях: если сам хозяин , – и не важно чем – менингитом или душевной тоской, – и если он бежал настолько быстро, что они простывали от ледяных порывов ветра. Я дышала ему в трубку. В темноте мне ничего не мерещилось. Мне казалось, что она стала пуста как бочка, в которую вот уже которое лето никто не наливает воды. ее болел
– Весь день пролежал в кровати и думал.
– О чем?
– Неужели не знаешь, как это бывает? Обо всем.
Не помню, что я ему тогда сказала – кажется, просто что-то промычала. Сэндвич не вызывал у меня желания его доесть. После звонка захотелось выбросить его в мусорку. Под лампочкой крутилась маленькая мошка. Я подумала – Вдруг это та самая мошка, которую мне пришлось раздавить в том кафе? Вдруг это она, только в теле другой мошки? Пришла посмотреть на то, как мир медленно подъезжает к остановке «конец всему»? Иначе и быть не могло. Остап на проводе громко молчал. и пусть крутиться дальше.
– И о чем ты думал?
– В основном о том, чего не сделал. Я не говорил с отцом почти пятнадцать лет. В феврале было бы ровно пятнадцать лет. Но февраль не настанет.
– Не хочешь позвонить ему?
– А смысл? Смысл начинать что-то перед тем, как все это потеряет свой смысл?
– Его и так никогда не было.
– Кого?
– Смысла.
Говоря это, я вспомнила тыквенный суп и то, как она наматывала чайную заварку на кромки чашки. Вспомнила ряды несвязных друг с другом кадров. Вспомнила музыку и то, о чем тогда думала – Но я все-таки ее вспомнила. Кафе «Смысл» где-то все еще продолжало существовать, но туда я больше не попаду – это было известно мне еще до сегодняшнего дня. Это кафе еще где-то существовало. И в этом об его окна все еще бились птицы. эту музыку я точно не вспомню. где-то
– Смысл есть.
– Да? И какой?
– Не знаю. О нем не обязательно знать. Можно просто думать – он где-то рядом.





