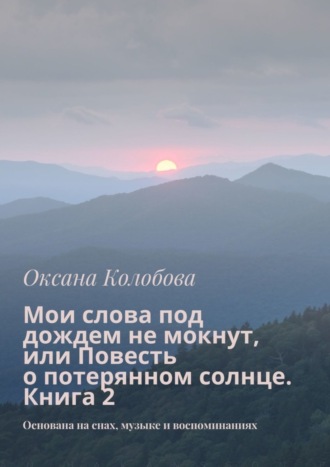
Полная версия
Мои слова под дождем не мокнут, или Повесть о потерянном солнце. Книга 2. Основана на снах, музыке и воспоминаниях
– О чем вы с ней говорили?
Я не могла поверить, что у все было так же, как было у . Я не учла одного – у людей никогда не получится. них нас разных одинаково
– Обо всем, о чем говорят люди. В основном – о чем-то, что нельзя потрогать. О , и. О словах, о лестницах, о смысле и вечности. . прошлом настоящем будущем О смерти
– Я не думаю, что об этом обычно говорят.
– Не знаю. Порою тебе достается что-то необычное, но со временем это все равно становится чем-то обычным. Все необычное всегда перестает быть необычным.
– Как думаешь, почему?
– Время все искажает. Даже нас самих.
– Ты не думал, что мы сами все ? А время – это то, что смотрит на это со стороны? искажаем
– То, что идет рука об руку?
– Да.
Он замолчал. Я видела, как погрустнели его и без того грустные глаза.
– Выходит, время ни в чем не виновато?
– Оно пластично. С ним, на самом деле, можно делать что хочешь.
– А с собой нам что делать?
– . Жить
– И все?
– Ты думаешь, это легко?
– Думаю да. Чтобы жить достаточно просто проснуться. И все – ты игрок.
– Смотря что ты имеешь ввиду под словом «жизнь».
Мы молчали. Я думала, что вплоть до конца пути мы ничего друг другу не скажем. Я была неправа. Порой так приятно оказаться неправым… Вы не заметили?
– Что ты думаешь о смерти?
– Зачем о ней думать?
– Чтобы помнить о ней.
– А зачем о ней помнить?
– Чтобы знать.
– Но мы и так о ней знаем.
– Иногда мне кажется, что в нее нужно верить, как в Бога. Потому что у всего есть две стороны. О мы всегда почему-то молчим. темной
Мы посмотрели друг на друга. Мне показалось, что моя лихорадка вновь была здесь. Мне показалось, что она коснулась моего предплечья, потом – колена. Я и не заметила, как пошел дождь. Дворники жирно мазали по треснувшему лобовому стеклу, размазывая иллюзорные образы, вставшие у меня перед глазами. Я видела бабушку в цветастом халате, видела Бима. Видела, как он откусывает мне палец и смотрит грустно-грустно – вы знали, что собаки тоже умеют плакать?… Я не могла отделаться от чувства, что потерялась во всей этой мешанине из , и что Остап ходил туда-сюда дворниками не по стеклу, а по мне самой, размазывая все то, что падало с неба, по моим рукам и ногам. Но она не умерла. Я это знала. Никто из нас по-настоящему умереть не может. А здесь ее не было. И под кроватью тоже. Теперь она была повсюду. Она во мне и в нем. Она в наших словах. В моей лихорадке. В дожде. Во всем, что называлось . Мне хотелось, чтобы он коснулся моего колена. Человеку всегда нужен был человек, и неважно какой. Я утопаю в своей личной пропасти. Этим летом выдалось много дождей. А мои слова под дождем не мокнут. времен Куда подевались ее руки и ноги? И где осталась она сама? Куда подевалось то, что от нее осталось? Не это ли называют ? смертью жизнью
– А жизнь и смерть…
– Это одно и то же.
Я сжала губы. Это одно и то же.
– Как змея, кусающая себя за хвост?
– Да. Жизнь – начало и конец. Смерть – конец и тут же начало.
Мы ехали по временной оси. Ехали, ехали, ехали, совсем не замечая ее концов. Быть может, концами были мы сами? Где искать ретрофутуризм? Какова того, что мы его найдем? А какова вероятность того, что мы найдем И куда, в общем и целом, мы держали наши пути? Совмещены ли они? вероятность нужную дверь?
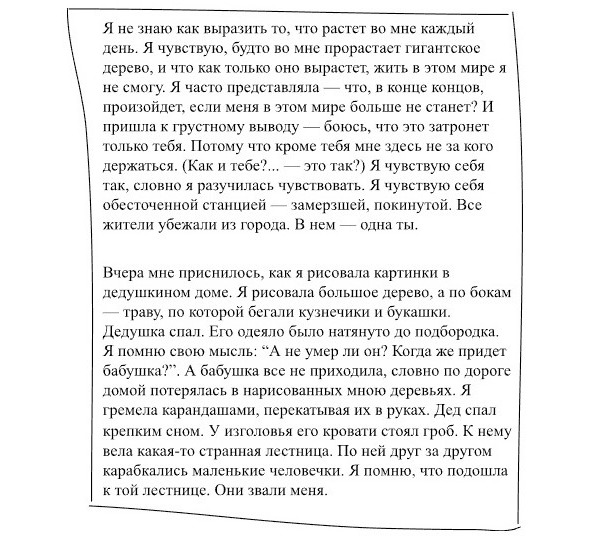
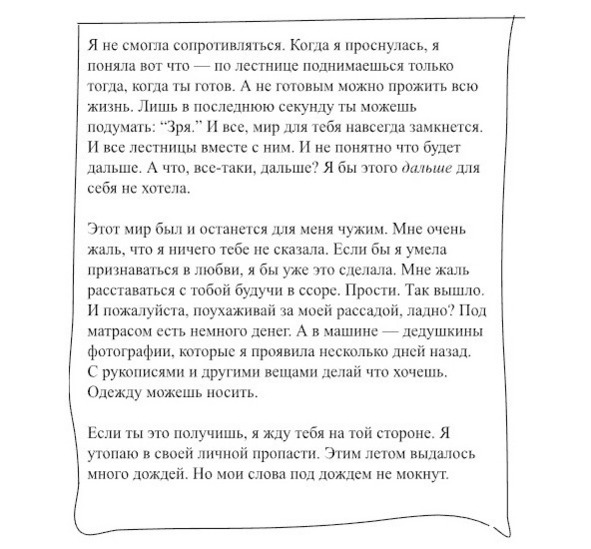
2
Графы отправителя и получателя были пусты
В тот дождливый день, как и в любой другой с ней, мы долго ехали по шоссе, пока не увидели откос, ведущий к берегу. Птиц на проводах уже не было. Что-то подсказывало мне – провожатых тоже не будет. Мы бесшумно покинули машину времени и вышли в дождь. Прикрыться нам было нечем. Так и шли под холодным дождем, увязая в мокром песке, как в болоте. Цветочное поле заменило всеобъемлющее – ни деревьев, ни кустов. Только песок, камни и вечная серость, пролившаяся на нас дождем. Бог все так же сидел в лодке. И я подумала – Он заметил нас издалека и посмотрел так, будто давно звал в гости, а мы все не шли и не шли… ничего если нас раздавит огромная космическая глыба, неужели он так и будет здесь сидеть? И когда-нибудь, переродившись звездой, я смогу посмотреть на него из космоса?
– Холодно.
– Холодно.
– Мне холодно.
– Так нарисуйте солнце.
– Я не могу. Больше.
Я подсуетилась и села рядом с ним на корму. Остап последовал моему примеру.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
Бог протянул ему руку для рукопожатия. Остап бережно обхватил ее своими.
– Будете кузнечиков.
– Нет, спасибо.
– Почему.
– У меня больной желудок.
– Понятно.
Рядом не было ни одной птицы. Можно было догадаться, что они где-то прятались от дождя, но в это, если честно, верилось довольно с трудом.
– Где ваши птицы?
– Они готовятся к отплытию.
– Куда?
– Мир погибает.
– Погибает?
– Ваша подруга успела во время. Теперь вы.
– Мы?
Он ничего не сказал. Я осмотрелась – к корме был приставлен зонт. Тетрадь лежала рядом с его штаниной. Ветер переворачивал ее страницы с на . Теперь я на все сто процентов понимала в чем было дело. тучи дождь
– Почему вы под зонтом не сидите?
– Не хочу.
– А нам можно?
– Конечно.
Я взяла в руки зонт и раскрыла его над тремя головами. Бог молчал, по-похоронному сложа на коленях руки. На его лице была написана вселенская скорбь. Только в тетради он почему-то больше о ней не писал – теперь ветер все решал за него. Видимо, отныне все должно было быть так.
– Вы сказали, что мир . Почему? И что это значит? погибает
– Очень скоро всему придет конец.
– Это потому что на небе нет солнца?
– Я его больше не могу рисовать.
– Почему?
– Так надо.
– И как настанет конец?
– Мои рисунки со временем смоет дождь.
– Но вы же можете это остановить?
– Не имею права.
– Но почему?
– Скоро вы все сами узнаете.
Я смотрела на то, как дождь вымывает песок из под моих ног. Вокруг моих ботинков формировались борозды. В них плескалась дождевая вода. Я подумала – интересно, а дождь может смыть реку? Вероятнее всего, нет. Но он может стать бесконечной рекой, и если будет идти вечно, сможет смыть города с лица земли.
– А где вы будете?
– Я уплыву вместе с птицами.
– Куда?
– К месту создания мира.
Я не знала о чем мне еще спросить.
– А что делать нам?
– Перейти на ту сторону.
– Как?
– Будьте здесь через три дня.
– Что будет, если мы не придем?
– Вы погибните как все люди.
– А можно как-то спасти и других?
– Нет.
– Почему?
– Они не готовы.
– Они должны погибнуть?
– Да.
– И все животные?
– Животные нет. Они будут в укрытии.
– Но почему нельзя спасти людей?
– Потому что они хуже животных. Животные зрячие. Они должны жить.
– Зрячие?
По его усталому виду было ясно только одно – ему было не до болтовни. Он ничего не ответил. Остап нервически тряс ногой.
– Я могу покурить?
– Покурить.
– Да.
– Это как.
Тут мне пришлось вмешаться:
– Помните те дымящиеся палочки из ваших видений?
– Да.
– Он про них.
– Покурите. А это хорошо?
Остап полез в карман куртки. Его ноготь заскользил по ткани со звонким писком.
– Не очень. Но куда деваться?
– Не знаю. А куда надо.
Остап махнул на него рукой. Плечи бога поникли. Я решилась его приободрить.
– Это выражение такое. Не берите в голову.
Он кивнул, как будто бы понял. Я успокоилась, но все еще ждала вопроса про голову и про то, что в нее можно брать, а что нет. Но вопроса так и не последовало – видимо, богу было не до голов.
– А что будет с вами?
– Я буду здесь.
– Где?
– Моря, реки и океаны сольются друг с другом. Я буду в вечном плавании.
– И что вы будете делать?
– Пока не знаю.
– Вам нельзя в укрытие?
– Мне надо плыть.
– Но зачем?
– Чтобы сторожить мир.
– От чего?
Он опять погрустнел. Я решила погладить ему руку.
– От чего-нибудь. Это мой долг. Я обязан сторожить его, пока не умру. Если мир вдруг исчезнет, я обязан сторожить то, что от него останется.
– А если вы никогда не умрете?
– Значит я буду здесь всегда.
Остап курил. Наши колени соприкасались. Я пыталась угадать, о чем он мог думать, а потом посмотрела на Бога. Его руки лежали ладонями вверх; ими он ловил капли – те, что должны были развалить наш мир на куски. В его лице ни намека на эмоцию. Лишь жирная морщина, положенная между бровями мостом, выдавала его гнетущие думы о судьбе всего того, что лежало сейчас у его ног: полуживое, полузабытое, ненастоящее. Я представила его в слепой . Я представила, как он неподвижно сидит в своей лодке, развернув ладони к небу, словно вопрошая: «». Кто бы знал – бог печется за наш мир больше, чем мы сами. Он – художник, чьи картины незаслуженно кто-то испортил. По его рукам текли капли. Он вяло потянулся к боковому карману и достал из него запечатанное в конверт письмо. бесконечности Почему? Интересно, небо ответит на все его вопросы? Может, все это было лишь для него? Жизнь, рисунки в тетради, кузнечики за пазухой, птицы? Мы? Может, вся наша жизнь – спектакль, устроенный в честь его самого? В кульминации погибает. В развязке он все узнает – о том, кто он такой и откуда, о том, почему он сидит в лодке в костюме на голое тело, и самое главное – о том, откуда у него рана на животе. его мир
– Сейчас я должен отдать вам это.
Я молча взяла письмо в руки, стараясь не намочить его под дождем. Конверт ничем не помеченный, нежно-персиковый. Графы отправителя и получателя были пусты.
– Можно сейчас прочесть?
– Читайте.
Я вскрыла конверт и все-таки уронила на него пару капель. Хруст прозрачного окошка прозвучал под звуки дождя чем-то неправильным и лишенным смысла. Так оно и было – смысл постепенно рассеивался, уходя куда-то далеко-далеко. Все мои и все мои вдруг стали чем-то водопроницаемым. Их постепенно затапливал дождь, разбросав повсюду мои старательные знаки вопроса. Один был и у Остапа под курткой. Его уж никакой дождь не смоет. А по мне так вот как – лучше бы и вправду все смыло. И если и умирать, то без всякого лишнего, как бог – босиком и в пиджаке на голое тело. Я представила, как умираю босиком и в одном пиджаке, а потом из меня сыпятся буквы и бесконечные . Я представила, что из каждого, кто вдруг умирает, сыпятся их слова и вопросы… Вот бы собрать это все и поместить в книгу. Он обещал вернуться? почему слова почему Не об этом ли пишут лоси и птицы в «Книге времени»?
???, 30 февраля, 1946 г.
Дедушка умер.
Мне снился сон, где он протягивает мне руку и я за эту руку схватился.
Я сижу на кухне. Рядом со мной полотенце, которого касалась мама когда-то в прошлом. Банка с вареньем, вареные яйца. Клеенка издергана моими пальцами. Вот уже который день я слышу одну и ту же мелодию – то завывающую, то резкую, как капли дождя по стеклу. Мелодию, которую своими неуклюжими, но точными пальцами отбивала Екатерина Андреевна. В глазах – плачущий портрет Чайковского, которого нам не удалось сберечь. Не потому ли он плакал? В моей душе он плакал по миру. Он плакал по маме, папе и дедушке, а потом обо мне, потому что я сам плакал. В моей душе мы с ним плакали и это было настолько грустно и правильно, что у меня не хватало слов – сколько бы я их не знал, я подобрать так и не смог, будто они кому-то уже принадлежали. вместе, нужных
Мне снился сон, как я рисовал на бумаге лестницы, а дед стоял где-то возле и крепко держал меня за плечи.
Все началось с того, что остановились часы. Двадцать восьмого февраля стрелки приблизились друг к другу на отметке 00:00 и застыли. Больше они друг от друга не убегали. Никто ни за кем не спешил. Я сидел на кухне и смотрел на часы. Я тоже ни за кем не спешил. Дедушка умер. Ждать мне было не кого. Ожидать чего-то – тоже. Мне казалось, что со стрелками замер и я. Батарейки в них менять не хотелось – мне нравилось быть Мне нравилась мысль, что меня для мира больше не существует, и что его для меня – тоже. Мне нравилось смотреть на обнимающиеся стрелки. Я сам для себя думал: длинная, что отсчитывает минуты – мой папа. Короткая, отмеряющая часы – моя мама. Это значило только одно – они наконец-то друг друга нашли. А я с ними тоже найдусь? Этого я знать не мог. обездвиженным.
Мой терновник все разрастался и я больше не пытался его рубить. Глядя в окно, я пытался сосчитать его корни и ветви, и сосчитал около ста и того и другого. Я больше не хотел рубить его. Я приложил топор к стене и сложив руки, сел на табурет. Я думал – уж пусть лучше все будет так. Пусть терновник растет там, где хочет. И даже если он перекочует к нам в спальню и начнет расти в кухне – мне было все равно. Я думал – не из ли могилы этот терновник пророс? Линда приходила ко мне во снах, и все как-то непонятно, что я даже не удосужился эти сны запомнить. Наутро я просыпался с пустой головой и ее именем на языке. Я потерял столько всего, что мне больше уже не хотелось удерживать то, что осталось. Мне и себя было не жаль потерять. потерять самого себя? Мне казалось, что только я у себя и остался. Все прошедшее представало передо мной чем-то смутным и абстрактным, как бывают смутны и абстрактны наши сны и мечты, вдруг смешавшиеся с реальностью. Все то казалось мне чем-то чем-то, что живет в квартире уже с кем-то другим. Мне казалось, что никогда не видело нашего кухонного полотенца; часов, теперь застывших; дверных стеклянных ромбов, сделанных нежно-зелеными; усов моего папы и орешков с вареной сгущенкой. Мне казалось, что давным-давно меня позабыло. В моей голове оно находилось где-то внутри того терновника, которого я больше не хотел рубить – все равно он отрастит себе второй хвост. Пусть терновник обступит меня со всех сторон. Я хотел чувствовать, как он становится моими сотыми и двухсотыми конечностями. Часы молчали, делясь со мной своим стеклянным безмолвием. Они ничего от меня не ждали. Я от них – тоже. Этим тридцатым февраля я больше ничего ни от кого не ждал. И теперь я был уверен – настанет вечный февраль. Тридцатое, тридцать первое, тридцать второе, тридцать третье, тридцать четвертое, тридцать пятое и …– и все февраля. ее Только возможно ли это было? – не моим, мое прошлое мое прошлое несуществующим тридцать шестое
В зеркалах как обычно я уже не отражался. Причину этому я так и не смог найти. Теперь вместо моего лица на меня смотрело чье-то усатое старческое лицо. В нем я видел и Со временем я к нему привык и стал считать, что это и что я смотрел сам на себя. Порою это лицо плакало и морщины на нем становились все четче – так после первой бессонной ночи комкается выглаженная простынь. Иногда лицо радовалось и тогда я радовался сам. Иногда оно хмурилось и выражало мне беспокойство. Тогда я его утешал, прислонившись к зеркалу лбом и пальцами. Вскоре лицо вновь прояснялось и на нем медленно вырастала нежная улыбка облегчения. Я думал, что это мое лицо. Я думал, что я смотрю на себя Мне было жаль это старое лицо, на котором и гнев, и слезы, и печаль смотрелись негармонично. Через пару дней рядом со стариком появилась девушка с короткими волосами, которую я видел тогда во сне и сразу запомнил. Она смотрела на меня то ли с вызовом, то ли с каким-то упрямством. Мне нравилось ее лицо. Мне нравилось ее упрямство. Ее лицо всегда было одинаково. А старик то плакал, то хмурился, то опять улыбался… знание печаль. мое лицо настоящий будущего.
Терновник рос. С ним росло мое равнодушие. Я позволял жизни идти туда, куда ей было надо. Ей я доверять не мог. Вмешиваться же тоже уже не хотелось.
Дедушка снился мне еще пару раз, а потом перестал. В каждом сне он протягивал мне свою теплую руку, а я хватался за нее как мог. После каждого сна я долго плакал молчаливыми слезами, пока подушка и ночная рубашка не становились сырыми – тогда я перебирался на кухню и пил за столом сладкий чай. Табуретка скрипела. Меня дубасило от холода и сырой одежды. Я потел холодным потом. Слезы текли по моему лицу и мне становилось легче. Я думал – Человек по ту сторону зеркала приободряюще трепал меня по плечу и прижимался к стеклу лбом и кончиками пальцев. Я не знал. на какое-то время я был спасен. А может, это я к нему прижимался?
Сестра с женихом все чаще ссорились. Для них, видимо, часы продолжали свой ход. Они не замечали, что стрелки замерли в одном положении и не торопились заменить батарейки. Они не знали, что скоро все будет кончено. Когда они ссорились, я уходил к себе в комнату и смотрел на зеленые ромбики. Я вспоминал, что раньше на двери висело полосатое полотенце и что отодвигая его краешек, отец подсматривал за мной по утрам. У него были красивые усы. У деда в отражении были такие же. Я был рад. Часы остановились, а февраль продолжал свой ход.
Я сунула письмо обратно в конверт – тот слегка зашуршал окошечком – и бережно положила его в нагрудный карман джинсовки.
– Что с Ией, вы не знаете?
Бог впервые ко мне повернулся и посмотрел прямо в глаза. Его глаза показались мне выцветшими, – под цвет дождя, легкого тумана или дымка из банной трубы. Смотреть в них означало нырнуть в ледяной колодец и уже из него не выбраться – то были глаза мудрого старика или умалишенного человека, перепутавшего выдумку с реальностью. А может, и прирожденного гения, никем так и не понятого.
– Она там где нужно.
– Ей тамхорошо?
– Наверное.
– Мы с ней когда-нибудь еще встретимся?
– Я так не думаю.
В ответ я только кивнула, затолкав руки поглубже в карманы. Существуют вопросы, на которые в глубине души ты уже знаешь ответы, но все-равно почему-то их задаешь, будто бы все могло оказаться . Но не оказывается. Надежда – слово губительное. Свою дочь я бы так называть точно не стала. И мне не было грустно. Скорее, мне было никак. Я смотрела на тучки. Они накладывались друг на друга разными цветами: тут – темно-серое пятно, там – кусок того же пятна, уходящий в гремучую синеву. В детстве я любила угадывать по облакам картинки и искать отгадки в их растрепанных контурах – порой они напоминали мне мои детские джинсы на размер больше, которые когда-то подрезала мама. Я видела два облачка, едва-едва касающиеся друг друга. И спустя пару минут ветер раскидал их по обе стороны неба. Я разочарованно перевела взгляд себе на руки – иначе сколько в них поместилось бы капель? Сколько таких рук может понадобится, чтобы вместить в себя все мои слезы, пролитые за столь короткую жизнь?
– Вам пора.
– Мы с вами еще встретимся?
– Да.
– Значит, еще не прощаемся?
– Еще не прощаемся.
Я сложила зонтик и прислонила его обратно к корме. Дождь покапал и прошел – а я опять не заметила. Мы поднялись. Бог протянул мне руку и я прижала к ней свою щеку. От грустных людей уходить получается хуже всего.
– У вас нет телефона?
– Телефона.
– Это такая штука, которая помогает людям связываться друг с другом.
– Нету.
– А вы бы хотели?
– Наверное.
– Не знаю, есть ли связь , но можно попробовать. на той стороне
– Что для этого нужно.
– Ничего. В следующий раз я принесу вам этот приборчик.
– А у вас он есть.
– Есть.
– Ладно.
– Теперь, где бы вы ни находились, мы сможем поговорить друг с другом хотя бы пару минут.
– Хорошо.
Бог улыбнулся. Я улыбнулась ему в ответ. Остап щелкал суставами. Пора уходить. Я отпустила его руку и сделала шаг назад, роняя повсюду дождинки со своих рук и волос. Остап схватил меня за локоть и остаток пути мы проделали уже под руку. Я посчитала – всего нами было сделано ровно восемьдесят пять шагов. Я считала, чтобы мне было уйти, но едва ли мне было от этого мне не стало даже в машине, а домой я вообще боялась идти. Чего мне там ждать? А главное – от кого? На улице уже темнело – солнца не было, и дню было некуда себя деть. Остап молчал и курил в окно. Я положила голову ему на плечо. Его волосы щекотали мне нос и щеки. И я хотела бы рассмеяться, но не нашла в себе сил. проще проще. Проще
Теперь мы никому не принадлежали. Могли ли мы принадлежать друг другу? Хотя бы на те три дня, что нам оставались? Тот кто принадлежал себе, не мог принадлежать кому-то другому, а тот, кто себе не принадлежал, стремился занимать в чьей-то жизни только первые места. Видишь ли, никто не хотел ощущать . Вслед за пустотой приходили нехорошие мысли. Они доверия никому не внушали, надежды – и подавно. Все хотят, чтобы их спасали, но никто не хочет спасать. Ну а себе принадлежали только всякие ублюдки, – те, кто никому и никогда коленки не мажут: ни себе, ни другим. Им, вообще-то, на всех было плевать – пусть хоть мир перевернется. А я чувствовала себя так, словно все предметы в мире вдруг превратились в маленьких рыжих тараканов, а где-то на небе включили свет, – — и они, перепугавшись то ли яркого света, то ли самих себя, разбежались кто куда. В такой суматохе слова быть уже не могло. Оно стало тараканом и отрастило себе усы и маленькие ножки, а потом кто-то из домочадцев со злости прибил его тапком. Я зарылась в его кудрявые волосы, надеясь, что мои мысли где-нибудь среди них запутаются. На запотевших стеклах просвечивали отпечатки пальцев, а где-то – миниатюрные рисунки, какие люди рисуют, запутавшись сами в себе. То были маленькие послания прошлого. Не намеренные, случайные – для меня они были лучше всех остальных. пустоту чик! принадлежать
– Куда ты хочешь поехать?
Перед крушением мира ответа могло быть только два: «куда-нибудь» и «никуда». Я хотела быть и одновременно. В тот момент в голову пришло только одно – библиотека, по потолку которой были рассыпаны звезды. Я вспомнила, как мы лежали на грязном матрасе, вспомнила ряды покалеченных книг и паучка, которого она нашла между страниц книги по овцеводству. При воспоминании о наших крепко сцепленных руках у меня похолодели сердце и разум – губительные воспоминания самые сладкие. На языке вертелся ответ, который зачем-то хотелось выкрикнуть. Мне казалось, что так он исчезнет из моей головы. Но я то знала – он умрет только вместе со мной. везде нигде Что должно произойти, чтобы мы расцепили руки?
– Знаешь дорогу к библиотеке?
– К какой из?
– К заброшенной. У нас в городе такая одна.
Остап выкинул сигарету и прикрыл окно, после чего снял грязно-желтую ветровку и отбросил ее на заднее сидение. Опомнившись, я последовала его примеру и подумала о письме – – подумала вяло и вымотанно, словно мне уже ни до чего не было дела. Так и было. Кроме звезд и наших сцепленных рук ничего не могло взять меня за живое. Остап смотрел на дорогу. Я смотрела глубоко внутрь себя. не помнется? прошлых
– Может, музыку включим?
Я не хотела.
– Да, конечно.
Бардачок пах по-старому. Порядок вещей был для меня обыденным: диски, сигареты в старой засаленной пачке у самой кромки, очки и пустой уголок для игральных карт с голыми женщинами. Когда-то они там точно лежали. Поверх стопки дисков лежал один перевернутый. Догадаться было несложно. Radiohead. Я пропустила вдох. В моей руке диск смотрелся обыденно и привычно, но звучал уже как-то Я подумала – богу в лодку обязательно нужна магнитола. Пустую коробку я засунула обратно в бардачок, стараясь положить ее , а потом, о чем-то задумавшись, достала сигарету из старой дедовой пачки. Музыка из динамиков накатывала на меня волнами и что-то сотрясала внутри. Будь я копилкой, во мне бы бренчала какая-нибудь одинокая монетка. Ну а так, трястись во мне было нечему. иначе. ровно





