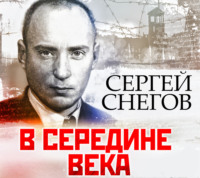Полная версия
Диктатор
Я не удержался от иронии:
– Недавно я сам разбирал спор между милосердием и террором – говорю о казни Карманюка. И решил его в пользу террора. Боюсь, это будет происходить чаще.
Гамов молча развел руками. Он мыслил широкими категориями – обыденщина не всегда подтверждала общие концепций, и тогда он на мгновение терялся.
– Второй вопрос. Какую дьявольщину, Гамов, вы вкладываете в понятие акционерности? Разве карать и миловать военных преступников мы будем на паях с кем-то? Да еще – на денежных?
– Справедливость – это понятие общечеловеческое, а не привилегия какого-либо одного государства, – ответил Гамов. – Нельзя исключить, что сегодняшние наши враги потребуют наказания военных преступников, которых найдут у нас. И вот для обеспечения равноправия мы и предложим единые органы кары и милосердия. Финансовую их базу равноправно обеспечат обе стороны. Мы свой вклад вносим.
– Фантастика! Неужели вы думаете, что кортезы пожертвуют свои деньги, чтобы судить своих же сограждан?
– И наших, Семипалов! Звучит пока маловероятно… Но уверен: потом ситуация переменится.
Обычно Гамов высказывал свои решения точно и недвусмысленно. Но идея превратить Черный и Белый суды в разновидность международных акционерных обществ была просто невероятна. Я мог бы многое возразить, но не стал. Будущее покажет, что и Гамов ошибается, сказал я себе.
Гамов попросил задержаться меня, Пеано, Вудворта и Прищепу, остальных отпустил.
– Вы хотели нам что-то сообщить? – обратился он к Прищепе.
– Скажите, вы хорошо знаете своих сотрудников? – спросил Прищепа Вудворта.
– Не всех. В министерстве внешних сношений сотрудников больше тысячи. Я не собираюсь каждого узнавать.
– Я спрашиваю о гласном эксперте по южным соседям Жане Войтюке.
– Войтюка знаю. Знаток своего дела.
– У меня подозрение, что он шпионит в пользу Кортезии.
– Подозрение или доказательства?
– Пока только подозрение.
Павел сказал, что Войтюк один из первых подал покаянный лист. Многие еще не решаются повиниться, и это задерживает конструирование нового государственного аппарата. Он же сразу признался во взятках и незаконном использовании служебного положения, даже в том, что обманом спихнул своего предшественника. Приличный набор грехов. Честное признание и высокая квалификация Войтюка позволили сохранить за ним должность. Но об одной своей вине Войтюк умолчал, хотя она на первый взгляд столь мала, что ее можно было и не таить. Войтюк близок с послом Кнурки Девятого Ширбаем Шаром.
– Я тоже знаком с Ширбаем Шаром, – сказал Пеано, ослепительно улыбаясь. – Очаровательный человек, хорошо образованный, умница. Эксперту по южным странам необходимо общаться с послами этих государств.
– Я еще не все сказал, Пеано. Ширбай Шар в своем королевстве – платный осведомитель Кортезии.
В улыбке Пеано появилось пренебрежение. Племянник многолетнего правителя страны полагал, что лучше разбирается в международных делах, чем недавно приступивший к этому делу Павел.
– А что он мог выдавать Кортезии? Количество базаров и цены на них? Все остальное в Торбаше малозначительно. Кнурку Девятого невозможно ни предать, ни продать. Считаю ваши подозрения недоказанными.
– Вы торопитесь, Пеано. Жена Войтюка, очень красивая женщина, часто надевала на придворных балах изумрудное колье. Вот снимок этого редкого произведения искусства. – Прищепа положил на стол Гамова цветную фотографию. – А теперь посмотрите каталог знаменитых украшений. Точно такое же колье, но на нем надпись «Реликвия семейства Шаров в Торбаше». Ширбай Шар подарил Войтюку семейную драгоценность – и, очевидно, в благодарность за большие услуги.
– А не подделка ли драгоценность Войтюка?
– Камни настоящие. Я постарался узнать, осталось ли такое колье в доме Шара. Сегодня мне доложили, что в коллекции Шаров его больше нет. Но Ширбай Шар о пропаже драгоценности полицию не извещал – значит, изъял колье сам.
Теперь в глазах Прищепы светилось не пренебрежение, а удивление. Я не стал рассматривать снимки. Меня никогда не интересовали драгоценности.
– Убедительно, – сказал Пеано. – Арестовать Войтюка! Нет, какой мерзавец! Усыпил нашу бдительность покаянным листом – и думает, что отделался!
– Не согласен, – сказал Гамов. – Угаданного шпиона нужно не арестовывать, а культивировать. Его можно использовать для дезинформации противника. Вы молчите, Семипалов?
– Я не убежден, что Войтюк шпион. Может быть, колье подарено за интимные, а не политические услуги? Наши южные соседи ценят женскую красоту. Не откупился ли неудачливый дипломат семейной реликвией от мести мужа? В этом случае вносить появление драгоценности в покаянный лист необязательно.
– Итак, есть подозрение, что Войтюк шпион, а доказательств нет, – сказал Гамов. – Предлагаю подкинуть Войтюку секретную информацию и проверить, дойдут ли она до противника. Пеано, нет ли у вас тайн, которыми вы могли бы пожертвовать без большого ущерба для нас?
Пеано задумался.
– Мы готовим большое наступление на южном участке Западного фронта. Оно должно вывести нас в потерянные районы Ламарии и Патины. Но почему не замаскировать удар на севере? Если Войтюк шпион, он передаст этот важный секрет врагу – и кортезы с родерами поспешат оказать противодействие северному натиску. Сразу две выгоды: ослабим противодействие врага на юге, где развернется наше наступление, и установим, что Войтюк точно шпион и это можно использовать в дальнейшем.
– Ваше мнение, Семипалов?
Я помедлил с ответом. Пеано был хорошим стратегом, но разрабатывал свои планы за столом, вел солдат в сражение не он. Войтюк не стоил того, чтобы ради раскрытия его тайной роли, если она и была, подвергать северную армию большой опасности.
– Я против. И вот почему. Если враг испугается отвлекающего удара с севера и подготовит мощный отпор, он сможет сам перейти в наступление. Что мы противопоставим ему тогда? Под угрозу попадет Забон.
Пеано заколебался.
Он до сих пор разрабатывал свои оперативные планы по моим указаниям и еще не чувствовал полной самостоятельности. Но Гамов заупрямился. Прищепа уверяет, что заблаговременно узнает, готовится ли противник к большому отпору на севере, и тогда мы дополнительно укрепим оборону Забона. Но у меня на душе скребли кошки. И родеры, и кортезы были слишком умными противниками, чтобы легко поддаться на такой примитивный обман.
– Дело за вами, Вудворт, – подвел Гамов итоги спора. – Соблаговолите как-нибудь проинформировать Войтюка, что мы готовим большое наступление на севере.
– Сделаю, – сказал Вудворт.
Гамов предложил мне остаться, остальных отпустил.
– Семипалов, – сказал Гамов, когда все ушли, – у меня к вам личная просьба – обещайте не отказывать.
– Сначала узнаю, что вы просите.
– Хочу, чтобы ваша жена вошла в правительство.
– Елена фармацевт. Разве фармацевтика – разновидность политики?
– У нас в правительстве нет женщин. Она могла бы стать заместителем Бара. У него хватает забот с мужчинами, а женщин в тылу все же две трети населения.
– Гамов, не виляйте! Вы еще до захвата власти спрашивали меня, не ревнив ли я. И помните, что я ответил.
– А я сказал, что ваша ревность меня устраивает. Так выполните мою просьбу?
– Карты на стол, Гамов! Вы недоговариваете.
– Я раскрою все свои карты, когда докажут, что Войтюк шпион. Даже малейших секретов между нами не будет. И у вас не будет причин злиться на меня, обещаю. Но Елена должна появиться на заседаниях правительства еще до разоблачения Войтюка.
Я понимал: дело было не в Войтюке – я помнил прежние разговоры, уже тогда показавшиеся мне странными. Гамов давно задумал какой-то план, Войтюк был лишь поводом больше не откладывать его осуществления.
Я сказал:
– Буду ждать разоблачения Войтюка и последующего разъяснения. Елена завтра же появится в роли заместителя Готлиба Бара.
4
Появление первых номеров двух газет: «Вестника Террора» и «Трибуны» – стало сенсацией. И крысолицый максималист Пимен Георгиу, и монументальный оптимат Константин Фагуста с аистиным гнездом на голове – оба показали, что заняли свои редакторские кресла по призванию, а не по номенклатурной росписи. «Вестник» устрашал – истинный глашатай Террора. «Трибуна» требовала свободомыслия и критиковала правительство. И обе газеты печатались в одной и той же типографии!
Я растерялся, когда на мой стол положили оба листка. Если бы «Трибуна» тайком ввозилась из какой-нибудь вражеской страны, ее появление было бы понятней. Но она печаталась по указанию Гамова, он объявил, что договорился с Фагустой – мне подобное согласие показалось чудовищным.
– Вы читали «Трибуну»? – позвонил я Гамову.
– Обе газеты читал. Великолепно, правда?
– Не великолепно, а безобразно. Говорю о «Трибуне».
– Статья Фагусты – квинтэссенция программы нашей оппозиции! Перечитайте ее внимательно.
Я не понял восторгов Гамова. Мне было неясно, как совмещать террор с официальной оппозицией правительству. Была прямая несовместимость в понятиях «террор» и «свободомыслие».
Первую полосу «Вестника» отвели рассказу о создании акционерных компаний Черного и Белого суда, призванных: первая – жестоко расправляться с каждым виновным в организации и пропаганде войны, а вторая – проявлять к ним милосердие и защищать безвинных. Латания вносит в каждую компанию по пять миллиардов латов в золоте и призывает все страны, в том числе и те, с которыми воюет, стать пайщиками обеих компаний.
Вторая полоса открывалась большой статьей председателя компании Черного суда Аркадия Гонсалеса под названием «Высшую справедливость оснастить чугунными кулаками». Гонсалес повторял идеи Гамова. Этот херувимообразный красавец, Аркадий Гонсалес, не был способен изобретать новые методы и открывать неизвестные истины. Он был превосходным исполнителем – грозным исполнителем, как вскоре выяснилось – государственных концепций Гамова, но не более того.
Статья складывалась из трех разделов: «Вызовы на Черный суд», «Предупреждения Черного суда», «Приговоры Черного суда».
Вызывались на Черный суд руководители всех стран, с которыми мы воевали: список в сто фамилий. И начинал его, естественно, Амин Аментола, президент Кортезии, а завершал Эдуард Конвейзер, богатейший банкир мира, заправила военной корпорации. После таких знаменитых имен уже не удивляло, что в списке – первом списке, деловито уточняла газета – значатся министры Кортезии и Родера, командующие их армиями, владельцы военных заводов. Вызываемых ставили в известность, что заседания Черного суда происходят в Адане, столице Латании, и что никакие причины неявки, кроме смерти вызванного, в оправдание не принимаются.
Я не смеялся, конечно, но не был уверен, что другие читатели не хохочут. Требование, чтобы обвиняемые добровольно явились на суд в нашу столицу, было фантастически невероятным.
В разделе «Предупреждения Черного суда» было немного имен реальных людей и много рассуждений. Журналистам и священнослужителям напоминали об их великой ответственности перед человечеством. И всем им грозили великими карами, если они не поймут ее, лежащей на их плечах. Лишь десяток фамилий оживляли этот в общем-то мало конкретный раздел: четверо журналистов, особо ратовавших за войну, два епископа, произносивших воинственные проповеди, и несколько промышленников.
Зато невыразительность второго раздела многократно перекрывалась «Приговорами Черного суда». Восемьдесят четыре военных преступника заочно приговаривались к смертной казни: тридцать восемь летчиков, сбросивших бомбы на мирные города, с десяток офицеров-карателей, три священника, благословляющих авиабомбы, комендант и солдаты лагеря военнопленных, лично расстреливавшие тех, кто им не нравился. Можно было поражаться, как Гонсалес за короткий срок сумел обнаружить столько военных преступников. Я догадывался, что тут не обошлось без помощи моего друга Павла Прищепы, недавно скромного инженера в моей лаборатории, а ныне энергичного организатора государственной разведки.
Нового в перечислении фамилий военных преступников, конечно, не было. Все воюющие страны составляют такие списки. Новое было в том, что Гонсалес предлагал любому человеку выполнить смертные приговоры и получить за это плату в золоте, латах или диданах. Размер гонорара ошеломлял. Самую маленькую награду, сто тысяч латов – сумму, которую средний рабочий мог заработать лишь за сотню лет, – министр Террора обещал за казнь незначительных преступников, вроде полицейских и карателей. Смерть летчика оценивалась в триста тысяч лат, а за коменданта лагеря Гонсалес назначил полмиллиона – состояние даже в такой богатой стране, как Кортезия. Одновременно Гонсалес предупреждал, что только казнь приговоренных Черным судом оплачивается, ибо только она одна – законна. Любое убийство любого человека, пока на то нет приговора, – бандитизм, а не Священный Террор.
А после извещений Черного суда «Вестник» публиковал обращение Белого суда ко всем народам мира, подписанное Николаем Пустовойтом. Наш министр Милосердия извещал, что его ведомство принимает апелляции на любые приговоры Черного суда и обладает правом приостанавливать их исполнение. Правда, на очень короткий срок, многомесячные затяжки обычного судопроизводства заранее отвергаются. Пословица «Бог правду видит, но нескоро скажет» для нас неприемлема, мы за скорую справедливость. Обращайтесь немедленно к нам, если считаете приговор Черного суда несправедливым. Еще Пустовойт сообщал, что при Белом суде создана коллегия адвокатов, оценивающая справедливость любого решения суда Черного – никто не останется без защиты. А если подсудимый – гражданин той страны, которая стала акционером Белого суда, то этот человек может выставить и своего адвоката для апелляции в Белый суд. Вот такой был первый номер «Вестника Террора и Милосердия» – террора, во всяком случае, в нем было больше, чем милосердия.
«Трибуну» открывал материал Константина Фагусты «На службе высшей справедливости – палачи!» Много мне приходилось читать статей – спокойных и патетических, гневных и ликующих, обвиняющих и восславляющих, но такой я еще не видел. О Фагусте знали, что он талантливый журналист, что перо его ядовито, недаром Артур Маруцзян не только ненавидел его, но и побаивался. «Неистовый Константин!» – называли его друзья, как, впрочем, и враги, опасавшиеся его едких оценок. Со всей силой своего писательского дара Фагуста бросился воплощать в жизнь угрозу: «Вы раскаетесь, что разрешили мне печатать газету!»
Он начинал с того, что обрадовался свержению своего старого врага Артура Маруцзяна.
Любое другое руководство будет лучше этих бездарей, так он твердо считал. Он слышал о военных талантах нового главы правительства, и, хоть его смущала реклама самому себе в каждой передаче по стерео полковника Гамова, все же, думал он, во время войны лучше талантливый солдафон, чем маршал Комлин, солдафон бесталанный. И поэтому он искренно принял странное правительство Гамова. Странное – потому, что возникло оно неожиданно и повело себя непохоже на то, как должны себя вести нормальные правительства. Поживем – увидим, уговаривал он себя – и был лоялен к новой власти.
Теперь он будет говорить как человек поживший и увидевший. Гамов провозгласил, что правление его будет неклассическим – по-видимому, его любимое определение. И начал с того, что назвал себя вполне классическим диктатором, то есть властелином выше закона. И замахнулся на тысячелетние обычаи: ввел денежные награды за военные успехи солдат и офицеров. Он оплачивал случайно доставшимися ему деньгами не только захват чужого оружия, но и убийство врага, и полученные в бою раны, даже – страшно сказать – тебе платили за твою собственную гибель, не тебе самому, разумеется, а тем, кого ты назвал своими наследниками. А сейчас этот необычный способ Гамов превращает в военную каждодневность. За любой «акт героизма» солдатам и офицерам будут выплачивать крупную сумму – и не в старой малоценной валюте, а в золоте. Вдумайтесь, я требую, в чудовищную аморальность решений нового правительства! Ведь оно превращает войну из арены, где испытывается верность солдата отчизне, его мужество, его готовность грудью защищать своих детей и близких, в какое-то доходное частное предприятие! Война – великое преступление перед человечеством, а теперь из этого преступления каждый в нем участвующий сможет извлекать личную наживу. Убил врага – получай монету! Тебя ранили – тоже неплохо, распишись в деньгах за рану. А убили тебя – твоя семья порадуется: неплохой профит! Смерть солдата всегда приносила горе, это было благородное чувство – скорбь от потери родного человека. А теперь к горю от гибели примешивается и радость от награды за смерть. Какое кощунство! Какое немыслимое кощунство!
Но и такого нарушения священных обычаев войны новому правительству мало. Оно изобретает еще один неклассический метод борьбы. Оно заочно, из своего дворца в столице, будет судить тех, кого объявит военными преступниками. Нет, мы не за то, чтобы преступники избежали наказания. Кто совершил преступление, тот должен понести кару. Такова высшая справедливость! Но можно ли точно определить вину человека, не спросив его самого, почему он делал то, что сделал? Черный суд вызывает обвиняемых к себе, но ведь это смехотворно! Ни один человек не отправится в страну, с которой воюет его государство, только для того, чтобы его там казнили. А если, спятив, и решится на такое гибельное путешествие, то как он сможет его совершить? Тайком проберется через линию фронта?
Но и это не все! Кому поручается выполнение приговоров? Любому, вдумайтесь в это! Диктатор приглашает весь народ попрактиковаться в палачестве, вот его замысел. Он заражает бациллами бандитизма общество – пусть даже воюющее сегодня с нами, но все же человеческое! Он превращает целые народы в тесто, вспухающее на дрожжах ненависти и взаимного истребления. И после этого говорить о высшей справедливости! Но где гарантии, что в волчьей охоте за обвиненным погибнет только он сам, что одновременно с ним не умрут защитники, посторонние люди, случайно оказавшиеся рядом? Да, господин Гонсалес предупреждает, что не оплатит убийство лиц, предварительно не осужденных Черным судом. Но разве такое предупреждение предохранит от случайных и попутных убийств? Какое же лицемерие – приводить в исполнение свои приговоры, подвергая смертельной опасности тысячи невиновных! Использовать для этого кровавые руки профессиональных бандитов! Ведь на призыв обогатиться ценой выстрела в спину «осужденного» прежде всего, охотней всего, усердней всего откликнутся преступники. Они и раньше не гнушались убийствами, но какие это были убийства? Очистить карманы, снять кольца и часы – добыча не оправдывала удара ножом, а ведь удары наносились. А теперь за тот же удар ножом – состояние! Голова кружится – так выгодна стала охота на человека… Профессиональные бандиты – служители высшей справедливости!
Такова международная правда диктатора, негодовал Константин Фагуста. А какова правда внутренняя? Да не лучше! Можно еще допустить, что злодеи, нападающие ночами на стариков и женщин, заслуживают кар и потяжелее, чем заключение в тюрьмах, где их содержат в тепле и спокойствии. И даже унизительное утопление их главарей живыми в нечистотах можно принять – как меру, отвечающую суровым условиям войны. Но карать родителей преступников, наказывать их близких! На днях министерство Террора ликвидировало банду на окраине Адана. Главарь банды, в дневное время грузчик продовольственного магазина, за убийство женщины, ее мужа и двух детей приговорен к позорному утоплению. Стерео показало нам эту омерзительную сцену. Что ж, жестоко, но известная справедливость в неклассической казни была: диктатор недаром объявил, что будет властью не просто жестокой, но свирепой – свирепым защитником справедливости, так его следовало понимать. Но какая же справедливость в том, что на месте казни стоял понурый отец, а мать рвала на себе седые волосы, а потом упала без чувств, когда сын утонул в отвратительной помойке? Или в том, что обоих стариков сразу после казни увезли на далекий север – на холод, на муки, на нищенское полуумирание? При казни присутствовала подруга бандита, молоденькая девушка, они встречались всего неделю, она и не подозревала, что он угощает ее на преступные деньги. И ее заставили смотреть на казнь, а после выслали тем же поездом на тот же север. «Я же только хотела потанцевать, я не знала, кто он! Я не брала у него денег!» – так она кричала. И я спрашиваю: неужели была самая маленькая справедливость в свирепом наказании, которому подвергли девушку за желание потанцевать, вкусно поесть, сладко попить? А если это и вправду справедливость, то что же тогда называть ужасом и преступлением, издевательством и беспощадностью?
Фагуста заканчивал гневную статью грозным предупреждением:
«Мы живем в ужасное время, когда мир распался надвое и одна половина пошла на другую. На полях сражений гибнут тысячи людей. С первым выстрелом из электроорудия обрушились вековые принципы справедливости. Но она существует, человеческая справедливость, даже временно отстраненная. Она возродится и объявит миру: казнями не породить добра, бесчестьем – благородства. И смертью смерть не попрать! И тогда мы призовем к ответу всех, кто творит сегодня во имя справедливости великую несправедливость. И они закроют лицо руками, ибо не найдут для себя оправдания. Верую, люди, верую!»
Я отложил «Трибуну» и позвонил Гамову.
– Прошу немедленно принять меня.
– По телефону нельзя, Семипалов?
– По телефону нельзя.
– Тогда проходите в маленький кабинет.
Я положил обе газеты на стол Гамову.
– Итак, вы перечитали их внимательно? – спросил Гамов.
– Перечитал – и очень внимательно.
– И ваше мнение сильно изменилось?
– Изменилось, Гамов!
– Вы хотите сказать…
– Да, именно это! Сгоряча я назвал «Трибуну» безобразием. Сейчас я считаю появление этой газеты вражеской диверсией. Я требую ареста Фагусты, пока он не подготовил второго номера.
– Не поняли. Ни вы не поняли, ни Гонсалес.
– Я не знаю мнения Гонсалеса.
– Такое же. Немедленный арест Фагусты – и предание его Черному суду. Семипалов, вы так поднялись на Фагусту потому, что он лжет? Придумывает факты, которых не было?
– Да нет же, нет! Он опытный софист, этот ваш новый любимец Фагуста. Фактами он оперирует реальными. Толкование фактов – вот что возмущает. Самый злейший наш враг не обрушивает на нас такую критику, как он, кому вы разрешили свободомыслие.
– Вы против свободомыслия, Семипалов?
– Гамов, разве я давал повод считать меня глупцом? Я за то свободомыслие, которое идет на пользу нашему с вами делу, а не за то, которое подрывает его основы. Террор и хаотическое свободомыслие – болтай-де чего влезет – абсолютно несовместимы.
Он на несколько секунд задумался.
– Семипалов, поставьте перед собой такой вопрос: в чем смысл террора? В том, чтобы жестоко наказывать преступников? Считать так могут одни дураки, а мы с вами умные люди, так вы сами сказали. Террор должен не только карать преступления, но и предотвращать их – с помощью страха перед ужасающей карой. Террор – в порождаемом ужасе перед преступлением, а не в количестве проливаемой крови. А ужас создается гласностью. Вспомните тюрьмы Маруцзяна. Там бандитов и вешали, и расстреливали. Но их не убавлялось. Почему? Известия о расстрелах не публиковались, чтобы не расстраивать народ, – и они теряли свое устрашающее значение. И мы согласились с вами, что смерть гораздо меньше пугает людей, чем позор перед смертью. Все мы сойдем в могилу, а вот захлебываться в нечистотах, да еще публично!.. Как только мы приступили к такому террору, как резко снизились грабежи и убийства, разве не так?
– Но мы надеялись, что бандиты начнут приходить с повинной, а пока этого нет.
– Время не подошло. Зимой в стране не останется ни одной банды, уверен в этом. Но вернемся к Фагусте. Вам не нравится, что он расписывает ужасы террора. Но ведь это как раз то, в чем мы нуждаемся. Фагуста возбуждает в людях ужас, живописуя казни. И делает это с таким искусством, с такой моральной силой, что поражаешься… Если бы Константина Фагусты не существовало, его следовало бы выдумать. Но он уже существует, и это большая наша удача.
Я задал последний вопрос:
– Гамов, Фагуста показывал вам статью перед тем, как послать ее в печать?
Гамов ответил подчеркнуто спокойно:
– Нет, Фагуста не показывал мне этой статьи перед тем, как послал ее в печать.
Намеренное повторение моих слов было неслучайно. Но тогда я этого не понял.
5
В Адан съезжались главы правительств наших союзников.
Конференции союзников происходили и раньше. Артур Маруцзян обожал торжественные совещания, велеречивые доклады и длинные, как простыни, газетные отчеты. Союзники, в свою очередь, с трибун грозно кляли Кортезию, обещали нам всемерную поддержку в борьбе с заокеанскими грабителями, получали займы и подачки и разъезжались – удовлетворенные и собственными речами, и публичными обедами.