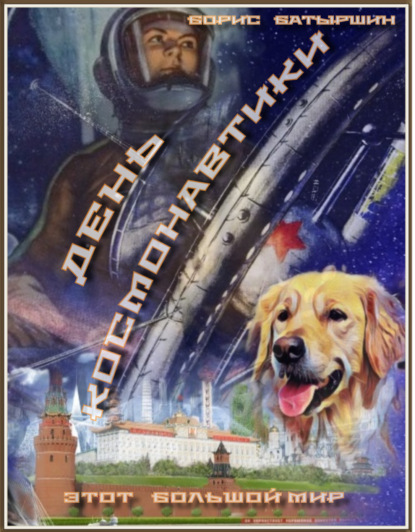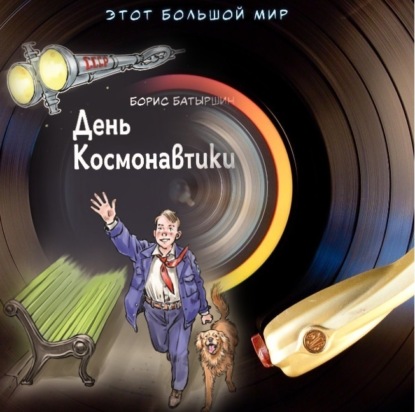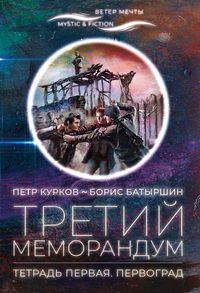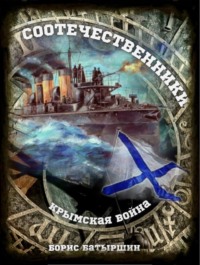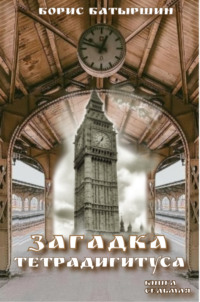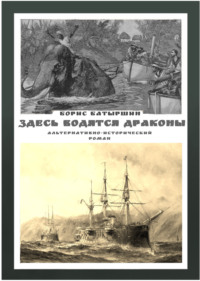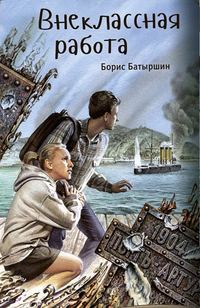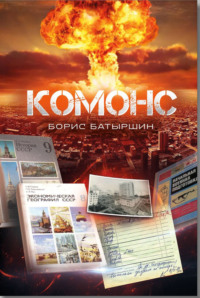Полная версия
Этот большой мир. Книга третья. Звёзды примут нас
– Можно вопрос? – заговорил парень, висящий под самым потолком, так что Дима видел только его ноги, в оранжевых штанинах и массивных ботинках «Скворца». – Вы говорите, всплеск солнечной активности?
– Ну да, – второй пилот кивнул. – Я же сказал: солнечная буря!
– А это не опасно для нас? Радиация – гамма-лучи и всё такое?
По салону прокатились тревожные шепотки. Вопрос интересовал всех.
– Нет, тут волноваться не о чем, – первый пилот отстегнул поясной ремень, удерживавший его в ложементе, всплыл над пультом и повис головой вниз, держась за спинку. – Корпус лихтера экранирован дополнительными панелями противорадиационной защиты, наподобие тех, какими защищают корпус «Гагарина». К тому же будем держаться к Солнцу кормой, и блок маневровых двигателей обеспечит дополнительную защиту от проникающего излучения. Так что – он оскалился в жизнерадостной улыбке – никто из нас не облысеет, во всяком случае, на этот раз. Ещё есть вопросы?
Вопросы, конечно, были, в том числе и у Димы, но он решил пока придержать их при себе. Успеется.
– Хорошо, продолжай, Миша, – кивнул первый пилот напарнику. Оттолкнулся от спинки кресла и повис перед пассажирами. – Похоже, нам, друзья, придётся устраиваться здесь надолго. Сейчас надо в первую очередь…
– Надолго – это на сколько? – перебил пилота белобрысый – как успел узнать Дима, монтажник, специалист по сборке крупногабаритных конструкций в невесомости. – Сутки, двое, неделя?
Первый пилот покосился на него с неудовольствием. Что за манера такая – прерывать командира корабля? Монтажник, осознав свой промах, стушевался, сделав попытку спрятаться за спину висящего по соседству Попандопуло.
– Отвечаю на вопрос, – заговорил пилот. – Если «Тесла» уже летит к нам, то ожидание вряд ли затянется больше чем на двое-трое суток. Напоминаю: им надо экономить топливо, поскольку грузовой контейнер прибудет следом за нами, и его, может статься, тоже придётся разыскивать. Так что пойдут на ограниченной тяге, а значит, будем рассчитывать как минимум на неделю. Это в том случае, если нас уже обнаружили. Если же нет – накидывайте ещё столько же. В худшем варианте мы проведём тут недели две – две с половиной.
О том, что их могут вообще не найти, пилот благоразумно умолчал, но Диму эта мысль кольнула, словно ядовитой иголкой. Он помотал головой, отгоняя её прочь – не хватало ещё запаниковать…
– Две с половиной недели? – охнул кто-то сзади. На него зашикали.
– Да, именно так, – подтвердил пилот. – А потому, сейчас надо обустроиться, чтобы легче было переносить ожидание. Для начала разберём кресла – в салоне тесно, а так мы очистим хотя бы немного пространства. Не забывайте, нам торчать в этой консервной банке две недели, и не хотелось бы всё время сталкиваться локтями… и другими частями тела.
Слушатели загудели, подтверждая – да, не хотелось бы.
– Когда закончим, я бы попросил вас, Павел Васильевич, – пилот кивнул Попандопуло, – произвести ревизию продовольственных запасов. – Список на люке, с той стороны. Сюрпризов я не жду, но всё же лучше убедиться.
Он кивнул на перегораживающую салон переборку.
– Сделаю, – коротко ответил инженер.
– Вот и хорошо. А когда закончите, то возьмите кого-нибудь в помощь и проверьте состояние систем жизнеобеспечения. Справитесь?
– Конечно.
Попандопуло нашёл глазами Диму. Молодой человек кивнул в ответ.
– Теперь вот что, – первый пилот обвёл слушателей взглядом, в котором Дима уловил некоторую неуверенность. – Инструкция предлагает время от времени погружать пассажиров, то есть вас, в медикаментозный сон. Не всех сразу, группами по два-три человека. Зачем – вы, полагаю, знаете сами, поскольку проходили подготовку.
Дима кивнул. Им объясняли, что эта мера позволит сэкономить запасы – спящий человек потребляет меньше воздуха и расходует меньше энергии.
– Но к этой мере мы прибегнем, лишь когда станет ясно, что ожидание затягивается. А пока главные наши враги – теснота и скука. У меня с собой есть магнитные шахматы. Может, у кого-то из вас в багаже найдётся что-то способное скрасить ожидание – книги, журналы, какие-нибудь игры, в которые можно играть в невесомости?
– Домино, – хмыкнул кто-то.
– Разве что тоже магнитное, – отозвался пилот. – И потом – для него понадобится стальная поверхность, а с этим тут сложности.
– Чистая бумага, тетради, блокноты, вообще чистая бумага тоже пригодятся, как и ручки с карандашами, – добавил Попандопуло. – Наверняка ведь у кого-нибудь есть с собой хотя бы записная книжка?
У Димы в грузовом контейнере имелся большой почти не начатый блокнот и несколько карандашей, а также две книги – роман Станислава Лема «Возвращение со звёзд» и учебник по основам психологии – он собирался во время пребывания на «Лагранже» восполнить этот пробел в своих знаниях. О чём и сообщил немедленно. Другие пассажиры тоже заговорили, вспоминая, кто чем богат в плане духовной пищи.
– Стоп-стоп, товарищи, не все сразу… – первый пилот поднял ладони перед собой. – Вот вы, молодой человек… – он показал на белобрысого монтажника… – как вас величать?
– Василий Гонтарев, можно просто Вася, – с готовностью отозвался тот.
– Отлично, Василий, – пилот изобразил приветливую улыбку. – Найдите листок бумаги и карандаш и составьте список того, что есть в наличии. Будете у нас библиотекарем.
– Культуртрегером, – сказал кто-то из заднего ряда.
Остальные снова заулыбались.
– Хорошо, пусть так, – пилот обвёл пассажиров весёлым взглядом. – Ну, что стоим… то есть висим? Кресла, между прочим, сами себя не разберут. Инструменты я сейчас выдам – и за дело. И постарайтесь не упускать гайки, а то потом вылавливай их по всему салону… Да, и снимите, наконец, «Скворцы» – но сложите их так, чтобы они всё время были под рукой. Когда управимся с самыми неотложными делами, то проведём учения по аварийной разгерметизации, и впредь будем проводить их регулярно. И учтите, товарищи, норматив по облачению в гермокостюм никто не отменял!
VI
Перед отлётом меня ждал сюрприз. Издательство «Уральский рабочий» с подачи журнала «Уральский следопыт» и Владислава Петровича лично напечатало мою книгу – ту самую, в жанре альтернативной истории, про русские мониторы на Балтике, причём обложку по моей слёзной просьбе рисовала сама Евгения Стерлигова. Крапивин уже намекнул, чтобы я не вздумал оставлять литературу. Я обещал: в каюте на «Гагарине» у меня будет персоналка с текстовым процессором – так отчего бы не попробовать?
Тираж книги достаточно скромен по здешним меркам – всего тридцать тысяч экземпляров. Вот уж, действительно, всё познаётся в сравнении: в «те, другие» времена любой «сетевой» автор душу продал бы за такую скромность! Тем не менее книга появилась на прилавках и в первый же день была раскуплена без остатка. Фантастику, как, впрочем, и исторические романы в СССР любят, читают и сметают с полок в мановение ока. Теперь жди потока читательских писем в редакцию, откуда их обязательно перешлют автору – здесь эта традиция ещё не забыта. А мне кроме не такого уж и скромного гонорара (никаких «через 60 дней по реализации тиража»!) прислали пачку авторских экземпляров – четырнадцать штук, упакованные в коричневую рыхлую бумагу и перетянутые бечёвкой. Посылку доставил по нашему московскому адресу курьер – хорошо, что мама была дома и смогла её принять. Один из экземпляров я, как и обещал, отдал дедуле, ещё полдюжины раздарил в Центре подготовки. Три же взял с собой на «Гагарин», несмотря на строгие ограничения по весу – имею я, в конце концов, право потешить собственное эго, подписывая подарочные тома?
На орбиту я отправился в компании Юльки – похоже, мы все успели забыть её настоящее имя, и иначе её не называем. Остальные ребята уже там – а она, глядите-ка, задержалась, дождалась моей скромной персоны, не испугалась неизбежной волокиты, с которой связана подобная отсрочка. Когда я сказал: «Зачем было так напрягаться? Я бы и сам прилетел через несколько дней», она недовольно фыркнула: «А ты, конечно, хотел бы, чтобы это была твоя ненаглядная Лань?» Я стал оправдываться: «Ну что ты говоришь, Юль, ты же знаешь, как я рад, что ты из-за меня…» и напоролся на ещё одно кошачье фырканье и язвительное «Очень надо было из-за тебя напрягаться! Просто надо было побывать дома, мама… Ну, в общем, семейные дела, так уж совпало. А ты что себе вообразил?»
Я поскорее замял тему, благо, был повод: беседовали мы в зале ожидания «Королёва» (на новых «батутодромах» есть уже и такое! Глядишь, скоро и магазины «дьюти фри» появятся…), и как раз объявили посадку на лихтер до «Гагарина».
«Да, женщины… – вздыхал я, шагая к оранжевому с белым автобусу, который должен отвезти нас к стартовому „батуту“. – И возраст тут роли не играет – она, похоже, до сих пор не может мне простить приглашения китаянки на выпускной. Что ж, сам виноват, думать надо было головой…»
Бритька трусит рядом и время от времени с подозрением косится на клетку-перевозку, которую я качу перед собой на тележке вместе с багажной сумкой. Лохматая зверюга – уже опытная космическая путешественница, и знает, что перед посадкой в лихтер я заставлю её забираться туда, несмотря на все протесты. Пока я валялся на больничной койке, ко мне приезжали специалисты с завода «Звезда», где разрабатывают и выпускают системы жизнеобеспечения для высотных полётов и в том числе космические скафандры – от первого гагаринского СК-1 до суперсовременных «Пустельги» и «Неясыти». Ко мне они приехали не в гости, а по делу – руководство завода распорядилось в инициативном порядке разработать персонально для Бритьки собачий аналог «Скворца».
Управились они на удивление быстро. Пока я прохлаждался под присмотром врачей, отец отвёз Бритти в подмосковное Томилино, где располагаются завод и КБ, и там с неё сняли все положенные мерки – долгая процедура, утомительная даже для человека, чего уж говорить о собаке! Судя по рассказам отца, визит хвостатой клиентки наверняка войдёт в местный фольклор. За первой поездкой последовали ещё две, на примерки – и в результате, когда подошёл срок нам обоим отправляться на орбиту, космическая собачья амуниция, успевшая получить неофициальное название «Скворец-Гав», была готова и ждала своего часа. Так что, перед тем как запихнуть Бритти в «переноску», её предстоит облачить в гермокостюм. Собака уже проходила эту процедуру, что не вызвало с её стороны ни малейшего понимания – наоборот, хвостатая бестолочь, как могла, брыкалась, выворачивалась и скулила, сетуя на жестокое с собой обращение. Ничего, пускай привыкает, статус собаки-космонавта обязывает.
Кстати, о хвостах. Нестандартный покрой «Скворца-Гав» подразумевает особый матерчатый рукав для этой важнейшей части собачьего организма, и запихать его туда – это отдельная задачка. Зато, когда это сделано – хвостом можно вилять, во всяком случае, пока в гермокостюм не подадут избыточное давление и труба, где он помещается, не надуется, превратившись в твёрдую, еле гнущуюся палку, которая упрямо цепляется за кромки люков или ноги каждого встречного.
Я отсутствовал на «Гагарине» около двух месяцев – и тем более удивительно было, сколько здесь изменилось за столь краткое время. Причём начинались перемены сразу, с порога, роль которого играл шлюз пассажирского лихтера. Переходной рукав теперь был не мягкий, гофрированный, а жёсткий, раздвижной; по его стенам и потолку ползли в особых пазах тросики с прикреплёнными широкими петлями – за них следовало схватиться и ждать, когда тебя отбуксирует в приёмный шлюз; точно так же надо было поступать и с багажом, к которому заранее крепились куски стропы с карабинами. Попав в шлюз, мы, как положено, дождались, когда закроется внешняя заслонка, после чего откинули прозрачные забрала и, вдыхая кондиционированный станционный воздух, поплыли по короткому коридору к лифтовому контейнеру. Бритьку я из переноски выпускать не стал – собака не слишком хорошо переносит невесомость и в прошлый раз, помнится, изрядно перепугалась и вдобавок ещё и оконфузилась, стошнившись прямо в лицевой блистер шлема. Как я потом вычищал её «Скворец-Гав»… но уж лучше это, чем вылавливать содержимое собачьего желудка по всему коридору «рабочей», лишённой искусственной гравитации, секции станции.
На этот раз дело ограничилось жалобным скулежом. Гидравлические поршни перетолкнули «лифт» на вращающееся жилое кольцо, я открыл переноску, и Бритти, отчаянно виляя заключённым в оранжевую матерчатую кишку хвостом, принялась подпрыгивать, всячески демонстрируя радость по поводу окончания неприятной процедуры. Она бы и меня вылизала с ног до головы, мешало забрало «Скворца». Я сжалился, снял шлем, и собака радостно кинулась целоваться – почему-то сначала к Юльке и лишь потом ко мне.
Пассажиры со своим багажом по одному выбрались из лифтового контейнера. Я с удовольствием почувствовал под ногами мягкую ворсистую дорожку главного коридора жилого кольца, ощутил шесть десятых земной силы тяжести, с которыми нам теперь придётся тут жить. Юлька следовала за нами, собака, выглядящая в своём оранжевом комбинезоне весьма эффектно, крутилась под ногами, не обращая внимания на оттоптанные башмаками «Скворцов» лапы. Встречные обитатели станции приветствовали нас улыбками: Бритьку здесь знали, любили и радовались её возвращению.
Перед посадкой в лихтер мне вручили карточку, на которой кроме эмблемы станции «Гагарин» значилось «4-28» – ага, четвёртый жилой блок, каюта 28. Туда я и отправился – и с удовольствием убедился, что на этот раз нам с Бритти выделили отдельную каюту. За время нашего отсутствия на станции ввели в эксплуатацию оставшиеся жилые блоки, и острота дефицита помещений спала. Со временем, конечно, ситуация изменится, но пока – пользуемся!
Я проделал все предписанные инструкцией процедуры: проверил герметичность люка, связь, доложился диспетчеру, замкнул на левом запястье персональный браслет, включил, дождался подтверждающего писка, готово! Осталось снять гермокостюмы сначала с себя, потом с собаки, отсоединить аварийные чемоданчики (у Бритьки вместо него были два небольших покрытых упругим пластиком «вьюка» по бокам, соединённые с патрубками на холке), убрал свой «Скворец» в рундук. Бритькино аварийное хозяйство, для которого в рундуке места не предусмотрено, разместилось в шкафчике для одежды – и на этом заселение в каюту закончилось. Как-то сразу навалилась усталость от перелёта; я уселся на койку (собака немедленно пристроила морду у меня на коленях), поправил специальный «станционный» ошейник – аналог персонального браслета, только под собачий размер, – и, запустив пальцы в лохматый загривок, прикрыл глаза, ощущая, как по телу прокатывает волна блаженного расслабления.
Ну что, вот мы и дома?..
Из рабочего дневника Алексея Монахова
23 августа 1977 г.
Я снова взялся за дневник. Никто не предписывает мне это в приказном порядке и даже не рекомендует с той или иной степенью настойчивости – просто обстановка способствует. Да и привычка ежевечерне уделять хотя бы четверть часа изложению событий прошедшего дня на бумаге (в моём случае – на экране с последующим переносом на гибкий диск) весьма, как оказалось, полезна – во всяком случае, для развития литературных навыков. Порой я думаю: может, стоит превратить кое-какие из записей в очерки, да и послать куда-нибудь? В «Огонёк», скажем, «Комсомольскую правду» или «Труд»? А что, возьмут и спасибо скажут…
Новостей у нас море, и все важные. Первые трое суток мы с Юлькой (можно я уже буду называть её, как привык?) вливались в дружный коллектив группы 3 «А», от которого я успел слегка отвыкнуть. В общем, ничего особо нового – та же учёба, те же физические упражнения, только к ним добавился ещё и практикум по работе в невесомости. Мы по два-три часа в день помогаем тем, кто трудится на внешнем кольце «Гагарина» – в основном на складах и в мастерских, а также на работах по поддержанию чистоты и порядка. До появления роботов-уборщиков дело, видимо, дойдёт не скоро; автоматическая система удаления пыли справляется не так хорошо, как рассчитывали проектировщики – а потому к обязанностям по наведению чистоты по очереди привлекаются все работающие на станции, исключая разве что высшее руководство. Дежурят и в рабочем, и в жилом кольцах – последнее считается некоей привилегией. Почему? А вы попробуйте поработать в невесомости влажной тряпкой и пылесосом, гудящий ящик которого носят здесь за спиной, на манер ранца – и сами всё поймёте.
Нас усиленно тренируют в обращении с вакуум-скафандрами – пока только в закрытых помещениях шлюзов, из которых откачан воздух. Выход наружу, в открытый космос – дело будущего; прежде предстоит пройти соответствующие инструктажи и сдать зачёт. Мы с нетерпением ждём этого события, и больше всех Андрюшка Поляков. Он буквально бредит открытым пространством, старается, как только образуется свободная минутка, выбраться на «обзорную площадку» – в просторную полусферу из закалённого кварцевого стекла с добавками свинца для защиты от космического излучения, смонтированную на рабочем кольце станции. Чтобы попасть туда, приходится пользоваться лифтовым контейнером, да ещё и ставить в известность непосредственного руководителя – но дело того стоит. Диаметр обзорного «пузыря» немногим меньше восьми метров, оттуда открывается умопомрачительный вид на окружающую нас звёздную бездну и Землю – с расстояния в триста тысяч километров наша планета совсем не такая большая, как с низкой орбиты. Порой можно видеть и Луну – иногда по размерам она лишь немного уступает Земле, и тогда зрелище с «обзорной площадки» и вовсе умопомрачительное.
Андрюшка, дай ему волю, висел бы под кварцевым куполом часами – как-то он признался мне, что твёрдо решил после экзаменов идти учиться на пилота. Что ж, надеюсь, у него всё получится; в любом случае, повторения печальной судьбы «той, другой» реальности, где он то ли по глупости, то ли по роковому невезению оказался втянут в драку, покалечил кого-то и сел, здесь уже не будет.
(Не забыть удалить этот абзац, прежде чем сохранять запись на дискете. Конечно, сейчас от меня не требуется сдавать дневниковые записи куратору, но лучше обойтись без ненужного риска.
Кстати, о риске – что-то давненько я не слышал об И. О. О. Может, он забыл о моей скромной персоне и занят другими, более важными и злободневными делами? Хорошо бы – но что-то не особо верится…)
Одно из множества отличий вращающегося Макета в Центре подготовки от реального жилого кольца станции «Гагарин» в том, что пешеходная дорожка, идущая по всему периметру бублика, разделена на две неравные части. Правая, составляющая примерно три четверти ширины – обычный рифлёный металлический настил с нанесённой разметкой, по нему ходят и перемещают тележки с грузами. Левая же, с упругим покрытием из ярко-зелёной резины – это беговая дорожка. Бегают по ней только в одну сторону, навстречу направлению вращения станции, которое указывают нанесённые на пластик белые стрелы. Правила запрещают занимать эту дорожку иначе как с тренировочными целями – в результате практически в любое время, идя по коридору, можно встретить проносящихся мимо (или неспешно трусящих) бегунов.
Каждый из нас раз в сутки накручивает на этой дорожке по три-четыре полных круга, но больше всего времени ей уделяет Бритька. Собака то и дело присоединяется к группе бегунов, крутится у них под ногами, обгоняет, прыгает – и это, как ни удивительно, не вызывает ни малейшего протеста. Иногда самые резвые предлагают четверолапой сопернице забег, и это ненадолго становится развлечением для всех окружающих и всегда заканчивается в пользу собаки. Бритька неплохо приспособилась к неполной силе тяжести, и как она несётся по «беговой дорожке» огромными четырёхметровыми скачками, словно зависая каждый раз в воздухе – это надо видеть…
Про голденов и их близких родичей лабрадоров принято говорить, что это собаки многих хозяев. Похоже, Бритька избрала таковыми весь коллектив станции «Гагарин», отдавая, впрочем, предпочтение нам, нашей группе 3«А». Во всяком случае, я больше не переживаю, когда зверюга пропадает на час-другой из поля моего зрения и шляется по всему жилому кольцу, везде находя интересное занятие и встречая радушный приём. Каковой, несомненно, сопровождался бы щедрыми подношениями в виде всяческих вкусностей, но на этот счёт было специально объявлено: кормить хвостатую попрошайку категорически запрещается всем, кроме ответственного лица, то есть меня. Мера вынужденная, поскольку при такой всеобщей любви, помноженной на ослабленную силу тяжести, дело неизбежно закончится тем, что собаку попросту раскормят. Вот и столовые жилых блоков являются для Бритти запретными территориями, и она лишь вздыхает о своей нелёгкой собачьей судьбе всякий раз, когда пробегает мимо распахнутого люка, из которого несутся аппетитные запахи.
Впрочем, довольно о собаке, тем более, что со своими непосредственными обязанностями – поддерживать душевное равновесие обитателей станции «Гагарин» – она справляется успешно. Пора переходить к новостям, которые ежедневно приходят с Земли и с объектов Внеземелья. И главная из этих новостей…
– Первый по-настоящему самоокупаемый в плане экономики внеземной проект! – громогласно вещал в столовой инженер, один из тех, кто обслуживает станционный ядерный реактор. – Это вам не мышиная возня с выращиванием сверхчистых кристаллов в невесомости и не орбитальный отель для туристов, с которым носятся наши американские коллеги. Это размах, настоящий прорыв в термоядерной энергетике!
Шумный инженер имел все основания так говорить, поскольку речь шла о старте программы «Солнечный ветер» по добыче гелия-3 из лунного реголита. До сих пор подобные работы велись на «Ловелле» в весьма скромных масштабах (один из первых куполов «лунного города» отвели для размещения лабораторного оборудования и получали на нём крошечные количества изотопа), но даже это было целесообразно в плане экономики. Гелий-3, крайне востребованный в некоторых узкоспециальных областях вроде получения сверхнизких температур или наполнения газовых детекторов нейтронов (это если не упоминать о надеждах, которые возлагают на этот изотоп физики-термоядерщики), на Земле не добывается из природных источников, а получается в результате крайне сложного и затратного процесса распада трития. Который, в свою очередь, нарабатывают в рамках сворачиваемых великими державами военных программ по получению компонентов для термоядерного оружия.
На Луне же этот ценный элемент лежит буквально под ногами. Гелий-3, побочный продукт протекающих на Солнце реакций, является компонентом так называемого «солнечного ветра». С ним он попадает и в атмосферу нашей планеты, но там не задерживается – снова рассеивается в космическом пространстве в процессе потери газов из верхних слоёв атмосферы, так называемой «диссипации». Луна же, лишённая газовой оболочки, миллионы лет подвергалась прямому воздействию солнечного ветра – и слой реголита, каменного крошева, покрывающего её поверхность словно одеялом (слово «реголит» и происходит от древнегреческих слов «одеяло» и «камень»), накопила колоссальные объёмы гелия-3. Разумеется, концентрация его в реголите крайне низка – но всё же достаточна для добычи в промышленных масштабах. В «той, другой» реальности такую возможность изучали специалисты НАСА и даже проектировали устройства для получения драгоценного изотопа. Не отставал от американцев и наш отечественный «Роскосмос» – в 2006-м, кажется, году тогдашний глава РКК «Энергия» Николай Севастьянов объявил о планах создания постоянной базы на Луне, где будут отработаны методики добычи и транспортировки гелия-3. Лет через десять уже Дмитрий Рогозин, не к ночи будь помянут, снова поднял тему возможного использования изотопа – на этот раз в качестве основы для ракетного топлива. Тогда тема, увы, заглохла и на момент моего «попаданства» весной 2023-го оставалась в тени.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Собственной персоной (лат.).
2
Советский лётчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. В реальной истории (далее – РИ) первый полёт совершил в 1978 г. в качестве командира корабля «Союз-27».
3
Астронавт НАСА. В 1974 г. в РИ совершил полёт на корабле «Скайлэб-4» в качестве второго пилота.
4
В РИ – первый французский космонавт, Герой Советского Союза. Первый полёт совершил в 1982 г. на корабле Союз ТМ-7.