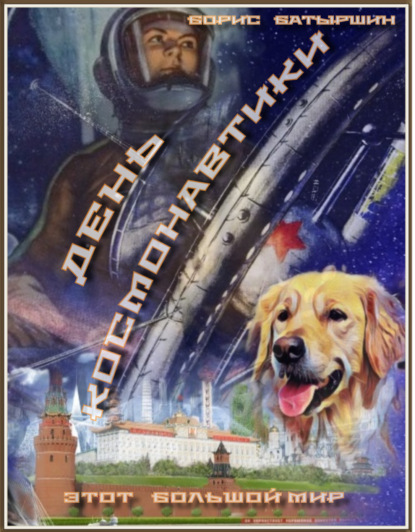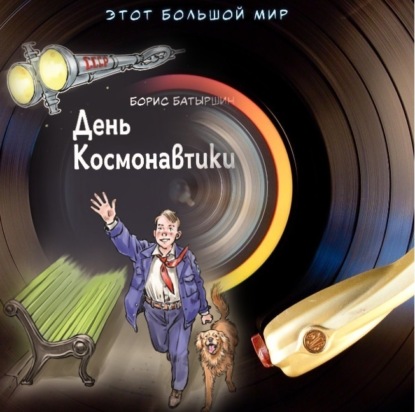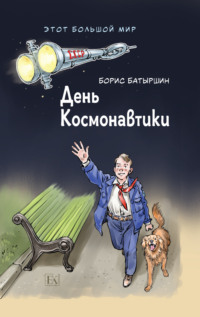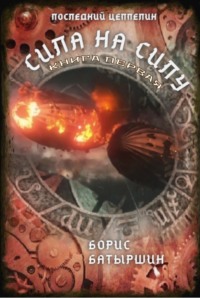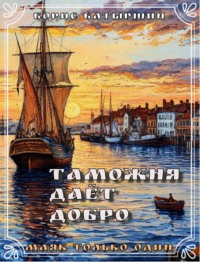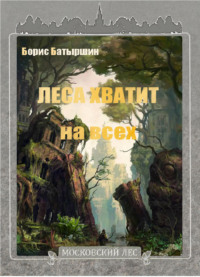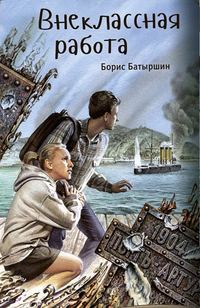Полная версия
Этот большой мир. Книга третья. Звёзды примут нас
А вот Лем возражал математику: «Ничего подобного! Мы одиноки! Потому что если прав Шкловский – почему к нам до сих пор никто не прилетел или хотя бы не прислал сообщение, которое так упорно искали по всему миру антенны программы SETI?»
Я говорил, что оказался на ином витке развития цивилизации? Так и есть – и здесь Лем получил ответ на свой роковой для приверженцев теории Шкловского вопрос. Здешнее человечество совершенно точно знает, что оно не одиноко в Космосе, что братья по разуму уже посещали нашу планету. И не просто посещали – оставили следы и даже более того: указатель, как однажды выйти на ту дорогу, по которой они явились сюда. И по которой, надо полагать, они и покинули в итоге третью планету ничем не примечательной жёлтой звезды на расстоянии в семь с половиной – восемь килопарсек от центра галактики Млечный Путь, в незаметном (по галактическим меркам, разумеется) спиральном рукаве Ориона, расположенном между крупными рукавами Персея и Стрельца на расстоянии полтора-два килопарсека от обоих. Покинули, оставив, как справедливо заметил бессильный гений Стивен Хокинг, обитателям этой самой планетки шанс однажды постичь Вселенную…
Кстати, вот вопрос: действует ли здесь программа SETI? В моей реальности НАСА подгребло её под себя ещё в начале семидесятых – но уже к середине девяностых правительство разочаровалось в проекте и перестало выделять на него средства, вынудив немногих оставшихся верными идее энтузиастов искать спонсоров на стороне. А как здесь? С одной стороны, ответ на самый главный, самый фундаментальный вопрос уже получен. А с другой – в ближней перспективе у человечества маячит куда более верный способ связаться с братьями по разуму, нежели частоколы космических антенн, десятилетиями вслушивавшихся в «белый шум» небосвода, да отправляемые в никуда кодированные сообщения, ответ на которые даже теоретически может прийти никак не раньше, чем через полсотни тысяч лет…
Такие примерно мысли одолевали меня, пока я валялся в медчасти Центра подготовки. Чего только не придумаешь от безделья – когда листать учебники нет уже сил, да и лечащий врач косится на книгу в твоих руках с большим подозрением. А о телевизоре и вовсе слушать не желает: «Вы бы поберегли себя, молодой человек, сотрясение мозга – дело серьёзное, может сказаться и на зрении – а вам это нужно с вашей-то будущей специальностью? Радио вон слушайте или в шахматы поиграйте с соседом по палате…»
Как я попал на больничную койку? Этот приём высшего пилотажа называется «посадка с не полностью выпущенным шасси» и выполняется на самолёте Як-18Т на вспомогательную ВПП космодрома (мы с ребятами в шутку называем его «батутодром») Королёв, откуда совершают свои полёты наши учебные пташки. И надо было случиться такому, что в первом же самостоятельном полёте у моего «лимузина» не вышла правая стойка шасси! Дальнейшее, думаю, легко дорисует ваше воображение. Я сделал «коробочку» над полосой и, следуя указаниям диспетчера (отдаваемым несколько взвинченным тоном), пошёл на посадку. В подобных случаях машину обычно сажают «на брюхо» на специальной грунтовой полосе, но сейчас это было невозможно, потому что дело не ограничилось не вышедшей правой стойкой – при попытке убрать две другие, левая осталась в выпущенном состоянии, следовательно, выбора у меня не было. В принципе ничего такого уж экстраординарного в этом нет – да, нештатная ситуация, да чревато аварией, но ведь и не такое случается! Я старательно притёр машину к полосе, покрылся холодным потом, ощутив толчок, с которым два (два, а не три!) колеса коснулись бетона, и долго катился, с замиранием ожидая, когда машина сбросит скорость и опустит крыло. Здесь по моим расчётам из-под плоскости должны были посыпаться искры, самолёт, вильнув в сторону, сделает пол-оборота и застынет на месте. А я переведу дух, распахну дверку кабины (на этих машинах она открывается вбок, как на автомобилях и знаменитых американских «Эркобрах») и, выдержав театральную паузу, выйду на крыло.
Как бы не так! Крыло, едва прикоснувшись к серому бетону, отлетело в сторону, словно некий злобный диверсант заранее шкрябал всю ночь перед полётом ножовкой, подпиливая двутавровую дюралевую балку, называемую «передний лонжерон центроплана», и предвкушая, как он угробит мою в чём-то провинившуюся перед ним тушку. После чего, натурально, сыплет песок в шарниры стоек шасси – чтоб уж наверняка, чтобы не оставить мне ни единого шанса! И добился-таки своего, злыдень: лишившись опоры на одно крыло, ДОСААФовский «лимузин» перевернулся, теряя вторую плоскость, и закувыркался, сначала по полосе, потом по поросшей жёсткой выцветшей травой земле за её пределами, пока, наконец, не замер. Как там ничего не воспламенилось, не взорвалось и как я сам ухитрился отделаться десятком-другим ушибов, рассечённой кожей на лбу (море кровищи и никакой опасности для здоровья), двумя треснувшими рёбрами и пресловутым сотрясом – об этом знают, наверное, лишь те непостижимые силы, которым я обязан своим попаданством. Набежавшие аэродромные техники, извлекавшие меня из смятой груды дюралевого хлама, в которую превратился самолётик, только головами качали: «Ну ты, парень, в рубашке родился…»
Что-то паранойя у меня разыгралась – а это тоже не есть хорошо. Полученные травмы на деле оказались не столь уж и серьёзны. Врач, осмотревший меня на месте происшествия, объявил, что в морг меня везти рано, да и в Бурденко или Склиф тоже, пожалуй, не стоит, вполне можно обойтись и местной медициной – тем более, что в Центре подготовки она очень даже на высоте. В результате я который уже день валяюсь на койке и стараюсь убедить себя, что последствия для организма не заставят медкомиссию завернуть меня перед самой отправкой на «Гагарин», до которой, между прочим, остаётся меньше двух месяцев. Эти мучители в белых халатах могут, от них приходится ожидать любой, самой изощрённой пакости. Так что я лежу, думаю думы и истребляю в огромных количествах черешню – её мне по очереди таскают с ближайшего колхозного рынка в Мытищах то мама, то Лида-Юлька, то китаянка Лань. Она после выпускного относится ко мне особенно трепетно, и Юлька уже косится на это с явным неудовольствием…
Всё когда-нибудь заканчивается, как хорошее, так и дурное. Наконец – долгожданная свобода! Ощупав меня со всех сторон, просветив рентгеном, прослушав стетоскопами (от прикосновения к голой коже холодного металлического кругляша я непроизвольно вздрагивал) и всласть постучав резиновым молоточком по сгибу колена, медкомиссия вынесла вердикт: «Годен без ограничений». И тут же с непоследовательностью, свойственной представителям этой профессии, установили ограничение: две недели мне предписано держаться подальше от центрифуг, тренажёров, от серьёзных физических упражнений и даже зарядку по утрам делать с бережением. И это когда группа 3 «А» проходит финальные тренировки перед тем, как отправиться на орбиту!
Но с медкомиссией не спорят. А если и спорят, то споры эти всегда кончаются одним – отстранением от космоса. Я этого, естественно, не хочу, а потому выполняю все предписания: хожу на восстанавливающие упражнения в физиотерапевтический кабинет, где меня заставляют крутить педали велотренажёра (с куда большим удовольствием я бы прокатился по окрестностям на обычном велике – но нет, нельзя!), посещаю раз в три дня обязательный медосмотр. А всё остальное время листаю учебники, готовясь к близким уже экзаменам, а также занимаюсь тем, что можно назвать общественной нагрузкой.
В последние годы по всей стране, как грибы после дождя, стали расти «кружки юных космонавтов», «космические смены» и прочие подобные явления, с Проектом не связанные. Вовлечена в них уйма народу – и это даже без учёта всякого рода «космических сборов» и «космических недель», которые регулярно проводят в пионерских лагерях и других детских учреждениях, действующих во время летних каникул. Оно и понятно: всеобщий подъём интереса к освоению Космоса не мог не затронуть детей и подростков, тем более, что эти начинания находят горячую поддержку на самых разных уровнях – в результате к нам порой попадают весьма подготовленные «экскурсанты», с которыми беседовать приходится… если не на равных, то на достаточно серьёзном уровне.
Естественно, педагоги и организаторы этих мероприятий стараются дать своим подопечным поближе прикоснуться к «Настоящему Космосу». Для этого приглашают лекторов, рассказывающих о перспективах освоения космоса, ветеранов, уже побывавших вне Земли – а если есть хоть малейшая возможность, то и отправляют группы школьников на экскурсии на ближайший объект, имеющий отношение к космической программе. И в этом плане обитателям подмосковных пионерлагерей повезло больше других – под боком у них Калининград с Центром управления и сам космодром, он же батутодром «Королёв», на котором очень даже есть на что посмотреть.
Посетители прибывают организованно, на автобусах, и здесь им устраивают экскурсии – показывают батуты стартового комплекса, проводят в залы с центрифугами, дают полюбоваться изнутри на гигантский вращающийся бублик Макета, подземные коридоры «Астры» и «ботанического сада». Сам комплекс сейчас простаивает – психологи взяли паузу на переработку программ «совместимости» – так что с «Астры» начинается любая экскурсия по нашему хозяйству.
А экскурсии должен кто-то вести – рассказывать, объяснять, давать ответы на тысячу вопросов, как правило, одних и тех же – и делать это так, чтобы юным слушателям было и понятно, и интересно. К этому занятию меня и привлекли, рассудив, что нечего простаивать ценному ресурсу. Так что в кои-то веки я могу почувствовать себя взрослым дядей, снисходительно объясняющим что-то малолеткам, хе-хе…
Если кто-то думает, что беседы эти идут исключительно на уровне урока природоведения для четвёртого класса – то зря. Вот и сегодня у нас в гостях старшеклассники из «городского пионерского лагеря» соседнего Пушкина – и не абы какого, а специального, для учеников специализированных физико-математических школ. Вопросы эти ребята задают серьёзные, порой с подвохами, и зевать тут не приходится – чтобы самому не угодить в дурацкое положение.
Обычно я с самого начала рассказывал экскурсантам о нашем визите на «Гагарин» и даже демонстрировал заранее заготовленный ролик с «абордажным боем», после чего большинство расспросов сводилось к тому, как там, «наверху» – в невесомости, на орбитальной станции, в настоящем Космосе? Иногда я брал с собой Бритти – и представлял её экскурсантам как первую собаку-космонавта. И не подопытное животное, вроде Белки со Стрелкой или несчастной Лайки, а полноправного члена экипажа орбитальной станции «Гагарин», имеющего внеземную специальность и занесённого в этом качестве в книгу рекордов Гиннесса. Этот простейший приём позволял мне переключать с себя на ни в чём не повинное создание изрядную часть внимания юной аудитории – чем я без зазрения совести и пользовался.
Но сегодня этот номер не прошёл – гости и настроены были серьёзно, и вопросы задавали вполне взрослые. Что ж, тем лучше: растёт смена, растёт, как бы смешно это ни звучало в устах того, кто внешне выглядит шестнадцатилетним…
– С тех пор, как удалось на практике освоить переброску полезной нагрузки не в заданную точку пространства, а от батута к батуту, когда груз пропадает в одном горизонте событий и возникает в другом, – вещал я, – активно используются оба этих способа. Первый носит название «свободный», второй – «от двери к двери». У каждого из них есть свои преимущества – как, разумеется, и недостатки.
– Дело в разбросе, да? Которого при втором варианте нет вовсе?
Спрашивал худой нескладный парень с большими очками на крючковатом еврейском носу, типичный ученик-отличник физматшколы.
– Верно, в нём самом. При свободной заброске груз оказывается на месте с отклонением от заданной точки в пространстве – и отклонение это тем больше, чем значительнее расстояние, на которое груз перемещается. Так, при отправке грузового лихтера на низкую орбиту оно составляет десятки метров; но если тот же лихтер перемещается на геостационарную орбиту к станции «Гагарин» – это уже полтора-два километра. А если послать груз в засолнечную точку Лагранжа, туда, куда вскорости отправятся корабли «Эндевор» и «Никола Тесла» – разброс может достигнуть тысяч, возможно даже десятков тысяч километров, и отыскать его будет непросто. Для того, чтобы облегчить поиски, контейнеры будут оснащены радиомаяками. А пассажирские лихтеры, в которых прибудут строители – запасами воздуха, воды и провианта, которые позволили бы людям продержаться всё время, необходимое для поиска и буксировки лихтера к строительству.
– А такое уже случалось? – осведомился очкарик.
– Нет, – я покачал головой. – На «Лагранж» ещё не было ни одной заброски. Надеюсь, подобных коллизий не случится, хотя – сами понимаете, гарантий никто дать не может. Тут важно другое: свободный заброс требует огромного расхода энергии. Например, при отправке «Теслы» реактор «Гагарина» будет работать исключительно на создание и поддержание горизонта событий, придётся даже отключать на некоторое время второстепенные системы станции.
– Второстепенные – это какие? – на этот раз вопрос задал не очкарик. Он, судя по снисходительной улыбке, промелькнувшей на его физиономии, ответ знал и так.
– В основном установки дальней связи, научное оборудование, внешнее и частично внутреннее освещение. Также временно прекращается подача энергии к некоторым внешним устройствам, вроде грузовых и швартовочных манипуляторов, шлюзовых камер. Впрочем, это продолжается недолго, считаные минуты, и сколько-нибудь заметных неудобств не создаёт.
– А второй способ, который «от двери к двери»?
Это снова спрашивал очкастый «ботаник».
– Он имеет массу плюсов. Во-первых, снимается вопрос разброса. Во-вторых, расход энергии снижается резко, на порядок – правда расходовать её приходится на обоих «концах» маршрута. Из недостатков, кроме того, что в финиш-точке нужно иметь работоспособный батут, стоит отметить значительное ограничение по дальности. На данный момент действующие установки обеспечивают переброску от двери к двери на расстояние не более трёх-четырёх сотен тысяч километров. При увеличении дистанции резко возрастает расход энергии – и, как следствие, нагрузка на аппаратуру. Поэтому на орбиту Луны и обратно сейчас предпочитают доставлять грузы свободным способом, в тяжёлых кораблях – хотя батут «Звезды КЭЦ» вполне позволяет осуществлять и второй способ. Возможно, со временем, когда получится нарастить энергетические мощности станций, он станет основным.
– То есть в точку Лагранжа грузы отправятся свободным способом? – не унимался «ботаник».
– Естественно, – я кивнул. – Там пока даже собственной установки космического батута нет – её только предстоит смонтировать и наладить работу, а для этого нужны десятки, если не сотни тонн самых разнообразных грузов. Монтажников со строителями – и тех придётся отправлять пассажирскими лихтерами, все в «Тесле» попросту не поместятся.
– А потом лихтеры вернут на «Гагарин»? – спросили из заднего ряда.
Очкарик снова поморщился.
– Нет, конечно. Они останутся там и будут использованы в качестве времянок для размещения строителей, пока не будут собраны и запущены в эксплуатацию первые жилые отсеки. По всем расчётам, на это потребуется месяца два и ещё не меньше полугода, прежде, чем будет запущено вращение жилого кольца «Лагранжа» – а пока людям придётся жить в спартанских условиях.
– Хотел бы и я так, с ними… – на лице умника возникло мечтательное, но одновременно грустное выражение. Он снял с носа очки и принялся их протирать – с отвращением, будто держал в руках дохлую жабу.
Так, с этим всё ясно. Ещё один страдалец, доверху наполненный комплексами и подростковой неуверенностью…
– Если хотите по-настоящему, сильно – обязательно добьётесь своего. А если вы волнуетесь насчёт этого украшения – я кивнул на очки, – то, поверьте мне, напрасно. Конечно, чтобы стать пилотом, придётся сделать операцию по коррекции зрения, но, вообще-то, и это не обязательно. Сейчас там, наверху, – я ткнул пальцем в потолок, – полно специальностей, для которых слабое зрение не помеха. Так что… – я сделал многообещающую паузу, – работайте, молодые люди, работайте и учитесь. И не сомневайтесь ни на секунду: всё у вас получится!
V
Всё было в точности как при выгрузке с пассажирского лихтера, доставившего Диму на «Гагарин» – только «аварийный чемоданчик» системы жизнеобеспечения заранее закрепили на спине «Скворца», да контейнер с личным багажом был побольше сумки, которую дозволялось взять с собой на орбиту. А так все то же самое, только в обратном порядке: отбывающие проплыли, хватаясь за поручни, через станционный шлюз, миновали гофрированную трубу переходного коридора и оказались внутри лихтера.
Здесь начались различия: во-первых, знакомый салон на два десятка пассажиров стал вдвое короче, кресел было только пять, по числу отбывающих, а посредине помещение разгораживала переборка с раздвижным люком – негерметичным, как отметил Дима.
– Там санузел, маленький камбуз, дополнительные системы жизнеобеспечения и хранилище припасов, – пояснил Попандопуло. Он вплыл в лихтер вслед за Димой и теперь крутил головой, осматриваясь. – На стенах и потолке, как видите, койки…
Дима уже заметил знакомые сетчатые коконы, внутри которых виднелись спальные мешки. Ему пришлось спать в таких несколько недель подряд, во время строительства «Гагарина», пока не было запущено вращение жилого бублика. Нельзя сказать, что перспектива вернуться в спальный кокон его обрадовала, но тут уж ничего не поделаешь – в лихтере всё время перелёта будет невесомость, как и на борту «Николы Теслы», куда их отбуксируют после прибытия в финиш-точку. Так что привыкайте, бывший стажёр Ветров, восстанавливайте навыки. Собственное искусственное тяготение на станции «Лагранж» (которая, к слову сказать, ещё и не начинала строиться) появится не раньше чем через полгода, а до тех пор – койки-коконы, нагрузочные костюмы «Пингвин», эспандеры и велотренажёры. А также еда в гибких пластиковых тубах, ванна, принимаемая в пластиковом мешке с вытяжкой, и шипящая труба пневматического унитаза. Романтика покорения космического пространства, будь она неладна – Дима, привыкший за эти несколько месяцев к удобствам, связанным с наличием пусть и половинной, но всё же силы тяжести, вполне обошёлся бы без неё.
Решение о том, что группа специалистов-строителей отправится к месту не на «Тесле», а позже, на пассажирском лихтере, было принято начальником экспедиции Алексеем Леоновым, который ради этой должности оставил свой пост замначальника Центра подготовки. Устойчивую, постоянную связь с «Эндевором» так и не установили – был единственный короткий сеанс морзянкой, из которого едва удалось понять, что Джанибеков со товарищи благополучно прибыли в назначенную точку и ждут. В этой ситуации Леонов решился на резервный вариант: «Тесла» отправлялась к месту назначения с минимальным экипажем, остальных же, в том числе и группу строителей-монтажников, в которую входил и Дмитрий Ветров, предполагалось отправить вдогонку, когда связь наконец удастся наладить. Этого события ждали трое суток; за это время космонавты «Теслы» закончили монтаж большой антенны, установили уверенную связь сразу через два зонда-ретранслятора, и на «Гагарин» полетел долгожданный призыв: «Всё в порядке, отправляйтесь, ждём, готовы принимать!»
Входной люк клацнул, закрываясь. Залязгали запоры, потом по люку постучали снаружи – «готово!» – и секундой спустя готовность подтвердила вспыхнувшая под потолком табличка. Дима уже выполнил все требуемые предстартовые процедуры: багажный контейнер пристроил в багажную сетку, с помощью одного из спутников избавился от аварийного чемоданчика, закрепил его рядом с ложементом, не отсоединяя идущих от плечевого разъёма воздушного шланга и кабеля и, наконец, уселся сам, пристегнувшись ремнями. От надоевших гермокостюмов они избавятся только на «Тесле», а пока придётся переговариваться жестами либо прижавшись шлемом к шлему собеседника – встроенные передатчики «Скворцов» они отключили перед посадкой в лихтер.
Ну что, вроде всё? Он подёргал замки привязных ремней, опустил правую руку, проверяя, крепко ли держится в зажимах аварийный чемоданчик. Чемоданчик держался крепко. Под самым потолком вспыхнула и замигала красная лампа, и через шлем он расслышал бесстрастный голос, начавший обратный отсчёт: «До отбытия осталось тридцать секунд… двадцать девять… двадцать восемь…»
Лихтер дрогнул, Дима подошвами «Скворца» ощутил, как под палубой скрежетнули, открываясь, серповидные бугели швартовочных захватов. Звёзды в иллюминаторе дрогнули, поплыли в сторону – это буксировщики-крабы отводили лихтер от пассажирского терминала. На миг ему остро захотелось увидеть напоследок Землю – отсюда, с геостационарной орбиты она выглядела как огромный шар, висящий в пустоте. Увы, родная планета находилась с противоположной от него стороны, и любоваться её видом могли те из пассажиров, кто сидел в другом ряду кресел.
«…двадцать четыре… двадцать три… двадцать два…» – продолжал считать механический голос.
Мимо иллюминатора проплыла решётчатая ферма грузового причала – их выводили на старт-позицию. Потом звёзды снова закрутились – «ага, лихтер уже над плоскостью „батута“, его разворачивают носом вниз…»
«…семнадцать… шестнадцать… пятнадцать…»
Снова серия толчков и скрежета – это крабы разжали клешни и торопятся отойти на безопасное расстояние. В иллюминаторе мелькнул один из них – плюющаяся белёсыми прозрачными струями конструкция из труб, к которым пристёгнута фигурка в «Пустельге». Дима помахал пилоту рукой, но тот не ответил на приветствие – видимо, не заметил.
«…одиннадцать… десять… девять…»
При счёте «семь» с той стороны, куда был направлен нос лихтера, полыхнуло бледно-лиловым – это вспыхнул горизонт событий, он же тахионное зеркало, непостижимое образование, которому несколькими секундами спустя предстоит отправить их за триста миллионов километров отсюда, по другую сторону от Солнца.
«…шесть… пять… четыре…»
Дима прижался шлемом к иллюминатору и вывернул шею, силясь рассмотреть возникшую в дырке от бублика зеркально-ртутную поверхность, но тут лихтер дрогнул, мгновенное ускорение вжало пассажиров в кресла, и лихтер провалился в надвинувшееся снизу сияние.
– Ничего, – второй пилот снял наушники. – Похоже, они нас не слышат.
Лица сгрудившихся возле люка пассажиров – все как один, в оранжевых комбинезонах «Скворцов», но без шлемов и с торчащими на плечах патрубками воздушной системы, – посмурнели. Это была уже десятая по счёту попытка связаться с «Теслой», и она, как и предыдущие девять, не дала результата. Для связи использовалась небольшая параболическая антенна, выдвинутая из ниши в корпусе лихтера – одна из модификаций, внесённых в конструкцию перед полётом. К сожалению, антенну следовало направить туда, где хотя бы приблизительно находился корабль – а вот с этим как раз и были проблемы.
Когда лихтер вышел из прыжка, сразу стало ясно, что ни «Теслы», ни «Лагранжа» на расстоянии хотя бы в две-три сотни километров нет. Пространство вокруг было пусто, как в первые дни Творения – лишь висел вдали огненно-жёлтый шар Солнца, из-за которого на большей части небесной сферы не было видно звёзд. Как ни старался второй пилот, исполняющий по совместительству функции радиста, ему не удалось поймать даже обрывка радиопередач, которые транслировались с кораблей – а это наверняка происходило, поскольку там ждали прибытия «пополнения». Видимо, разброс на этот раз оказался слишком велик, и две жалкие горстки людей, запертых в дюралевых цилиндрах, на невообразимом удалении от дома разделяло слишком большое расстояние. Дима припомнил, что астрофизик, знакомивший их с деталями предстоящей миссии, предупреждал, что имеется двухпроцентная вероятность того, что разброс при перемещении на такую огромную дистанцию превысит сто тысяч километров – примерно треть расстояния от Земли до Луны. «Эндевору» и «Тесле» повезло, они оказались всего в шестистах километрах друг от друга и сразу установили связь – а вот им выпали эти самые два процента. И теперь вся надежда на мощный радиопередатчик, установленный на борту лихтера как раз на такой случай. Но что-то пока эта надежда не слишком оправдывается…
– Это ничего не значит, – заявил пилот. – Эфир забит помехами из-за бури на Солнце – той самой, из-за которой не сразу удалось связаться с «Эндевором». Но не беда, на «Тесле» антенна гораздо чувствительнее нашей, они наверняка засекли сигнал маяка и уже летят сюда. Скоро мы их услышим.
Вокруг закивали, стали говорить, что да, конечно, так оно и есть – но Дима заметил, что тревоги во взглядах спутников не убавилось. Да и тон, которым говорил второй пилот, был каким-то… преувеличенно бодрым, что ли? Хотя – насчёт бури на солнце он прав, именно из-за неё Земля двое суток не могла связаться с «Эндевором»…