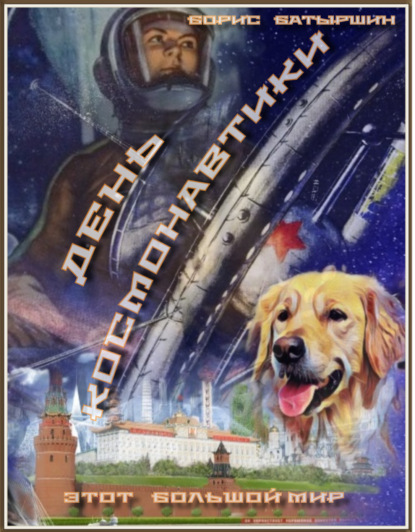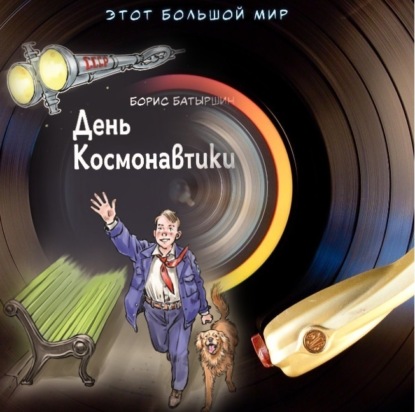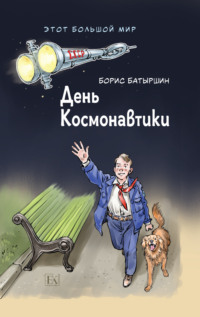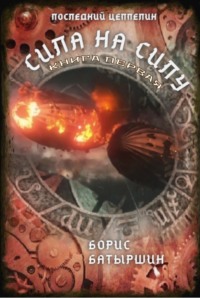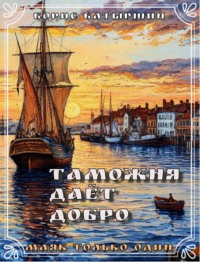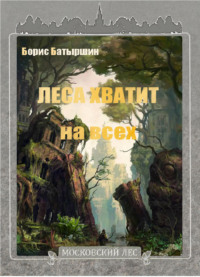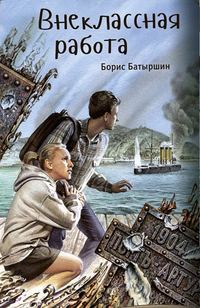Полная версия
Этот большой мир. Книга третья. Звёзды примут нас
Справа от раковины располагался совсем уж узкий пенал душа. Дима скинул бельё, задвинул за собой шторки из полупрозрачного матового пластика и включил воду. При этом заработала вытяжка под ногами – поток воздуха, уносящий капли использованной воды, приятно холодил ступни и щекотал икры. Вытяжка была установлена на случай ослабления или полного исчезновения гравитации – нельзя же позволить воде разлететься мелкими и крупными, порой размером с яблоко, каплями по всей каюте? Дима как-то раз видел нечто подобное – год назад, когда вращение станции ещё не было запущено и им, группе стажёров, обучающихся на орбите премудростям вакуум-сварки, приходилось работать и жить (в том числе и принимать душ) в невесомости. Сейчас в такой мере предосторожности нужды не было, на станции стабильно царили 0,5 земной силы тяготения, – но отключать систему не стали. Пусть себе работает, выполняя функции слива и заодно сушки.
На душ, бритьё и прочие гигиенические процедуры ушло минут семь. Дима выбрался из санузла (часы на браслете уже попискивали, напоминая о скором брифинге), натянул комбинезон с табличкой на правой стороне груди, на которой значилось его имя и личный номер. Рядом с табличкой поблёскивал значок в виде крошечной серебряной кометы, залитой синей эмалью, и с золотой звёздочкой. «Знак звездопроходца» – отличие, которого он был удостоен за действия при прошлогодней аварии на орбите. К комете прилагалась ещё медаль, сейчас она хранилась вместе с документами в особом ящичке. Значок же полагалось носить всё время, даже на рабочей одежде – увидев его, все, даже космонавты первого «гагаринского» отряда и астронавты легендарных лунных миссий «Аполлонов», почтительно кивали, признавая во владельце значка равного.
Ну что, вроде всё? Дима чмокнул жену в тёплый пробор и выбрался из каюты, прикидывая, успеет ли он по пути завернуть в столовую и прихватить с собой ватрушку с кофе. Напиток разливал по высоким картонным, с пластиковыми крышками стаканчикам особый кофейный автомат – ещё одно американское нововведение. На панели автомата были кнопки, с помощью которых можно выбирать – чёрный кофе, со сливками, с сахаром или без, погорячее или наоборот и даже покрепче или послабее. Говорили, что скоро установят и другие автоматы, которые будут выдавать чай, какао, горячий шоколад и даже куриный бульон.
С тех пор, как подобные устройства появились на станции, сотрудники приучились брать их утром с собой, торопясь на рабочее место, и теперь изрядная часть бачков для мусора неизменно оказывалась забитой смятыми стаканчиками из-под кофе и обёртками от булочек и бутербродов – их выдавал другой автомат. Начальство смотрело на подобные вольности без восторга, но терпело, хотя медики время от времени заводили разговор о том, что новинки сбивают строго рассчитанный график питания и должны быть немедленно удалены, желательно, навсегда. Но автоматы пока держались – возможно, потому что на совещаниях, где звучали подобные предостережения, перед половиной участников стояли знакомые картонные стаканчики.
– Ну что, товарищи стажёры? – голос руководителя был весёлым. Прозвище его было Попандопуло, за неизменно живой нрав и некоторое даже внешнее сходство с известным персонажем «Свадьбы в Малиновке». – Вас ждут великие дела, пора уже выбираться из коротких штанишек!
Дима хмыкнул. Стажировка закончилась давным-давно, почти год назад, и теперь они, все трое – полноправные сотрудники Проекта с допуском к работе в космосе. Прежняя группа, которой руководил как раз Попандопуло, расформирована, и сегодня должно прозвучать официальное приглашение принять участие в одной из самых поразительных миссий, предпринятых со времён посадки «Аполлона-11» на Луну.
Во время предварительной беседы, состоявшейся полторы недели назад, Дима спросил: с чего ему, новичку с довольно скромным опытом внеземной работы, предложили такое назначение? Этот вопрос не давал ему покоя: в самом деле, разве мало матёрых, летавших космонавтов, чтобы выбирать вместо них вчерашнего студента, едва оперившегося юнца, у которого всех заслуг – лишь то, что он однажды оказался в нужном месте в нужное время и ухитрился при этом не растеряться? На это Попандопуло, проводивший собеседование, ответил (не скрывая знаменитой ухмылочки), что недостаточная самооценка по мнению психологов Проекта – столь же тревожный признак, как и самолюбование; что бывший стажёр Дмитрий Ветров обладает навыками и знаниями, необходимыми в предстоящей миссии, а именно: является вакуум-сварщиком пятого разряда, имеет опыт монтажных и швартовочных работ в открытом космосе. И к тому же, будучи дипломированным инженером-криогенщиком, хорошо знаком со сверхпроводящим хозяйством космического батута, системой хранения и подачи сжиженных газов, необходимых для его эксплуатации. Всем этим Дмитрию Ветрову и предстоит заниматься на строительстве станции «Лагранж». Впрочем, если упомянутый Дмитрий Ветров имеет что по этому поводу возразить…
И так далее, и тому подобное. Возражать Дима и в мыслях не имел, так что Попандопуло, закончив очередной период, долженствующий внушить бывшему стажёру понимание возложенной на него ответственности, сделал пометку в списке. И вот теперь предстояла заключительная беседа, после которой состав миссии «Тесла» – «Лагранж» можно будет считать утверждённым официально.
Технические детали были Диме уже знакомы – после собеседования Попандопуло выдал ему стопку бумаг и несколько гибких дисков для персонального компьютера, которые бывший стажёр изучал последующие десять дней. Сейчас предстояло заново выслушать основные моменты намеченной программы, после чего он поставит подпись в документе – и превратится из кандидата в полноправного члена экипажа прыжкового корабля «Никола Тесла», который в этот самый момент готовился к старту на мысе Канаверал. На орбиту корабль отправится по частям, поскольку его массивный корпус не проходит в смонтированные на поверхности Земли батуты. На орбите части предстоит состыковать (в чём Дима тоже примет участие) и уже через космический батут «Гагарина», чуть ли не вдвое превосходящий размером земные, «Тесла» отправится к цели. Там он на время перестанет быть кораблём и превратится в часть строящейся станции «Лагранж», её центральный энергоблок, снабжающий энергией космический батут, который тоже ещё предстоит смонтировать. Впоследствии на «Лагранже» установят другой реактор, стационарный, аналогичный тому, который действует на «Гагарине». «Тесла» же отправится обеспечивать энергией другие космические стройки – их немало намечено на ближайшие годы, и везде нужны компактные, надёжные и мощные источники энергии.
– А я-то надеялась, что ты побудешь на «Гагарине» ещё хотя бы месяца три-четыре, – вздохнула Нина. – А у вас вон как всё быстро…
Дима пожал плечами. А что он, в самом деле, мог сказать? Повторить в десятый раз, что сроки запуска «Эндевора» и «Николы Теслы» рассчитаны в соответствии с неумолимыми законами небесной механики и столь же неумолимыми, хотя и куда менее понятными законами физики космического батута? «Окна» для отбытия крайне узкие, всего несколько дней, и любые сдвиги приведут к срыву всей миссии. И если для экипажа «Теслы» это означает всего лишь небольшую отсрочку – то тем, кто полетит на «Эндеворе», в лучшем случае, угрожает полугодовое ожидание в трёхстах миллионах километрах от дома. Подобный вариант предусматривался, конечно, на борту корабля хватит и воздуха, и воды, и провианта, чтобы дождаться-таки «Теслу» – но всё равно, перспектива удручающая.
Нине объяснять это не нужно – небось, не в заводской столовке работает, возглавляет «пищеблок» на орбитальной станции и должна разбираться в подобных вещах. Тем не менее Дима подробно пересказал жене всё, что только что услышал. Он застал её после обеда – обитатели жилого блока разошлись по рабочим местам, и у Нины выдались свободные четверть часа, пока дежурные загружают посуду в автоматические мойки и особыми пылесосами удаляют со столов крошки и использованные бумажные салфетки.
– А почему всё-таки с вами не будет связи? – спросила Нина. – Нет, я понимаю, далеко, задержка радиосигнала на целые четверть минуты, но чтобы совсем ничего? Вон, даже с американского «Пионера-11» радиопередачи получали, от самого Юпитера, и со снимками – а это куда как подальше!
– Подальше, конечно, – согласился Дима, обрадованный переменой темы. – Но тут всё дело в Солнце. Точка Лагранжа лежит на продолжении прямой, соединяющей Землю с Солнцем, а значит – светило всё время будет находиться между передатчиком и приёмником. И как будут в таких условиях доходить радиоволны – этого никто не знает.
– Я читала, что собирались запустить специальный спутник-ретранслятор, чтобы передачи шли как бы в обход. Или это отменили?
– Нет, почему же? – Дима пожал плечами. – Месяц назад отсюда, с «Гагарина», отправили через батут зонд «Маркони». Сейчас он где-то между орбитами Земли и Марса, и когда «Эндевор» прибудет в финиш-точку, американец Уильям Поуг – он не только второй пилот, но и специалист по дальней космической связи – должен будет наладить устойчивое радиосообщение с Землёй через этот самый зонд. Для этого им с Джанибековым надо будет выйти в открытый космос, собрать и установить большую приёмо-передающую антенну – я видел, как они отрабатывали эту операцию здесь, на «Гагарине».
– Такой огромный сетчатый зонтик, да? – подхватила Нина. – Видела, по телевизору показывали варианты проекта…
– Нет, там другая система, – Дима помотал головой. – «Зонтик», параболическая антенна – это на «Маркони». А та, что на «Эндеворе», похожа на огромный цветок с лепестками из тонкой золотой сетки. Эти лепестки управляются вычислительной машиной, чтобы принять форму, наилучшую для передачи сигнала. Поразительной красоты сооружение – и огромное, в собранном виде раза в три больше самого корабля!
– Значит, цветок, да ещё и с золотыми лепестками? – Нина недоверчиво хмыкнула. – Тогда откуда сомнения насчёт связи, если и зонд, и антенна эта распрекрасная?
– Ну… понимаешь, никто ещё такого ведь не делал. Учёные, конечно, всё просчитали, но и они дают вероятность успеха только в семьдесят процентов. Но это не страшно: на «Тесле» мы привезём второй комплект антенны, раза в два больше. И, главное, не будет ограничений по мощности передатчика – ядерный реактор под рукой, энергии хоть залейся. А с «Гагарина» на днях запустят ещё два зонда-ретранслятора, «Маркони-2» и «Маркони-3». Они будут висеть в других точках пространства, и при необходимости можно переключать сигнал на них. Так что мы с тобой ещё сможем побеседовать, не переживай!
– Ладно… – она убрала под косынку выбившуюся прядь. – Так и быть, поверю на этот раз. Да ты садись, накормлю. Проголодался, наверное, на своём брифинге? Вот ведь придумали словечко – нет чтобы по-русски, совещание…
III
Стремительно катится к концу июнь. В школах выпускные вечера – платья, нарядные причёски у девчонок, парни в новеньких, для многих первых в жизни «взрослых» костюмах. Пронесённые под полой бутылки портвейна, слёзы на глазах девчонок и учителей… И вальс, конечно, который сейчас почти никто не танцует – но это не беда, его с избытком заменят дискотечные медляки. Гуляния до утра в парках и по набережным, поцелуи – у кого-то первые и робкие, а у кого и вполне уже умелые, с намёком на скорое продолжение…
А у нас всё иначе. До окончания учёбы и выпускных экзаменов два с лишним месяца, и состоится это на орбитальной станции «Гагарин». Тоже неплохо, конечно, но всё же не совсем то – и, видимо, кто-то в недрах таинственного психологического отдела Проекта решил, что неправильно будет лишать подростков запоминающегося на всю жизнь праздника, который для прочих их сверстников надолго станет одним из самых светлых, самых памятных в жизни. В результате я стою сейчас в вестибюле нашей седьмой школы Октябрьского района города-героя Москвы, в пижонской юниорской форме, в окружении бывших одноклассников, и отвечаю на сотню восторженных, завистливых, порой ехидных, но чаще доброжелательных, вызванных искренним интересом вопросов. Рядом – Андрюха Поляков и Оля Молодых, тоже в плотном кольце и, подобно мне, засыпаны вопросами по самые макушки. Проходящие мимо учителя бросают на нас заинтересованные взгляды – похоже, им тоже не терпится нас расспросить. Завучиха Зинаида Петровна оттянула меня за рукав в сторонку и категорически потребовала выступить на «официальной» части вечера: «Вы наша гордость, Алексей, вы и ваши товарищи – какая ещё московская школа может похвастать тем, что её ученики побывали в космосе!..» Я чуть не напомнил про Юрку Кащея – он тоже был с нами на «Гагарине», тоже учился в Москве и как раз сейчас в своей школе, на выпускном. Но не стал, конечно – к чему разочаровывать человека?
Но – обо всём по порядку.
Для меня всё началось с лёгкого дежавю. После семинара по основам систем жизнеобеспечения в коридоре третьего этажа главного учебного корпуса Центра подготовки меня поймал – кто бы вы думали? Евгений Петрович, он же наш неизменный И.О.О.! На этот раз он был похож на киношного альтер эго куда сильнее, чем обычно – безупречная тёмно-серая тройка, лёгкая улыбка на тонких губах и, как всегда, нарочито-предупредительная обходительность. «Я был бы вам весьма признателен, Алексей Геннадьевич, и, поверьте, не остался бы в долгу, если вы возьмёте на себя труд раздать это вашим… хм… друзьям». С этими словами он вручил мне толстую пачку больших конвертов, повернулся и удалился прочь по коридору, оставив меня стоять с разинутым ртом и гадать – а что это сейчас было?
На конвертах вместо штампа «Совсем секретно» значились имена и фамилии членов учебной группы 3 «А», включая и мои. В конверте прощупывался лист плотной бумаги – и когда я надорвал его – в руках у меня оказалось нарядное, выполненное типографским способом приглашение на выпускной вечер моей бывшей школы. Всё честь по чести: адрес, время начала мероприятия и отдельно, внизу, мелким почерком – «вы можете привести с собой одного гостя». Прочтя это, я усмехнулся – писали бы уж прямо, «гостью»…
Конверты я раздал и, разумеется, не отказал себе в удовольствии описать, как они ко мне попали. Рассказ вызвал массу смешков и ехидных замечаний – Середа, почесав переносицу, высказался в том смысле, что Евгений Петрович позволил себе маленькую месть за данное ему прозвище, разыграв передо мной мизансцену из фильма. С ним не согласилась Лида-Юлька – по её мнению, это был тонкий психологический расчёт, постичь который нашим слабым разумам не дано. Юрка Кащей, которому версия Середы понравилась, вскинулся, принялся пылко возражать, его поддержала Оля Молодых – и понеслась. Я слушал и гадал: а что, если это было продолжением той памятной беседы, когда И.О.О. чуть ли не открытым текстом дал понять, что догадывается, кто я на самом деле?
Или я, как обычно, переборщил с рефлексией и вижу то, чего и быть-то не может, потому что не может быть никогда?
Когда уйдем со школьного двораПод звуки нестареющего вальса,Учитель нас проводит до углаИ вновь назад и вновь ему с утра:Встречать, учить и снова расставаться,Когда уйдем со школьного двора…Вот и выпускной бал. Я не один – воспользовался советом и явился со спутницей. Очень хотелось позвать Юльку, но язык не повернулся высказать эту просьбу, когда я услышал, как радостно она говорит о полученных ими с Середой приглашениях. Как и я, она первые восемь лет проучилась в одной школе, но, в отличие от меня, связи с одноклассниками не теряла. Так что пусть повеселится, а на наш с ней век хватит ещё праздников…
Компанию мне составила Ки Лань – миниатюрная китаянка, недавно присоединившаяся к юниорам. Народная Республика упорно рвётся в космос, китайцы участвуют во многих программах Проекта – и в том числе организовали у себя филиал Школы космонавтики. Ки Лань и двое её земляков – как раз оттуда, попали к нам в Центр подготовки после жесточайшего отбора. И плоды этого отбора видны сразу – китайцы-юниоры отлично владеют русским, делают успехи во всех дисциплинах, а уж их трудолюбию может позавидовать муравей.
Китаянка легко влилась в наш дружный коллектив. Сначала познакомилась с девчонками, потом с остальными и как-то незаметно стала в нашей группе своей. А после возвращения из отпуска, который она провела дома, в Шанхае (мы в это время были в Свердловске), попросилась к нам уже официально. Теперь Ки Лань полноправный член группы 3 «А» и вместе с остальными готовится к «орбитальному» этапу учёбы.
Мы называем её не по имени, а по фамилии – Лань. Когда мы узнали, что зачисление китаянки в нашу группу утверждено, я хотел пошутить, что осталось найти кого-то с именами Ку и Ка, и тогда у нас будет полный комплект – Ку, Ки и Ка, как у пирата Двуглавого Юла из повести братьев Стругацких «Экспедиция в преисподнюю». Но вовремя прикусил язык – вспомнил, что повесть эта будет написана только в восемьдесят третьем, и намёк на совпадение имён нашей новой одногруппницы и огромной морской звезды, канонира «Чёрной Пираньи», который не умел считать даже до двух, никто не оценит.
Когда я пригласил Лань на выпускной, она смутилась и даже сделала попытку уклониться – но в итоге согласилась и долго благодарила, чередуя слова с короткими поклонами, держа руки сложенными перед собой. В школе она мгновенно сделалась центром всеобщего внимания, народу вокруг неё собралось вдвое больше, чем вокруг нас троих.
Для нас всегда открыта в школе дверь,Прощаться с ней не надо торопиться,Но как забыть звончей звонка капельИ девочку, которой нес портфель.Пускай потом ничто не повторится,Для нас всегда открыта в школе дверь…Оля Молодых и Андрюха Поляков пришли вдвоём, но не парой, хотя и держались вместе. Глядя на них, я вспомнил Юрку Кащея – его школа на другом конце Москвы, в Перово, и компанию на выпускном ему составила скрипачка Мира. Она на год младше – закончила девятый класс, а потому отказываться ни от чего не пришлось.
А вот Лены Титовой на выпускном нет. Она с родителями уже год как уехала во Францию – отец получил назначение в наше торгпредство и забрал семью с собой. В этом тоже есть некая ирония: в «том, другом» варианте событий Игорь Семёнович Титов ушёл из Внешторга и долго добивался разрешения покинуть СССР. И добился – к весне семьдесят седьмого. По официально объявленной версии Ленка с родителями уезжала в Сибирь и лишь перед посадкой в такси (мы пришли её провожать) шёпотом сообщила, что на самом деле они летят в Вену, а дальше… Других пояснений не требовалось – в то время все прекрасно понимали, что означает подобный пункт назначения.
Но сейчас всё не так. Ленкин отец работает в Париже, она ходит в русскую школу и чуть ли не каждый день встречается с Шарлем – наш бравый «шевалье д'Иври» явно не теряет времени даром. Обоим уже по семнадцать, и в одном из писем (обычных, не электронных) француз намекнул, что у него в отношении Ленки серьёзные намерения. Что ж, Бог им в помощь…
Пройди по тихим школьным этажам.Здесь прожито и понято немало,Был голос робок, мел в руке дрожал,Но ты домой с победою бежал.И если вдруг удача запропала,Пройди по тихим школьным этажам…Что ещё рассказать? Официальная часть, на которой меня таки вытащили на сцену после прочувствованной речи завучихи Зинаиды Петровны; аплодисменты и слёзы на глазах нашей классной. Конечно, они адресованы по большей части Андрюхе и Оле, но… я ведь тоже проучился здесь без малого год, и, значит, могу рассчитывать хотя бы на малую толику?
Танцы – медляки и дискотечные трясучки, во время которых Лань зажгла так, как никто не ожидал от скромной, стеснительной китаянки. Что до меня, то когда первый ажиотаж схлынул, я остался в некоторой изоляции – если не считать Лань и Олю с Андрюхой да Таню Воронину, время от времени вспоминавших о моём существовании. Другого я, впрочем, и не ожидал и на выпускной пришёл, не испытывая ностальгических иллюзий. Скорее уж это была попытка, как говорили в наше время, «закрыть гештальт» – покончить с комплексами и рефлексиями, избавиться раз и навсегда от ностальгии, как бы ни грела она мне в своё время душу. Потому что – мне ли не знать, какое крошечное расстояние отделяло меня тогда, в первые недели моего попаданства, от окончательного превращения в форменного старпёра, шестидесятилетнего неудачника, по чьему-то недомыслию оказавшегося в юном пятнадцатилетнем теле? Не слишком весёлая перспектива – тем более, что понять происходящее не в состоянии никто, кроме меня – да ещё, может, таинственного И.О.О. Или он для того и затеял всю эту канитель с приглашениями, чтобы избавить меня от ностальгических томлений?
Нет, зря я его демонизирую. Спишем на совпадение – хотя и не бывает таких совпадений…
Летние ночи коротки, и когда небо над Москвой стало совсем светлым – мы, двумя выпускными классами, отправились на долгую прогулку – пешком, до Ленинских гор, по проспекту Вернадского, мимо Университета и Дворца пионеров. Дальше была смотровая площадка, чёрный каркас Большого Трамплина на фоне рассветного неба; демонстративно открытые бутылки с шампанским, визги девчонок: «Осторожно, платье испортите!», заливистый хохот. Лань, к моему удивлению, умеет танцевать не только диско и рок-н-роллы, но и вальс – что мы и продемонстрировали с ней, прямо на смотровой площадке, под кассетник, из которого лилась самая, наверное, ностальгическая из всех школьных песен. С нами кружили ещё четыре пары, в том числе и Андрюха с Олей; остальные сначала завистливо наблюдали, а потом стали присоединяться, наступая друг другу на ноги, в попытках повторить незнакомые движения. Вальс, вальс, закончивший для нас эту волшебную ночь…
Спасибо, что конца урокам нет,Хотя с надеждой ждешь ты перемены,Но жизнь – она особенный предмет:Задаст вопросы новые в ответ.Но ты найди решенье непременно,Спасибо, что конца урокам нет…А потом мы шумной толпой направились домой. Таких кучек выпускников было этим утром на Ленинских горах полным-полно – весело перекрикивались, махали руками, девчонки обменивались воздушными поцелуями. Проходя мимо МГУ, мы четверо – я, Андрюха, Оля и Лань – незаметно отстали от одноклассников (уже бывших!). Возле бокового входа в главное здание нас ждал автобус, элегантная «Юность», выделенная администрацией Центра подготовки, и на ней мы уехали в Калининград. Улицы Москвы пусты, только ползут по ним, выстроившись уступами, коммунхозовские грузовики с сине-белыми капотами и оранжевыми бочками; сверкающие водяные усы омывают асфальт, бордюры и тротуары, а редкие утренние прохожие в испуге сторонятся от этого неожиданного душа. Я сидел, подперев тяжёлую после бурной ночи голову рукой, и любовался проносящимися видами проспекта Мира. Вот показалась наклонная, увенчанная ракетой игла; мелькнула за деревьями колоннада главного входа ВДНХ; возникла и сразу пропала статуя «Рабочий и колхозница» с навечно вздыбленными серпом и молотом. Москва уносилась прочь, а впереди… что ж, впереди вся жизнь и я, в отличие от «того, другого» раза, догадываюсь, как и где её проведу.
IV
Как рассуждали в двадцатых годах моего двадцать первого века? Закончилась эпоха, к которой мы все привыкли, наивно считая, что она будет длиться всегда. Представлявшийся вечным прогресс оказался лишь кратким периодом в развитии человечества, стартовавшим в конце восемнадцатого века, прошедшим через эпоху угля-и-пара, через эру бензина-и-электричества, набравшим сумасшедший темп с появлением ядерной энергетики и микроэлектроники, выведшим человека в космос, позволившим даже замахнуться на его божественную сущность (во всех смыслах, не только в философском) – и вот, подошедшим к закономерному финалу буквально на наших глазах. Те, чьё детство и юность пришлись на шестидесятые – семидесятые годы, искренне полагали, что впереди только прогресс, только путь вверх, и вдруг оказалось, что эти двести – двести пятьдесят лет – лишь краткий момент в циклическом развитии. А что же дальше? Всеобщий хаос, смертоносные пандемии, голод и войны по всей планете, и в итоге – ядерная зима, апокалипсис, возврат к тёмным векам варварства? Или торжество киберпанка от Уильяма Гибсона, которое есть то же самое, только слегка отложенное и приукрашенное? Или совсем уж глухой, безнадёжный тупик – всеобщий виртуальный раёк с персональными цифровыми корытами, описанный великим польским фантастом и футурологом Станиславом Лемом в «Сумме технологии», раздел «Фантоматика»? Никто не знает… а я теперь уж точно не узнаю, поскольку оказался на другом витке этого развития – вот чем обернулось в итоге моё попаданство!
Вообще-то, с тогдашней нашей колокольни всё это смотрелось вполне логично. Техническая цивилизация не может существовать долго – во всяком случае, на такой ограниченной ресурсной базе, какую способна предоставить наша планета. Но даже если оставить мальтузианские пророчества иных гуру от экологии, остаётся другая проблема, которой тоже занимались в своё время – и пришли к весьма неутешительным выводам.
В конце шестидесятых – начале семидесятых годов в Советском Союзе в Бюракане, в Армении, регулярно проводились международные конференции по программе SETI – «Search for Extraterrestrial Intelligence» («Проблемы поиска и связи с внеземными цивилизациями»). И главный спор, если отбросить технические детали, шёл вот о чём: «Одиноки мы во Вселенной, или нет?» Советский математик и астроном Шкловский математически доказывал, что такого быть не может, потому что не может быть никогда, и изложил свои взгляды в доступном для широкой публики виде – книге «Вселенная. Жизнь. Разум». Было это году, кажется, в шестьдесят пятом – может, кто-то помнит эту тёмно-синюю книгу большого формата с золотым тиснением и схематическим изображением Земли на обложке?