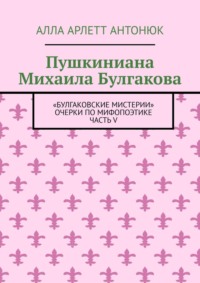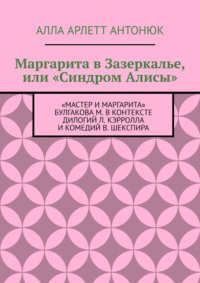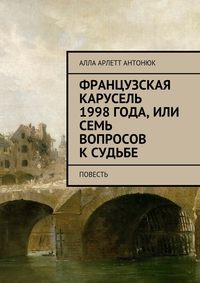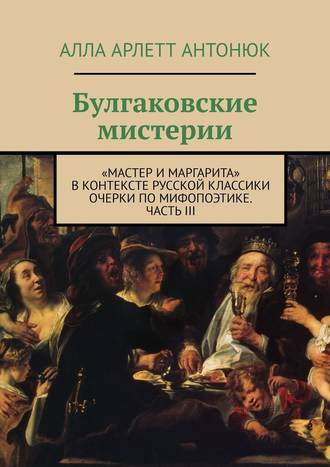
Полная версия
Булгаковские мистерии. «Мастер и Маргарита» в контексте русской классики Очерки по мифопоэтике. Часть III
Христос и Пилат – это сюжет, повторённый не только четырьмя каноническими евангелиями (кроме Иоанна и Матфея, еще также Лукой и Марком), а тысячу раз повторенный во множестве картин художников и по этой причине рисковавший быть опошленным тысячным повторением, снова возникает, однако, в романе Толстого (1877) и в романе Булгакова (1928), как появляется он в свое время в стихотворении Пушкина «Мирская власть» (1828).
Предвидя упреки критики за обращение к сюжету, тысячу раз истолкованному, Толстой в своей сцене из «Анны Карениной» делает акцент на двойственном восприятии картины о Христе и Пилате, – с одной стороны, такой дорогой для художника Михайлова, а с другой стороны, противопоставляющей особое восприятие картины Анной и Вронским обывательскому видению ее случайными посетителями. Оба видения сталкиваются в сознании мастера Михайлова: «Всякое лицо, с таким исканием, с такими ошибками, поправками, выросшее в нем со своим особенным характером, каждое лицо, доставлявшее ему столько мучений и радости, и все эти лица, столько раз перемещаемые для соблюдения общего, все оттенки колорита и тонов, с таким трудом достигнутые им, – все это вместе теперь, глядя их <посетителей> глазами, казалось ему пошлостью, тысячу раз повторенною… Он видел хорошо написанное (и то даже не хорошо, – он ясно видел теперь кучу недостатков) повторение тех бесконечных Христов Тициана, Рафаеля, Рубенса и тех же воинов и Пилата. Все это было пошло, бедно и старо и даже дурно написано – пестро и слабо. Они будут правы, говоря притворно-учтивые фразы в присутствии художника и жалея его и смеясь над ним, когда останутся одни. <…> Самое дорогое ему лицо, лицо Христа, средоточие картины, доставившее ему такой восторг при своем открытии, все было потеряно для него, когда он взглянул на картину их <посетителей> глазами» (Часть 5; XI).
Однако Анна и Вронский (думается, прежде всего, Анна, судьба которой все время «висела на волоске», бесконечно решаясь и завися от воли враждебных ей людей) очень близко восприняла картину: «Как удивительно выражение Христа! – сказала Анна. – Видно, что »… …Из всего, что она видела, это выражение ей больше всего понравилось, и она чувствовала, что это центр картины, и потому похвала этого будет приятна художнику. Это было опять одно из того миллиона верных соображений, которые можно было найти в его картине и в фигуре Христа. Она сказала, что » (5:XI). ему жалко Пилата ему жалко Пилата
Эта же , названная художником Михайловым «увещание Пилатом», стала и сюжетом Второй главы романа Булгакова «Мастер и Маргарита» – обе с центральной фигурой мессии (Иешуа, по версии Булгакова). И у Булгакова также – бродячему философу Иешуа было «жалко Пилата» (и это в точности, как у Толстого, каким увидела Христа Анна Каренина на картине Михайлова – в его сцене с Пилатом). сцена суда над Христом
Толстой дважды повторяет эту фразу, которая становится ключевой в его сцене, происходившей в мастерской художника, как и в самой библейской : «ему <Христу> жалко Пилата», и, это, собственно, ключевая фраза, определяющая замысел художника Михайлова. Такое же видение образа мессии становится ключевым и в сцене Булгакова («О, как я угадал! О, как я все угадал!»). Современная критика до сих пор ставит Булгакову в упрек именно это видение Булгаковым образа мессии Иешуа. Так критик Блажеев Е. полагает, что Спаситель превращается у Булгакова в нечто весьма и весьма далекое от оригинала (то есть, от Христа). Сохранив лишь половину имени (Иешуа-Иисус), Булгаков, по мнению Блажеева, «лишает героя божественной природы и предназначения» (с. 109). Позже мы вернемся еще к этому суждению критика, которое, собственно, не является ни оригинальным, ни новым, поскольку передает видение картины одним из героев Толстого в «Анне Карениной» – в высказываниях Голенищева, друга и сослуживца Вронского, который тоже посещал мастерскую художника Михайлова в указанной сцене Толстого вместе с Анной и Вронским. сцене суда
Как считает Блажеев, подмена имени Булгаковым (Иисус – Иешуа) продиктовала «с роковой неизбежностью» и «ход дальнейших метаморфоз» вставного романа Булгакова. Критик считает, что обвиняя во лжи Левия Матвея в его записках на пергаменте, Иешуа у Булгакова якобы тем самым лишает достоверности все другие свидетельства евангелистов, а история начинает зиять множеством черных дыр и пустот, «заполняемых малоубедительной житейской психологией». В качестве примера критик Блажеев приводит булгаковские сцены с Иудой, который отнюдь не терзается у Булгакова угрызениями совести, предав Иешуа, и соответственно не кончает свою жизнь самоубийством. Булгаков противопоставляет библейской сцене самоубийства другую сцену – заговора и убийства Иуды в Гефсиманском саду. В версии Булгакова, Иуду заманивают по наущению Пилата в ловушку и там убивают. Таким образом, суд совести в романе Булгакова якобы подменен даже не судом земным, а тайной расправой – считает Блажеев.
Толстой в «Анне Карениной» приветствует видение фигуры Христа художником Михайловым, совпадающее также и с оценкой Анны. Он вкладывает в уста художника следующие суждения: «В выражении Христа должно быть и выражение жалости, потому что в нем есть выражение любви, неземного спокойствия, готовности к смерти и сознания тщеты слов. Разумеется, есть , так как один Все это и многое другое промелькнуло в мысли Михайлова. И опять лицо его просияло восторгом» (5:XI). выражение чиновника в Пилате и жалости в Христе олицетворение плотской, другой – духовной жизни.
Мастер Михайлов у Толстого с едва скрываемым волнением и трепетом ждал суждения о своей картине и изображенном им Понтии Пилате. Голенищев, друг Вронского, присутствовавший также вместе с Анной и Вронским в этой сцене, осмелился тоже высказать свое суждение: «…меня необыкновенно поражает фигура Пилата. Так понимаешь этого человека, доброго, славного малого, но чиновника до глубины души, который не ведает, что творит…» (5:XI). Такое проникновение в замысел Михайлова простыми посетителями, не являющимися профессионалами в искусстве, очень тронуло мастера: «Все подвижное лицо Михайлова вдруг просияло: глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения… <…> …как ни ничтожно было то справедливое замечание о , как ни обидно могло бы ему показаться высказывание первого такого ничтожного замечания, тогда как не говорилось о важнейших, Михайлов был в восхищении от этого замечания. что сказал Голенищев. То, что это соображение было одно из миллионов других соображений, которые, как Михайлов твердо знал это, все были бы верны, не уменьшило для него значения замечания Голенищева. Он полюбил Голенищева за это замечание и от состояния уныния вдруг перешел к восторгу. Михайлов опять попытался сказать, что но губы его непокорно тряслись, и он не мог выговорить» (5:XI). верности выражения лица Пилата как чиновника Он сам думал о фигуре Пилата то же, Тотчас же вся картина его ожила пред ним со всею невыразимою сложностью всего живого. он так понимал Пилата;
Читая эту сцену Толстого, возникает понимание того, как происходило, возможно, осознание Булгаковым проблематики его собственного романа «Мастер и Маргарита». Те переживания, которые художник Михайлов испытывает у Толстого при оценке своего полотна (Анной, Вронским и Голенищевым), очень сходны с волнением и переживаниями булгаковского Мастера, который подобным же образом трепетал за судьбу своего романа, бесконечно подвергавшемуся у него изменениям (впрочем, как и картина художника Михайлова у Толстого) и даже сожжению, которое означало почти отречение от написанного из-за его видения истории как метаистории, совершенно не приемлемого для советской литературной критики. Вспомним также, что сам Булгаков писал свой гениальный роман в атмосфере непонимания, открытой враждебной настроенности и даже травли со стороны советского режима. Мастер Булгакова и мастер Толстого.
В Евангелии от Матфея на вопрос Пилата: «Ты Царь Иудейский?» – Иисус ответил в утвердительной форме (XXVII; стих 11). Однако, как записано у Иоанна, царство Христа не носило в то время политического характера; Риму Он соперником не был, и угрозы ему не представлял (Иоанн, 18:33—37). Царствие Христа распространялось лишь на духовную область жизни человека, которая жаждала свободы совести.
И у Булгакова Иешуа также не претендует ни на какую власть политическую: он скорее попадает между жерновами духовной (Каифа и синедрион) и светской (Пилат) власти («мирской власти», по Пушкину). Понимая эту ситуацию, Пилат у Булгакова и пытается освободить Иешуа. Подобные мысли и мучения Пилата подтверждает даже булгаковский Воланд, рассказывая Мастеру и Маргарите о мучениях Пилата в аду (в «пятом измерении»), куда Мастер и Маргарита также совершают свое после смерти: «Он <Пилат> говорит, что и при луне ему нет покоя и что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же – лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри <Иешуа>, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда, что же поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие, и к своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем» (гл. 32). Вспомним, однако, что при жизни Пилат руководствовался в своих действиях другими помыслами, не желая «меняться местами» с бродягой философом Иешуа. путешествие
Иешуа и Пилат, однако, в их диалогах («сократических диалогах» о поисках истины) все время меняются местами друг с другом (словно, по принципу карнавальной поэтики). Отправляя философа своим приговором на смерть, Пилат доходит до того, что сам «малодушно помышляет о смерти», думая о : «И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора» (гл. 2). И этот образ – – совершенно не случайно возникает в поэтике Булгакова. Реалии истории и ее поэтическое толкование (как метаистории) все время перемешиваются в изображении событий у Булгакова (как и в булгаковского Мастера). Через эту аллюзивную деталь – – снова просвечивает у Булгакова образ осужденного на смерть Сократа, как прообраз Иешуа, – Сократа, который, как мы знаем это из истории, малодушно выпивает чашу с ядом вместо грозившего ему распятия. Образ соединяется здесь у Булгакова еще и с образом «кровавой чаши»: «И опять померещилась ему <Пилату> чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!» (гл. 2) – образ, который содержит символ тайн бытия, нашедший свое дальнейшее развитие в романе Булгакова в сценах Бала. чаше с ядом чаши с ядом романе чаша с ядом чаши с ядом
Мастер мучается у Булгакова тем, что не может закончить роман прощением Понтию Пилату – он не может простить ему его малодушие и трусость в принятии решения о судьбе Иешуа (как и у евангелиста Матфея, булгаковский Понтий Пилат отправляет Иешуа на казнь). Тогда булгаковский Воланд вынужден спуститься с Мастером и Маргаритой в глубины преисподней, чтобы показать им все мучения совести Пилата. Воланд устраивает так, что Иешуа (божество Света и справедливости, которого в конце романа мы видим во всем его сиянии), прочел роман Мастера. «Ваш роман прочитали, – заговорил Воланд, поворачиваясь к Мастеру, – и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница». (гл. 32)
Благая весть о прощении и прекращении греховных мук Понтия Пилата («Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил , с кем он так стремится разговаривать») решила и участь булгаковского Мастера: «Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой!”… Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам: «Свободен! Свободен! ждет тебя! Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. …Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес… вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он» (гл. 32). тот Он
Булгаковский Воланд совершает свою миссию – объявляет о воле Иешуа и прощении им своего антагониста Пилата, ибо Иешуа своей смертью искупил грехи всех людей на земле, и малодушие Пилата, в том числе. «И, может быть, до чего-нибудь они договорятся», – тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас» (гл. 32).
Булгаковский Мастер получил мощную поддержку Всех Верховных сил, чтобы решительно найти верный конец для своего романа. У Толстого Мастер Михайлов в этом плане оказался счастливее – ему не пришлось спускаться в бездну – он получил поддержку публики не после смерти, а при жизни; и поддержку той публики, для которой он писал свою картину о Понтии Пилате. Толстой так описывает при этом прилив вдохновения художника: «Когда посетители уехали, Михайлов сел против и в уме своем повторял то, что было сказано, и хотя и не сказано, но подразумеваемо этими посетителями. И странно: то, что имело такой вес для него, когда они были тут и когда он мысленно переносился на их точку зрения, вдруг потеряло для него всякое значение. Он стал смотреть на свою картину всем своим полным художественным взглядом и пришел в то состояние уверенности в совершенстве и потому в значительности своей картины, которое нужно было ему для того исключающего все другие интересы напряжения, при котором одном он мог работать. Нога Христа в ракурсе все-таки была не то. Он взял палитру и принялся работать. Исправляя ногу, он беспрестанно всматривался в фигуру Иоанна на заднем плане, которой посетители и не заметили, но которая, он знал, была верх совершенства. Окончив ногу, он хотел взяться за эту фигуру, но почувствовал себя слишком взволнованным для этого. Он одинаково не мог работать, когда был холоден, как и тогда, когда был слишком размягчен и слишком видел все. Была только одна ступень на этом переходе от холодности ко вдохновению, на которой возможна была работа. А нынче он слишком был взволнован. Он хотел закрыть картину, но остановился и, держа рукой простыню, блаженно улыбаясь, смотрел на фигуру Иоанна. Наконец, как бы с грустью отрываясь, опустил простыню и, усталый, но счастливый, пошел к себе» («Анна Каренина»; 5:XII) картины Пилата и Христа
Глава 2. Евангелие и «антиевангелие»
– Ваш чрезвычайно интересен, , хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими. рассказ профессор рассказами
М. А. Булгаков«Мастер и Маргарита» (Глава 3)Моисея С рассказом
Не соглашу моего… рассказа
А. С. Пушкин. «Гавриилиада» (1821)« Общеизвестно, что трагедия И. Гёте «Фауст» (1808) начинается с эпизода, в котором ее герой, ученый и чернокнижник Фауст, решил переписать Евангелие. Он открывает книгу Ветхого Завета и то, что изначально было записано в подлиннике как: «В начале было Слово», после некоторого колебания переводит как: «В начале было Дело». И в этот самый момент неизвестно откуда взявшийся и увязавшийся за ним черный пудель превращается в Беса Мефистофеля, который, впрочем, в одной из гётевских сцен сам себя называет . Более чем через сто с лишним лет писатель Михаил Булгаков вспоминает это имя, являющееся одним из имен князя Тьмы, и делает Воланда героем своего романа. Слово и Дело (Логос и Деяние). Евангелие» Толстого и «антиевангелие» Булгакова. графом Воландом
Не видя еще в черном пуделе беса, который смущает его дух и внушает сомнение в истинности божественного слова, заставляя переосмысливать Божественный Завет (Евангелие), гётевский Фауст создает «а на самом деле, «: евангелие от Фауста» ( евангелие от Мефистофеля»)
Фауст (открывает книгу и собирается переводить):
Написано: «В начале было Слово» —
И вот уже одно препятствие готово:
Я слово не могу так высоко ценить.
………………………………………….
И вновь сомненье душу мне тревожит.
Но свет блеснул – и выход вижу смело,
Могу писать: «В начале было Дело»!
Пудель, не смей же визжать и метаться,
Если желаешь со мною остаться!
Фауст Гёте не подозревает, что написав: «В начале было Дело», он создает антижанр, собственно, новый жанр – дьяволиады.
Когда у Толстого в романе «Анна Каренина» художник Михайлов задумал переложить Евангелие от Матфея на своем полотне «Увещание Пилатом», только один упорный труд помогал ему в этом, да еще осознание важности темы, которая его вдохновила. Как пишет Толстой, «самый опытный и искусный живописец-техник одною механическою способностью не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания» («Анна Каренина»; 5:XII).
Булгаков, создавая в романе «Мастер и Маргарита» свою «картину» «увещание Пилатом», испытывал, очевидно, немалые муки, в отличие от своего – в какой-то мере тезки – художника героя«Анны Карениной» Толстого. Чтобы примирить совесть своего героя Понтия Пилата, Булгакову необходимо было, в отличие от Толстого, некоторое вмешательство потусторонних сил (такой пример вмешательства дьявола в художественную мастерскую мастера мы можем встретить в русской литературе, например, у Гоголя в повести «Портрет»). Для Булгакова подобный пример существовал не только в русской литературе (Гоголь и Пушкин), но, конечно же, и в мировой художественной литературе (Гофман, Гёте и Эдгар По). Михаил Михайлова,
«Евангелие от Воланда» – так и называлась 11-я глава романа Булгакова в сохранившейся авторской разметке глав «Мастера и Маргариты» от 1933 года. По ней можно сказать, что Булгаков сам изначально определил жанр своего романа как. Само слово «евангелие» (от др.-гр. ευαγγέλιο), как известно, в переводе с греческого означает «благовестие» («благая весть») – это те слова утешения, которые бог посылает на землю людям посредством своих ангелов-вестников в утешение их земных страданий. Получается, что Булгаков препоручил эту миссию Воланду – одному из князей царства Тьмы. В таком видении автора, конечно, возникает немало вопросов. «Евангелие от Сатаны» («Статей библейских преложенье»). дьяволиаду
Но если взять во внимание мировую историю дьяволиады как особого жанра, то еще Дьявол Байрона, взявшийся показать Каину, как устроен , говорит о неком сострадании, которое все же возможно у злых духов по отношению к человечеству: мир иной
Мы, духи, с вами, смертными, мы можем
…сострадать друг другу;…
…: оно весь мир связует. Сочувствие
О взаимном сострадании злых духов и человека Пушкин вторит Байрону как в своей реминисценции из Данте: «Порыв отчаянья в их <грешников> вопле диком» (1832), так и в «Бесах» (1830): «Мчатся бесы рой за роем <…> Визгом жалобным и воем … («Бесы»). Художественное мышление Булгакова, философски необозримо объёмное, вобрало в себя весь этот литературный опыт его предшественников. я внял Надрывая сердце мне
Работая над наследием Пушкина для создания биографической пьесы о поэте («Последние дни»), Булгаков, очевидно, переработал одновременно и самые глубинные пласты пушкинского художественного наследия – как на литературном, так и на фольклорно-мифологическом уровне его поэтики. Трансуровневые перемещения пушкинских героев как составная часть его многочисленных , оказали неизмеримо огромное влияние на Булгакова при создании им романа «Мастер и Маргарита». В его широкое художественное полотно проинтегрированы бесчисленные реминисценции из Пушкина, ставшие неотъемлемой частью его собственного романа, продолжив, таким образом, поэтическую и мифопоэтическую традицию, идущую от Пушкина. инфернальных сцен
Сам Пушкин всегда пытался художественно разрешить важнейшую гуманистическую задачу – показать, какие изменения происходят в душе его героя, самое важное из которых – Именно в этом аспекте Пушкин-гуманист говорил со своим читателем о соотношении в мире Добра и Зла, Света и Тьмы, Слова и Дела. У Булгакова, продолжавшего эту пушкинскую традицию, его персонаж Воланд – олицетворение сил зла, действительно, скорее «сочувствующий» человеку могучий дух. Однако, правомерно ли все-таки в этой связи говорить об определении жанра его романа как «, даже если его персонаж, олицетворяющий силы зла, является главным героем романа? зарождение сострадания. евангелия от сатаны»
Уже в Библии у Моисея находим мы Змия, с одной стороны, «сочувствующим» человеку, но и потворствующим его греху, с другой. В Библии мы найдем не только «проповедь небесного учителя» (А. С. Пушкин), но и отповедь непримиримого врага человечества – самого дьявола в образе Змия. Уже Библия включает тот первый диалог между Богом и Змием-искусителем (диалог между Добром и Злом), который уже определяет всю дальнейшую судьбу Бог и ветхозаветный Дьявол (Змий). антиевангелия как жанра.
Булгаков, конечно же, не открывал, а, скорее, вдохновившись образцами прошлого, творчески развивал жанр дьяволиады (или «евангелия от сатаны») в своем романе «Мастер и Маргарита», сделав олицетворение сил зла – Воланда – основным героем своего произведения. В ряду таких же произведений мы можем назвать «Гавриилиаду» Пушкина с его Змием-искусителем и «Фауст» И. Гёте с его чертом Мефистофелем; а также Достоевского, разрабатывавшего свою в «Братьях Карамазовых». Наконец, сам Достоевский также упоминает в этом ряду Данте Алигьери. Но и сама Библия, как это ни удивительно, является в данном случае самым невероятным «произведением». сцену с Чертом
Что представляет собой Библия с точки зрения ее структуры? Это, говоря также словами Пушкина, «собранье пестрых глав» («статей библейских») числом более шести десятков, условно называемых «книгами». Библия (от «книги») не является одним цельным произведением. Это собрание различных текстов, значительно различающихся между собой как по объему, так и по времени составления, содержанию, жанру и стилю, написанных разными авторами. В Библии выделяются две крупные части: Ветхий завет ( «древний союз» или «древний договор») и Новый завет. Ветхий завет стал священным писанием древнееврейской религии, Новый завет – христианства. Но поскольку христианство сложилось на основе иудаизма, его последователи признавали священным писанием также и Ветхий завет. По свидетельству Ветхого завета, древние евреи поклонялись многим богам. Библия же называет их «бесами». Книга Второзакония (XXXII, 17) сообщает, что евреи приносили жертвы богам (а не бесам). В Псалтыри же мы читаем, что евреи «приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам» (Псалтырь CV, 37). греч. др.-сл.
«Евангелие от…» – Матфея, Луки, Марка, Иоанна, любимых учеников Иисуса Христа, – это записанная ими проповедь Иисуса, любимого учителя, защищавшего природу человека, созданную Богом, и провозгласившего себя Сыном божиим. Четыре Евангелия взаимодополняют Библию. Любой художник в мире в тайне всегда старался подражать этому «собранью» и по-своему переложить «библейские рассказы» (Булгаков). Сакральный текст библии бесконечно «ретранслируется» в литературе, словно поступая из некой сокровищницы знаний, доступной не многим. «Дерзнули мы упомянуть о божественном Евангелии: мало было избранных (даже между первоначальными пастырями церкви), которые бы в своих творениях приближились кротостию духа, сладостию красноречия и младенческою простотою сердца к проповеди небесного учителя» (А. С. Пушкин). Христос и новозаветный Антихрист («Как некогда змея, тысячелетняя прабабушка моя!»; ) ИГёте, «Фауст» .
Библия – это Книга книг, и даже не в том смысле, что главная книга среди всех созданных в мире книг, а в смысле единого «собрания», божественно-организованного единым сознанием, имевшим возможность взлететь «над» и обозревать созданный мир, передать таинство воплощения и потому воплотить разум, никого не судящий.
Само структурное деление Библии на Ветхий Завет и Новый Завет – как отражение художественной и сюжетной динамики Священного Писания – стало для последующей литературы источником и пружиной ее дальнейшего бесконечного литературного подражания и развития тем, сюжетов, персонажей и самой художественной структуры. Так в романе «Мастер и Маргарита» Булгаков, а вместе с ним и его Мастер, – также актуализируют вечные законы Пратекста, представляющего собой парадигму для всех времен.