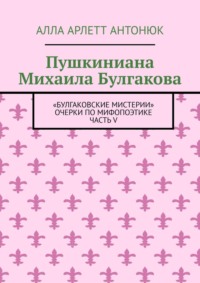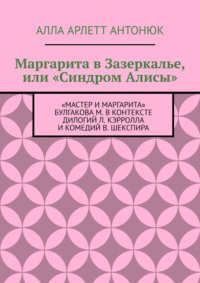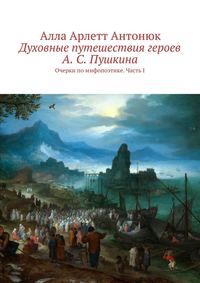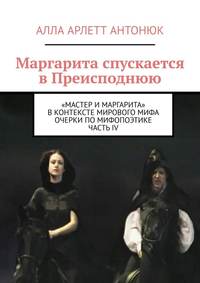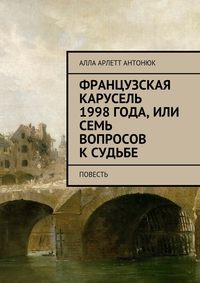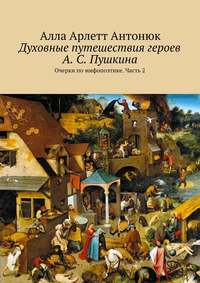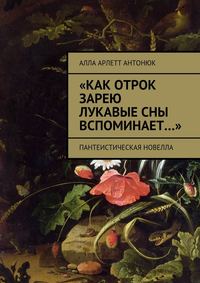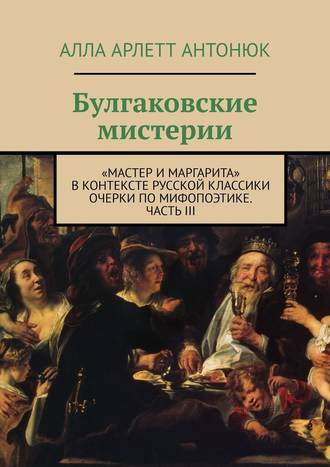
Полная версия
Булгаковские мистерии. «Мастер и Маргарита» в контексте русской классики Очерки по мифопоэтике. Часть III
Пушкин подхватывает это библейское «de m’y promener» («только что по ней <по Земле>»), но передает его в травестийно сниженной форме – «в белом свете»: прогулялся шатаясь
Но, старый враг, не дремлет сатана!
Услышал он, шатаясь в белом свете,
Что бог имел еврейку на примете,
Красавицу, которая должна
Спасти наш род от вечной муки ада.
Лукавому великая досада —
Хлопочет он.
Пушкинское «Бог имел еврейку » – явно является, хоть и переосмысленной, фразой из Книги Иова: «L'Éternel dit à Satan: mon serviteur Job?» («И сказал бог Сатане»: «Не ли ты раба моего Иова?») на примете As-tu remarqué приметил
Если в Книге Иова о главном герое Иове сказано: «c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m’excites à le perdre sans motif»; Job, 2:3 («это человек честный и прямой, страшащийся Господа и не приемлет зла. Он тверд в своей цельности, и ты раздосадуешь меня, если погубишь его без нужды» (п.). «Il n’y a personne comme lui sur la terre» («нет никого на земле, как он»), – то подобными же характеристиками наделяет своих героев и Пушкин, но только не Иова, а свою героиню – Деву Марию, для которой Бог предопределил выполнить божественную миссию, – дать человечеству – fils de Dieux (у Пушкина: «Спасти наш род от вечной муки ада»). еревод наш – А.А.А сына божия
Гнев и досада Бога во французской библии («tu m’» – «ты меня разгневаешь, ») у Пушкина становится характеристикой раздосадованного Сатаны: «Лукавому великая ». excites раздосадуешь досада
В следующей строке стиха из Библии (Job, 2:4) Сатана выказывает свое понимание принципа Вечности (l’Éternel) – как благословения господня, которое Сатана, однако, понимает всего лишь как некую сделку («Peau pour peau!»): «Et Satan répondit à l’Éternel: Peau pour peau! tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie»; Job, 2:4 («И отвечал Сатàн пред Небесами: Жизнь за жизнь! Все, чем обладает человек, это Небеса дают ему для жизни»;.). перевод наш – А.А.А
Вечность заботится о человеке изначально. Это то, с чем человек рождается, – таково благословение человека Господом Богом. Эта мысль также ясно звучит и у Гёте, где мы узнаем, что Бог, как заботливый садовник о розах, заботится о душе Фауста:
И в Книге Иова темный дух Сатàн также хорошо понимает заботы Бога, но как дух мстительный, наделенный завистью и ревностью по отношению к другим «сынам божиим», он мыслит лишь категориями сделок («Peau pour peau!»). Он предлагает сделку самому Господу, чтобы проверить Иова, который, по словам Господа, пребывает в твердости веры («Il demeure ferme dans son intégrité»). Сатàн упрекает раба божиего Иова в корыстности его веры, замыслив ему испытание, обращаясь к богу с предложением сделки: «Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu’il te maudit en face»; Job, 2:5 («Но протяни руку твою, коснись его кости и плоти, и я уверен, что он проклянет тебя в лице твоем»;.). перевод наш – А.А.А
Ф. М. Достоевский, которому также принадлежит сцена Ивану Карамазову в романе «Братья Карамазовы», говорил о «Фаусте» Гёте: «„Фауст“ Гёте? – это только переживание книги Иова, прочтите книгу Иова – и вы найдете всё, что есть главного, ценного в Фаусте». Гёте действительно повторяет в «Фаусте» этот мотив сюжета Книги Иова – об испытании праведника Иова Сатàном и о заключении им пари с Богом. явления Черта
У самого Гёте Мефистофель также предлагает сделку Господу:
Бьюсь об заклад: он <Фауст> будет мой!
Прошу я только позволенья, —
Пойдёт немедля он за мной.
В Книге Иова Бог лукаво идет на подобную сделку. Он отдает Иова в руки демона Сатàна, но ставит злому и мстительному духу пределы его власти над человеком, – испытывая Иова, тот не может лишать праведника жизни, заботясь все же о его душе: «L’Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seulement, épargne sa vie»; Job, 2:6 («Ответ Вечности был Сатане: «Итак, я предоставляю его тебе, но только храни его жизнь»;.). Во всех испытаниях, предусмотренных Сатаной человеку, Бог предписывает ему, однако, хранить самое ценное – хранить живую душу Иова. Эту мысль из Книги Иова унаследовал также и Гёте, у него также – при всем коварстве Мефистофеля,тот различает человека с живой и мертвой душой: живой перевод наш – А.А.А
Котам нужна живая мышь,
Их мертвою не соблазнишь.
Пушкин, создавая свои сцены из Фауста, также передает эту мысль о живой и мертвой душе. В одной из сцен («Наброски», 1821), в которой он приводит своего Фауста на аудиенцию пред Вечностью (представленной у него божеством Смерти), Мефистофель и Смерть тоже рассуждают у Пушкина о душе Фауста: (1821)
Книга Иова дала драматическую завязку многих сюжетов мировой классики и составляет определенный реминисцентный слой и в произведениях Пушкина и Гёте, и впоследствии Булгакова – писателей, которые бесконечно варьируют в своем творчестве эту сцену, где человек и сатана предстают «пред господа».
Библия включила Книгу Иова в свой канон, тем самым показав, что откровение библейское есть откровение всечеловеческое. Все, что происходит с Иовом в библейской книге, – универсально, и в том или ином виде знакомо каждому человеку, живущему на земле, испытавшему земные страдания: «Et Satan se retira de devant la face de l’Éternel. Puis il frappa Job d’un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête; Job, 2:7 («И Сатàн удалился от лица Вечности. Потом он поразил Иова страшной язвой от самых подошв его до макушки головы»;.). перевод наш – А.А.А
Книга Иова – это шедевр, равный греческим трагедиям и диалогам Сократа и Платона. Здесь истина находит свое выражение еще убедительнее, чем в греческом самопознании. А диалоги и монологи обладают той же глубиной, какой на следующем этапе развития риторики обладают монологи Шекспира и Гёте. Книга исполнена гигантской космической образности и одновременно являет собой подобие «сократического диалога», в котором совершается искание истины, но не в холодных состязаниях ума, а перед лицом жизни и смерти, ибо это последний спор, и на чашу весов здесь брошена сама человеческая судьба.
Явление демона, наславшего чуму на человечество, мы видим у Пушкина в трагедии «Пир во время чумы», также сохранившей весь пафос монологов и диалогов страдающего Иова. Героя, подобного бедному Иову, мы найдем у Пушкина и в «Медном всаднике», – в образе его «безумца бедного» Евгения, пережившего катастрофу наводнения, в результате которой он потерял все, что имел в жизни, включая рассудок. Наконец, булгаковский Мастер, находясь в психолечебнице – после того, как все до последнего у него было отнято в этой жизни: и любовь, и дом, и сгоревший роман, – в своей исповеди Ивану Бездомному также сохраняет весь пафос монологов и диалогов страдающего Иова.
И. Гёте. «Фауст» (1808)«Пролог на небесах»«Гавриилиада» (1821)Пушкин А. С. «Гавриилиада» (1821)И. Гёте «Фауст» (1808)«Пролог на небесах» ( с Н. Холодковского) Пер. нем. И. Гете «Фауст» (1808)«Пролог на небесах» (. Пастернака) Пер с нем. РафаилДивятся ангелы господни,Окинув взором весь предел.Как в первый день, так и сегодняБезмерна слава божьих дел.Михаил.. мы, господь, благоговеемПред дивным промыслом твоим.Мы, ангелы твои господни,Окинув взором весь предел,Поем, как в первый день, сегодняХвалу величью божьих дел.И. Гёте «Фауст» (1808)«Пролог на небесах» ( Б. Пастернака) Пер. с нем. Сажая деревцо, садовник уже знает,Какой цветок и плод с него получит он.И. Гете «Фауст» (1808)«Пролог на небесах» ( Н. Холодковского) Пер. с нем. Смерть:– Зачем пожаловал сюда?Мефистофель:– Привел я гостя. – Ах, создатель!.. Смерть:Мефистофель:– Вот доктор Фауст, наш приятель. — – Живой! Смерть:– — Мефистофель: Он жив, да наш давноСегодня ль, завтра ль – все равно.– Об этом думают двояко; Смерть: Обычай требовал, однако,Соизволенья моего…А. С. Пушкин. «Наброски к замыслу о Фаусте» (1821)
Диалог Бога и Беса Мефистофеля в трагедии Гёте «Фауст»
Мефистофель:Угодно об заклад побиться?
Я выиграю вновь, лишь дайте мне вести
Тихонько Фауста по моему пути.
Господь:Я знаю: человек грешит, пока стремится,
Пока он на земле живет, во власть твою
Раба Господня отдаю.
И. В. Гете «Фауст. Пролог на небе» (1800) . Д. Мережковского) (Пер с нем.Так человечно думать и о черте…
И. В. Гёте «Фауст. Пролог на небе» (1800) ( Б. Пастернака) Пер. с нем. «Фауст» И. Гете«Пролог на небе» (1808) (. Б. Пастернака) Пер с нем.Мефистофель
Господь
Мефистофель
Господь
Мефистофель
Господь
Мефистофель
Господь
Мефистофель
Господь
Мефистофель
Господь
Мефистофель
Господь
Мефистофель (один)
«Фауст» И. Гёте«Пролог на небе» (1808) ( Н. Холодковского) Пер. с нем.Именно вслед за Сатàном из Книги Иова, в результате некого пари между Богом и Бесом темный дух Мефистофель у Гёте тоже отправляется на землю испытывать Фауста. А через сто с небольшим лет после создания образа Мефистофеля немецким классиком И. Гёте, Михаил Булгаков тоже отправляет своего героя – злого и мстительного духа Воланда, одного из князей царства Тьмы – «вестником» на землю, чтобы разделить или усугубить участь человека. И в Москве, куда прибывает «творить зло» Воланд у Булгакова в «Мастере и Маргарите», он также видит «там беспросветный мрак, //И человеку бедному так худо» – там зло уже заполонило весь город, проникнув во все его уголки.
Из диалога между Богом и бесом Мефистофелем в «Прологе на небесах» Гёте мы узнаем, что Бог заботится о душе Фауста. Явление темного злобного гения Мефистофеля – это именно промысел божий, его умысел, пожелавший сначала ввергнуть Фауста в заблуждения, а затем заставить выйти его из темноты к свету. Гёте отстаивает в своей драме высказанный в библейских притчах взгляд на страдания, которые не всегда следует рассматривать как кару, ибо часто они есть испытание, очищающее веру от своекорыстия. Снова после Книги Иова, у Гёте между силами Добра и Зла заключен спор, в котором Мефистофель (правнук Змея-искусителя и внук Сатàна) не сомневается в нем выиграть:
Мефистофель:
Уверен я в победе. Об одном
Прошу Тебя: великим торжеством
Ты не мешай мне вволю наслаждаться.
Заставлю доктора во прахе пресмыкаться,
Он будет прах глотать, как некогда змея,
Тысячелетняя прабабушка моя!
Намереваясь в дальнейшем проанализировать диалог из «Фауста» Гёте между Богом и Мефистофелем, духом отрицающим, приведем его здесь полностью:
К тебе попал я, боже, на прием,
Чтоб доложить о нашем положенье.
Вот почему я в обществе твоем
И всех, кто состоит тут в услуженье.
Но если б я произносил тирады,
Как ангелов высокопарный лик,
Тебя бы насмешил я до упаду,
Когда бы ты смеяться не отвык.
Я о планетах говорить стесняюсь,
Я расскажу, как люди бьются, маясь.
Божок вселенной, человек таков,
Каким и был он испокон веков.
Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
Его ты божьей искрой изнутри.
Он эту искру разумом зовет
И с этой искрой скот скотом живет.
Прошу простить, но по своим приемам
Он кажется каким-то насекомым.
Полу летя, полу скача,
Он свиристит, как саранча.
О, если б он сидел в траве покоса
И во все дрязги не совал бы носа!
И это все? Опять ты за свое?
Лишь жалобы да вечное нытье?
Так на земле все для тебя не так?
Да, господи, там беспросветный мрак,
И человеку бедному так худо,
Что даже я щажу его покуда.
Ты знаешь Фауста?
Он доктор?
Он мой раб.
Да, странно этот эскулап
Справляет вам повинность божью,
И чем он сыт, никто не знает тоже.
Он рвется в бой, и любит брать преграды,
И видит цель, манящую вдали,
И требует у неба звезд в награду
И лучших наслаждений у земли,
И век ему с душой не будет сладу,
К чему бы поиски ни привели.
Он служит мне, и это налицо,
И выбьется из мрака мне в угоду.
Когда садовник садит деревцо,
Плод наперед известен садоводу.
Поспоримте! Увидите воочью,
У вас я сумасброда отобью,
Немного взявши в выучку свою.
Но дайте мне на это полномочья.
Они тебе даны. Ты можешь гнать,
Пока он жив, его по всем уступам.
Кто ищет, вынужден блуждать.
Пристрастья не питая к трупам,
Спасибо должен вам сказать.
Мне ближе жизненные соки,
Румянец, розовые щеки.
Котам нужна живая мышь,
Их мертвою не соблазнишь.
Он отдан под твою опеку!
И, если можешь, низведи
В такую бездну человека,
Чтоб он тащился позади.
Ты проиграл наверняка.
Чутьем, по собственной охоте
Он вырвется из тупика.
Поспорим. Вот моя рука,
И скоро будем мы в расчете.
Вы торжество мое поймете,
Когда он, ползая в помете,
Жрать будет прах от башмака,
Как пресмыкается века
Змея, моя родная тетя.
Тогда ко мне являйся без стесненья.
Таким, как ты, я никогда не враг.
Из духов отрицанья ты всех мене
Бывал мне в тягость, плут и весельчак.
Из лени человек впадает в спячку.
Ступай, расшевели его застой,
Вертись пред ним, томи, и беспокой,
И раздражай его своей горячкой.
Небо закрывается.
Как речь его спокойна и мягка!
Мы ладим, отношений с ним не портя,
Прекрасная черта у старика
Так человечно думать и о черте.
Так зачем же Добру (в лице Создателя) нужно было отдавать в руки Зла (в лице беса) свой прекрасный образец «человека разумного», какими являются, например, Фауст и Маргарита у Гёте или Мастер и Маргарита у Булгакова? Уже с начала знакомства с «Прологом» Гёте к драме «Фауст» (как и с первых страниц булгаковского романа «Мастер и Маргарита»), читатель оказывается перед этим вопросом.
У Гёте Господь указывает Мефистофелю на Фауста как на образец верного использования разума человеком, а именно, – на благо познания, и уверяет, что Фауст преодолеет любые трудности на этом пути. Мефистофель, который глумится над человеком за то, что тот данную ему богом божественную искру использует на уровне сознания кузнечика, уверяет Господа, что данный людям разум ничему не служит: «Он эту искру разумом зовет /И с этой искрой скот скотом живет».
Как и у библейского автора Книги Иова, у Гёте, объяснение имеет классический христианский ответ: только с помощью испытаний и перенесенных страданий человеческая душа может обрести свою истинную сущность. Когда Иов загнан Сатаной в тупик, жена Иова уговаривает его произнести хулу на Творца и умереть от Его всемогущей руки, чтобы избавиться от позора и мучений. Но Иов отвечал: «Приемлем мы от Бога добро, ужели не приемлем зло?» (Иов, 2:10). Гёте также приоткрывает нам в «Фаусте» некое закулисье, показывая соотношение Добра и Зла в мире. Как и Бог Ягве в Книге Иова, который отдает судьбу Иова в распоряжение демона (ангела-скептика), чтобы показать безусловную верность праведника Иова, Фауст у Гёте отдан Господом Бесу Мефистофелю с напутствием творить над ним любые эксперименты, ведь «…чутьем, по собственной охоте //Он вырвется из тупика».
Так Гёте открыл еще одну партию извечной борьбы Света и Тьмы, Добра и Зла за душу человека, которую подхватывает и продолжает Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита». Но продолжая разыгрывать эту партию, Булгаков выводит одних своих героев к Свету, а других, осуждая, бросает в бездну. За что Булгаков осуждает, например своего героя Берлиоза? Может быть, это некая художественная месть другому Берлиозу – французскому композитору, который в своей оратории «Осуждение Фауста», в отличие от Гёте, не дал шансов спастись Фаусту, и тот, вместо того чтобы быть взятым на Небо, ввергается у композитора в темную Преисподнюю.
Спор Бога и дьявола в оратории «Осуждение Фауста»
композитора Гектора Берлиоза
Простите, может быть, впрочем, вы даже оперы «Фауст» не слыхали?
М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» (гл. 13)Диалог Бога и Мефистофеля в драме Гёте «Фауст» вдохновил не одного писателя и композитора на создание своих собственных произведений о Фаусте и его «приятеле» Мефистофеле. Как известно, Пушкин в 1821 году набросал несколько незаконченных , в одной из которых Фауст представлен Мефистофелем в аду божеству Смерти: «Вот доктор Фауст, мой приятель…». Неоконченные сцены Пушкина отголосками звучат и в русской литературе серебряного века. В романе В. Брюсова «Огненный ангел» мы снова услышим, как Мефистофелес представляет своего «друга», доктора Фауста, с которым он путешествует по миру: « это – и покровитель, человек достойнейший и ученейший, философии и медицины, исследователь элементов, Иоганн , имя, которое вы, быть может, слышали». Поэтическая и музыкальная судьба Фауста («Вот доктор Фауст, мой приятель…»). Вот мой друг доктор Фауст сцен из «Фауста»
В 1825 году Пушкин создает еще один шедевр – тоже Сцену из Фауста («Фауст и Мефистофель на берегу моря»), где Фауст, пользуясь неограниченной властью дьявола над миром, ввергает неугодное человечество в пучину потопа («Все утопить!»).
В 1828 году драма И. Гёте «Фауст» была переведена на французский язык. И тут же французский композитор Гектор Берлиоз, впечатлившись чтением произведения в переводе Нерваля, начинает создавать свою симфоническую ораторию « из „Фауста“ Гёте» (1828—1829), музыкальную интерпретацию картин и образов, навеянных ему трагедией Гёте. В композицию его произведения вошли восемь сцен: 1. Пасхальные песнопения. 2. Пение и танцы крестьян под липами. 3. Концерт сильфов. 4. Компания кутил, песня о крысе. 5. Песня Мефистофеля о блохе. 6. Фульский король: готическая песня. 7. Романс Маргариты, хор солдат. 8. Серенада Мефистофеля. Прощение Маргариты и осуждение Фауста. Музыкальная концепция французского композитора Гектора Берлиоза. Восемь сцен
Каждая из сцен композитора Берлиоза предварена словесным эпиграфом из пьес Шекспира: «Гамлет» (сцены 1, 4, 5, 6, 8) и «Ромео и Джульетта» (сцены 2, 3, 7). Позднее композитор Берлиоз включил эти «» вместе с новыми сценами («Воззвание к природе», «На земле», фрагмент Эпилога с хором демонов и осужденных, смерть Фауста и апофеоз Маргариты) в свою музыкально-драматическую ораторию «Осуждение Фауста» («La damnation de Faust» (1845—1846). Восемь сцен
Все разделы партитуры «Осуждения Фауста», куда позднее вошли новые сцены (это сцены из Второй части трагедии Гёте, написанные им гораздо позднее), помещены в узловые точки развития музыкально-драматического действия «сцен из Фауста». Гектор Берлиоз утверждал своей музыкой (особенно в «Апофеозе Маргариты») веру и бессмертие души Маргариты (Гретхен), спасенной любовью. Безусловно, что композитор делал некоторые отступления от структуры литературного первоисточника и от замысла Гёте в целом: душа Фауста не возносится у него, как у Гёте, спасенная ангелами. , отсюда и название его оратории: «Осуждение Фауста». Трагедия гибели Фауста становится здесь некой страшной тайной, сокрытой в безднах ада. Бог осуждает у Берлиоза Фауста на забвение в безднах ада
В «Мастере и Маргарите» Булгакова с именем Берлиоза, как известно, связана история редактора журнала Михаила Берлиоза, советского писателя-атеиста, публиковавшего в журнале антиклерикальные произведения. Образ редактора и руководителя московского литературного объединения МОССОЛИТ – образ сниженный у Булгакова. Однако, его Берлиоз (как и Фауст у композитора Гектора Берлиоза), подвержен загадочной, почти мистической смерти – с лишением головы. Приоткрывая тайну послесмертия своего героя – редактора Берлиоза, Булгаков показывает его в аду среди других душ, обреченных на фантастические муки. Берлиоз осужден, как мы сказали, на вечное небытие. Его голова, которая все время фигурирует в мистической фабуле романа, в сцене адского ритуала превращается в символический кубок – чашу пролитой крови другого осужденного грешника, которая затем трансформируется в ритуальное вино. Приговор Булгакова своему Берлиозу довольно жестокий. Как все низкое и бездушное, его жизнь удостоена лишь смерти (с ее темным мистическим подтекстом) – Берлиоз Булгакова, как и Фауст Г. Берлиоза, обрекается автором на вечное . И есть за что – Берлиоз Булгакова своими редакторскими амбициями отправляет в небытие самого Христа («Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете», – заявляет он). И тогда Воланд, дух Зла, отправляет в небытие самого Берлиоза: «Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие». «А вы уходите в небытие». небытие
По замыслу композитора Гектора Берлиоза сама гибель Фауста и сфера его осуждения противоположны сфере христианского мира, но, в то же время, в его музыкальной оратории они структурно уравновешены, как и в романе Булгакова, где прослеживается линия евангелия и антиевангелия. Как и духовная сфера романа Булгакова, музыкальная драматургия французского композитора Берлиоза тоже была связана, в первую очередь, с богоискательством и провозглашением веры. Известно также, что кроме «Осуждения Фауста», драматической легенды в 4-х частях с апофеозом (Ор. 24; 1845—1846), Гектором Берлиозом была написана также ораториальная трилогия «Детство Христа» (Ор. 25, 1853—1854).
Фамилия композитора Берлиоза (автора музыкального «Фауста») была выбрана Булгаковым явно не случайно для своего героя – редактора атеистического журнала. Так Булгаков методом от противного – через загадочную смерть своего Берлиоза, героя явно сниженного – заявляет о противопоставлении им веры и неверия. В канун Пасхи, которая в советском государстве не имела традиций празднования и была заменена майской демонстрацией (своеобразный дериват карнавала), Михаил Берлиоз печатает в своем журнале богоборческую и разоблачительную чем провозглашает отсутствие всякой веры и жизни души после смерти. Сниженное, почти буффонное упоминание Булгаковым в этой связи высокого имени композитора Берлиоза, утверждавшего своей музыкой веру и бессмертие души Маргариты, служит у автора романа «Мастер и Маргарита», конечно же, приемом нарочитого противопоставления высокого и духовного низкому и бездушному. «Два Берлиоза» в поэтике романа Булгакова («…вы даже оперы «Фауст» не слыхали?»). поэму о Христе,
Поводом использовать имя великого композитора стал, очевидно, тот факт, что идейный замысел романа самого Булгакова поразительно совпадал с замыслом композитора Гектора Берлиоза в его музыкально-драматической легенде «Осуждение Фауста» (1828 -1846). Во-первых, идейные оппозиции (вера/неверие) выявились у французского композитора также как и в романе Булгакова, во взаимосвязи и противопоставлении образов – Фауст, Маргарита и Мефистофель. Подобную художественную идею Булгаков реализует ровно через сто лет (1928) после французского композитора – и также во взаимосвязи своих образов – Мастер, Маргарита и Воланд.
Прием Булгакова – «упоминание всуе» великих имен – относит нас в то же время к поэтике Гоголя, который использовал этот прием еще в «Невском проспекте», дав великие имена Шиллера и Гофмана своим тривиальным героям – жестянщику и сапожнику (с Невского проспекта). С именем Берлиоза Булгаков словно вводит в свой роман реминисценцию из Гоголя, в которой теперь его герои (с Патриарших прудов) «упоминают всуе» имена Шиллера и Штрауса. В этом же контексте звучит у Булгакова и великое имя Берлиоза, резко оттеняющее и противопоставляющее его низкого героя (редактора Берлиоза) пафосу его великого имени. В этом приеме проявилось и все отношение самого автора Булгакова к своему герою.
В поэтике романа Булгакова все время возникает элемент двойничества (например, одна из глав романа так и называется «Два Ивана»). Также и аллюзивно присутствуют в художественном поле романа. Если (композитор, незримо присутствующий в романе), тот, что выстраивая христианское содержание своей вокально-симфонической оратории, утверждал веру (вспомним его «Пасхальный гимн» в части II, литанию крестьян в части IV, эпизод «На небе» из Эпилога); то своими цензурными купюрами разрушал все христианское содержание написанной поэтом Иваном Бездомным (читай: Иваном-«безбожником»). два Берлиоза один Берлиоз второй Берлиоз Поэмы о Христе