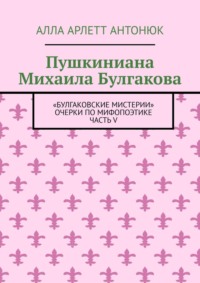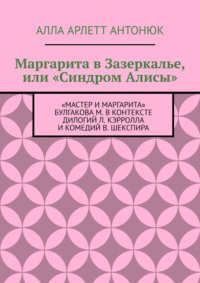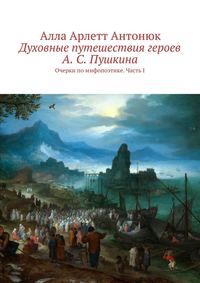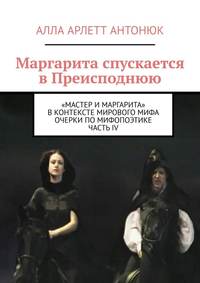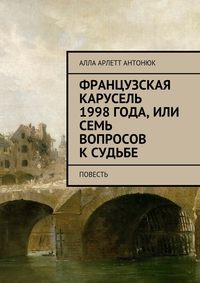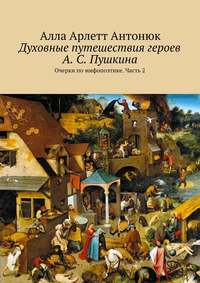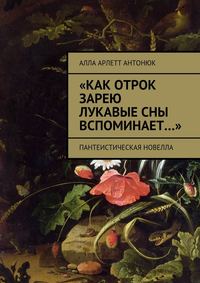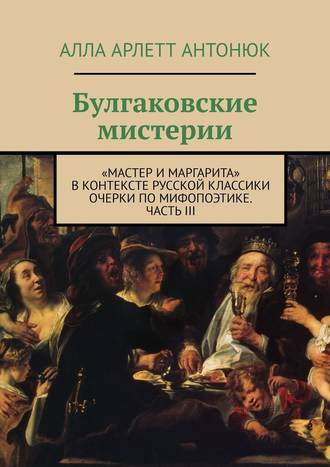
Полная версия
Булгаковские мистерии. «Мастер и Маргарита» в контексте русской классики Очерки по мифопоэтике. Часть III
Иван:
– Есть бог или нет?
Черт:
– А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей-богу не знаю, вот великое слово сказал.
Иван:
– Не знаешь, а бога видишь? Нет, ты не сам по себе, ты – я, ты есть я и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!
Черт:
– То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis, это я знаю наверно, остальное же все, что кругом меня, все , существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего довременно и единолично» эти миры, бог и даже сам сатана, – все это для меня не доказано (гл. 9).
Здесь диалог между Чертом и Иваном Карамазовым вдруг превращается в монолог. Тут Черт вдруг начинает произносить как бы внутренний монолог самого Ивана Карамазова, который обращен к нему же – к Черту, монолог из которого можно заключить, что Иван Федорович осознает, что они с Чертом одной философии и что Иван – последовательное развитие его «я», существующего довременно, и что он, Иван, – его эманация.
Черт:
«– Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился.
Иван:
– Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты есь.
Черт:
– Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия – это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что . . Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле». лучше повеситься Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав этот анекдот
По законам жанра вопрос о существовании Бога всегда будет сбиваться, собственно, на вопрос о существовании дьявола, ибо в жанре все от противного и все «вверх тормашки». евангелия от сатаны евангелия от сатаны
Люди, возомнившие себя богами, и бог, снизошедший до людей, – такая постановка вопроса – совсем по-достоевскому – звучит, как ни странно, у Толстого в «Анне Карениной» в его сцене, которая происходит в мастерской художника Михайлова (часть 5; XI), где поднят одновременно вопрос В диалоге между мастером Михайловым и Голенищевым (который выступает здесь как критик), последний задает художнику вопрос: «А при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос: Бог это или не Бог?» И сам же отвечает на свой вопрос применительно к картине художника Михайлова «Увещание Пилатом»: «Если вы позволите сделать это замечание… <…> Это то, что Он у вас человекобог, а не богочеловек. Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели» («Анна Каренина» 5:XI). Человекобог и богочеловек. Две ипостаси Иешуа. веры и неверия.
В продолжение этого диалога у Толстого художник Михайлов объясняет Голенищеву свое видение образа Христа: «Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе, – сказал Михайлов мрачно. – Да, но в таком случае, если вы позволите сказать свою мысль… Картина ваша так хороша, что мое замечание не может повредить ей, и потом это мое личное мнение. У вас это другое. Самый мотив другой. Но возьмем хоть Иванова. Я полагаю, что если Христос сведен на степень исторического лица, то лучше было бы Иванову и избрать другую историческую тему, свежую, не тронутую.
– Но если это ? величайшая тема, которая представляется искусству
– Если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассужденийА при картине Иванова для верующего и для неверующего является вопрос: Бог это или не Бог?и разрушает единство впечатления. .
– Почему же? Мне кажется, что для образованных людей, – сказал Михайлов, – спора уже не может существовать. Голенищев не согласился с этим и, держась своей первой мысли о единстве впечатления, нужного для искусства, разбил Михайлова. Михайлов волновался, но не умел ничего сказать в защиту своей мысли» («Анна Каренина» 5:XI).
Вообще писать роман или картину о Богочеловеке невозможно. Интерес художника Михайлова как автора не в изображении Богочеловека, а в поиске человеческого в Сыне Божием. Это же можно сказать и о поисках булгаковского Мастера в своем романе о Понтии Пилате, а скорее романе о мессии (об этом отмечалось такими исследователями, как Г. Эльбаум и В. Лакшин). И Мастер у Булгакова размышлял о моральном выборе, об ответственности за слова и поступки, о человеке, о бессмертной душе человека и его предназначении, в том числе, и о самом совершенном человеке, которого и опознать-то никто не смог. Иешуа у Булгакова – человек, а не Сын Божий; он одинок (нет родителей, нет учеников и последователей); его Истина от мира сего, он проповедует веру в добрую волю человека. Но с другой стороны, делая Иешуа простым человеком, Мастер (а вместе с ним и Булгаков) усиливает мысль о способности человека достичь нравственного совершенства. Роман наполнен намеками, хотя Булгаков прямо не пишет о том, кто стоит на балконе дворца Ирода Великого, но это становится понятным «проницательному читателю» (очевидно, сам Воланд). Булгаков не пишет, кто стоит на галерке в театре Варьете и наблюдает сверху происходящую «человеческую комедию», которую разыгрывает на сцене дьявол Воланд (очевидно, это сам Бог с высоты «галерки» бросает реплику о том, чтобы вернуть оторванную голову на место).
Булгаковский человекобог Иешуа в «Мастере и Маргарите» пребывает в двух ипостасях: как реальный образ земного человека, очутившегося в необычных житейских обстоятельствах, и как эманация трансцендентного образа богочеловека – символ идеального вневременного бытия, соответствующий евангельскому сказанию. Булгаков развивает образ Иешуа от одной «ершалаимской» главы Мастера к другой постепенно – от простого человека до образа божества «света»: сначала в предчувствиях Пилата, потом в его же «лунном сне», потом во всей окраске разговора Пилата с Левием Матвеем, где его именуют «Тот». И, наконец, в финале романа Иешуа окончательно показан как Владыка «света». И здесь Булгаков в согласии и с Толстым и Достоевским, и Пушкиным, которые под совершенством подразумевали высшую мораль, противопоставленную у них западному идеалу сильной личности, нашедшей затем в новое время свое развитие в «сверхчеловеке» у Ницше. Рисуя своего Духа Зла, Булгаков не только прорисовывает демонический облик Воланда, но в этом образе мелькают у него также и проблески наполеонизма – через некоторые аллюзии, связанные с изображением Наполеона у Пушкина.
Не случайно в «Мастере и Маргарите» присутствует сцена перед «отступлением» Воланда («Сейчас придет гроза, …, и мы тронемся в путь»; ), в которой тот наблюдает пожар в Москве с крыши старинного московского особняка: «На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев… Воланд не отрываясь смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг <…>: – А отчего этот дым там, на бульваре? – Это горит Грибоедов, – ответил Азазелло» ). Воланд и (). Москва – третий Рим («…был и у Пилата, и на завтраке у Канта, а теперь он навестил Москву»). комплекс демиурга наполеонизма гл. 29 (гл. 29
В этой сцене Булгакова можно обнаружить ретроспективное звучание темы Москвы как столицы, испытавшей нашествие с Запада: «Эта , накрыла громадный город». А образ Воланда сливается здесь с образом Наполеона перед отступлением из горящей Москвы, данный Булгаковым через призму его изображения Пушкиным в лирическом отступлении в «Евгении Онегине»: «Вот, окружен своей дубравой, Петровский замок. Мрачно он Недавнею гордится славой. <…> Отселе, в думу погружен, Глядел на грозный пламень он <Наполеон> ” («Евгений Онегин»; 5:XXXVII). тьма, пришедшая с запада
В сцене Булгакова перед нами скорее именно Петровский замок с его округлой башней посреди террасы («…оба гаера …скрылись где-то за круглой центральной башней, расположенной в середине террасы»; ). Булгаковская сцена прощания Воланда с Москвой действительно скорее ассоциируется с ретроспективной пушкинской сценой бегства Наполеона из Москвы в «Евгении Онегине». И Воланд Булгакова тоже находится в подобной ситуации, которую пушкинский герой в лирическом отступлении передает как конец триумфа зла: гл. 29
Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок… (7:XXXVIII).
Петровский замок в эпизоде Булгакова тоже является свидетелем (славы падшего ангела)Воланд, конечно, не осознает себя проигравшим в сражении добра и зла, он, «желая злая», тем «совершает благо», как известно, в некотором роде считая даже себя победителем. То грозовое облако, которое принесло нашествие бесов в Москву, это же облако и уносит их обратно на запад: «Гроза, о которой говорил Воланд, уже скоплялась на горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно. Эта , накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим во мгле» падшей славы . тьма, пришедшая с запада (гл. 29).
Подобную сцену, в которой черная туча накрыла Москву, мы видели также у Булгакова и в созданном Мастером. Та же самая туча накрыла и там священный город Ершалаим (Иерусалим). Параллелизм в описании сцен грозы как аллюзии конца мира относит нас на другой противоположный полюс мира, но история и там повторяется. романе о Понтии Пилате,
Когда Воланд говорит о Москве: «Какой интересный город, не правда ли?», Азазелло отвечает почтительно: «Мессир, мне больше нравится Рим!» По этой реплике Азазелло мы можем себе представить, откуда, возможно, происхождение такого персонажа как Азазелло – в нем явно просвечивают итальянские корни. Само же замечание дает желание повнимательнее присмотреться к свите Воланда и поговорить о сути этих «фантастических» персонажей не только у Булгакова, но и у Пушкина и Достоевского. (гл. 29).
Эвфемизмы черта
Таинственный визитер
…какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
А. С. Пушкин«Демон» (1823)«Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной».
М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» (гл. 13)(.Итак, центр мироздания в таком повествовании как смещается в сторону дьявола. Он возникает там, где границы жизни и смерти становятся преодолимыми. Тогда возникает он – герой, неизвестно откуда появляющийся как некий «незнакомец», «иностранец», «гость», «таинственный визитер», «гастролер». Крайнее воплощение смерти и зла, он может явиться под любой маской, в том числе и веселой, двойником любого персонажа из мира людей. Явление «маски», «двойника» и «двойничества» всегда возникает в художественном мире произведения там, где ослабевают границы миров. В романе Брюсова дьявол Мефистофелес в своих речах Фаусту лукаво трактует библейское (Моисеево) понимание человека как «подобие божие», подменяя его своим – как «изображение божие», то есть, маски: «…мы все изображаем что-нибудь: я – чародея, вы – ученого, которому ничто не мило. Всякий человек, согласно с Моисеем, только изображение божие» (В. Брюсов «Огненный ангел»; ) Дьявол и свита
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.