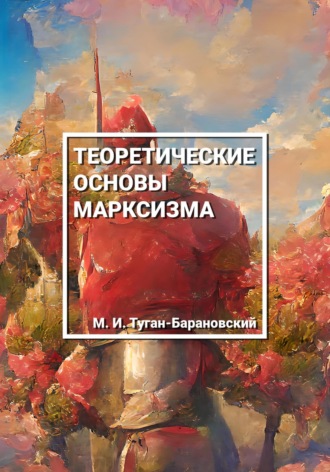
Полная версия
Теоретические основы марксизма
Итак, одежда возникла из стремления человека к самоукрашению и первоначально играла такую же роль, какую теперь играют знаки отличия. Само собою разумеется, что пристрастие дикарей ко всякого рода предметам украшения объясняется не сильным развитием среди них эстетического чувства, а побудительными мотивами совершенно другого порядка. Все наблюдатели говорят о чрезвычайном тщеславии дикаря. Самоукрашение является для него лучшим средством удовлетворить этому тщеславию. Одежды из шкур и мехов являются у многих народов признаком вождей и вообще лиц господствующего класса. Следовательно, «политика» играла, по-видимому, едва ли не самую важную роль в происхождении одежды. Политика и, до известной степени, религия. По словам Липперта, «многие первоначальные роды украшения связаны так тесно с религиозным культом, что совершенно невозможно установить, в какой мере они вызваны самим культом и в какой страстью к украшениям»50.
Производство предметов пищи также подверглось в своем историческом развитии влиянию совершенно иных потребностей, чем потребность в питании. Переход к скотоводству является чрезвычайно важной ступенью в истории хозяйства. Между тем не подлежит сомнению, что приручение животных, откуда возникло скотоводство, произошло вне влияния хозяйственных мотивов. «Поппиг называет южноамериканских индейцев мастерами в деле приручения животных, но указывает на то, что прирученными животными индейцев являются обезьяны, попугаи и другие, служащие для забавы. Их хижины полны такими животными. Вообще, можно думать, что естественное чувство общительности человека играло, при начале приручения животных, большую роль, чем какое бы то ни было соображение хозяйственной пользы; соображения последнего рода возникли гораздо позже. Человек, стоящий на низших ступенях культуры, вообще делает то, что его забавляет, и думает о пользе лишь под давлением крайней необходимости»51. По мнению Моргана. «началом приручения животных явилось, вероятно, приручение собаки как спутника при охоте, причем затем последовало воспитание детенышей других животных просто для забавы»52. «Нельзя проследить происхождения склонности человека держать с собой животных, – замечает Липперт, – Она смешивается в своих первых начатках с детскою любовью к играм; так и теперь охотник часто приносит домой детям молодую лисицу просто для того, чтобы дать им товарища в игры»53.
Таким образом, любовь к игре, по-видимому, всего боле содействовала приручению животных. Известное влияние в том же направлении оказали и потребности религиозного культа. Собака, самое древнее домашнее животное, признавалась и признается многими народами священным животным. Многие другие животные служили также предметом религиозного культа и воспитывались в качестве таковых. Наконец, тщеславие и стремление к господству над себе подобными были, без сомнения, весьма сильными побудительными мотивами к приручению животных; вожди многих диких народов придерживаются до настоящего времени обычая держать при себе прирученных львов, леопардов, волков и других опасных животных – появление прирученного опасного хищника рядом с вождем должно было увеличивать обаяние силы и власти вождя.
Итак, мотивы и интересы отнюдь не хозяйственного рода оказали самое глубокое влияние на развитие хозяйства. Такие мало настоятельные потребности, как потребности в знаках отличия и предметах украшения, непосредственно вызвали чрезвычайно важные отрасли хозяйственного производства. Вопреки Энгельсу, люди часто предпочитали полезному бесполезное: приручение животных возникло не вследствие хозяйственной выгодности такового, а из стремления человека иметь товарища в играх. Конечно, очень неблагоразумно думать о пустяках, когда не хватает необходимого. Но люди (особенно первобытные) именно такие неблагоразумные существа, и этого никогда не следует упускать из виду, чтобы правильно понимать совершенно иррациональный ход всемирной истории.
Всем этим я, конечно, не хочу сказать, чтобы производство средств к жизни не являлось основанием общественной жизни. Жизнь первобытного человека посвящена главным образом добыче пищи. Борьба за существование, играющая, согласно современным воззрениям, столь выдающуюся роль в истории развития организмов, есть прежде всего борьба из-за пищи. Правда, жизнь самого первобытного человека гораздо богаче содержанием, чем жизнь животного, и далеко не ограничивается заботой о самосохранении. Однако непосредственное поддержание жизни является главным содержанием деятельности не только первобытного человека, но и массы цивилизованного человечества, и притом тем в большей степени, чем ниже производительность труда. «До изобретения орудий и приготовления огня добыча пищи и последующий отдых должны были попеременно наполнять все время человека»54. «Охотничья добыча наиболее примитивных племен, – говорит Гроссе, – в общем так скудна, что не может обеспечить их от самой крайней нужды. Бушмены и австралийцы буквально голодают. Воители Огненной Земли также живут в крайней скудости. А в рассказах эскимосов голод играет такую большую роль, что легко понять, какое ужасное значение он имеет в их жизни»55. Недостаток средств к пропитанию определяет собой весь строй жизни примитивных народов, живущих в менее благоприятных естественных условиях. Они не могут образовывать значительных сообществ, так как только небольшие группы их могут найти достаточно пищи, должны вести бродячую жизнь, так как продолжительное пребывание на одном месте повело бы к истощению естественных запасов пищи и т. д. Только народ, избавленный от голодания, может принимать участие в мировой культуре: известный уровень производительности труда есть, следовательно, предварительное условие цивилизации.
Условия производства пищи и вообще необходимых средств к жизни могут, следовательно, стать решающим фактором социальной жизни, а именно в том случае, когда данная общественная группа страдает недостатком этих средств. Но если людям не угрожает опасность голода, то в них пробуждаются разнообразные потребности, не имеющие ничего общего с потребностью питания и оказывающие, как мы видели, самое существенное влияние на развитие «производства непосредственной жизни».
IIРядом с голодом в человеческой природе заложено другое могучее влечение, не менее необходимое для сохранения рода – половое влечение. Голод и любовь – вот две силы, которыми, по известным словам Шиллера, природа поддерживает мир. Чрезвычайно характерно для склонности Маркса и Энгельса к естественнонаучным объяснениям истории, что они уступили искушению признать и эту вторую чисто, физиологическую потребность человека решающим фактором исторического развития. Это преобразование исторического материализма было совершено, как известно, Энгельсом в его книги о происхождении семьи.
Искусителем явился американец Морган. В своем знаменитом произведении «Первобытное общество» Морган сделал смелую попытку установить общие законы развития семьи во всем мире. Исходя из убеждения в единстве происхождения человеческого рода, он утверждал, что фазы развития семьи одинаковы у всех народов мира, как бы ни были различны условия жизни каждого из них56. Всюду находил он одни и те же формы семьи, исторически сменявшие друг друга в одной и той же неизменной последовательности.
Попытку Моргана нужно признать в настоящее время решительно неудавшейся. Новейшие этнологические наблюдения с очевидностью доказали несостоятельность всей эволюционной схемы Моргана, отправным пунктом которой является «семья кровных родственников», хотя реальность этой формы семьи, по признанию самого Моргана, «должна быть установлена другими данными, чем непосредственным указанием на существование ее у какого-либо народа»57. Точнее говоря, эта форма семьи существовала только в фантазии автора «Первобытного общества». Затем в схеме Моргана следуют другие формы семьи, найденные им у самых различных народов, и все вместе вытягивается им в прямолинейный ряд, образующий, по мнению смелого автора, неизбежный закон развития семьи во всем мире.
Поистине удивительно, каким образом вся эта конструкция, совершенно висящая в воздухе, соблазнила Маркса и Энгельса отказаться от основной идеи их историко-философской системы! Но как не признать таким отказом, например, следующее заявление Энгельса в предисловии к его книге о происхождении семьи: «Общественные учреждения людей известной исторической эпохи и известной страны определяются двумя родами производства: ступенью развития, с одной стороны, труда, с другой – семьи. Чем меньше развит труд, чем ограниченнее количество его продуктов, а следовательно, и общественное богатство, тем в большей мере общественный строй определяется половыми узами»58. Итак, не один момент – материальные факторы хозяйства, – но два особых и совершенно независящих друг от друга момента управляют общественной жизнью.
Действительно ли, однако, соображения Моргана так неотразимы, что ради них необходимо столь радикально изменить доктрину исторического материализма? Конечно, нет. Более того, если в какой-либо области социальной жизни экономические условия играют решающую роль, то это именно в области семьи.
«Вера в теорию Моргана, – замечает с полным основанием один из лучших современных знатоков истории семьи – Гроссе, – теряла почву по мере того, как возрастало знакомство с фактами этнологии»59. Так, автор «Первобытного общества» признавал матриархат первоначальной семейной организацией, задолго предшествовавшей патриархату. Это оказалось совершенной ошибкой: более полное и точное наблюдение семейных отношений у наиболее примитивных народов обнаружило, что патриархальная семья является у них правилом. Женщина у низших народностей есть в полном смысле слова собственность и раба, вьючное животное мужчины, который свободно располагает жизнью ее и детей60. Величайшей ошибкой Моргана была, однако, его основная идея – вера в сходство, даже тождественность развития семьи у всех народов. Действительные факты совершенно опровергают эту веру. Не существует и не может существовать общего закона развития семьи, так как формы семьи определяются условиями жизни каждого народа, которые весьма различны. Семья не образует собой социального явления, независимого от других социальных моментов, но находится с ними в самом тесном взаимодействии, благодаря чему никаких особых законов развития семьи быть не может.
Так, например, существование у некоторых народов матриархата объясняется экономическими условиями их жизни. Матриархат есть сравнительно позднее явление и наблюдается только среди земледельческих народов. У охотничьих племен власть в семье принадлежит мужчине; наибольшего развития патриархат достигает у пастушеских народов. Ведь эти различия характера семьи объясняются различиями экономических условий существования каждого народа: охота и скотоводство представляют собой занятия мужчины, между тем как земледелие развилось из собирания зерен растений, что было первоначально всецело женским занятием. Поэтому у самых примитивных земледельческих народов земля нередко признается собственностью женщин, и на основе экономического господства женщины совершенно естественно возникло ее господство в семье и племени.
Поэтому неудивительно, что отказ Маркса и Энгельса от их собственной историко-философской доктрины в пользу теории Моргана встретил сочувствие далеко не у всех марксистов. Кунов, среди марксистов, бесспорно, лучший знаток условий жизни первобытных народов, объясняет развитие семьи условиями хозяйства. На той же точки зрения стоит Гроссе, не принадлежащий к числу сторонников материалистического понимания истории, что придает его мнению в данном случае еще больший вес. После всестороннего исследования форм семьи у различных народов он приходит к заключению, «что при каждой форме культуры господствует такая форма семейной организации, которая соответствует данным отношениям и потребностям хозяйства»61.
Итак, нет никаких основавший признавать развитие семьи самостоятельным социальным процессом, находящимся вне влияния экономических условий. Половое чувство так же необходимо для поддержания рода, как и чувство самосохранения индивида; но значение обоих чувств как факторов социального развития глубоко различно. Стремление к улучшению хозяйственных условий существования толкает человечество все вперед, вызывает его на неустанную борьбу с природой, так как каждая достигнутая ступень развития хозяйства указывает человечеству на новые цели, является основанием для новых усилий, а половое чувство имеет консервативный характер и легко достигает удовлетворения. Между тем как в области хозяйства движение человечества представляет собой поступательную линию, уходящую почти в бесконечность, в области половой любви человечество вращается почти вокруг. Формы семьи некоторых примитивных народцев мало отличаются от семейных форм цивилизованных наций нашего времени. По отношению к положению женщины в семье мы со всей нашей цивилизацией мало ушли вперед, а может быть, находимся и позади, сравнительно с ирокезами, которых так превосходно описал Морган. Это показывает, быть может, всего нагляднее, какую незначительную роль в социальном прогрессе играет момент половой любви и как ошибочно видеть в «любви» социальный фактор, равносильный «голоду».
IIIСуществование в человеческой природе особых симпатических чувств, не сводимых ни к каким иным, не может подлежать сомнению. Чувства эти, по-видимому, двоякого происхождения. С одной стороны, они развились на основе одного из сильнейших человеческих чувств – материнской любви и вообще любви родителей к детям. Что касается этого чувства, то оно так же стихийно и первоначально, как и чувство самосохранения или половой инстинкт. Среди многих животных видов мы встречаем примеры сильнейшей материнской любви, в то время как у других видов не замечается никакой заботы родителей о своем потомстве. Эти различия всего лучше объясняются действием естественного отбора: если для сохранения вида необходимо охранение родителями потомства, то родители (обыкновенно мать) заботятся о своих детенышах, если же нет, то родители остаются к ним совершенно равнодушны. Последнее замечается у тех животных видов, которые кладут массу яиц, достаточно обеспечивающую своим количеством сохранение вида.
Новорожденный человек нуждается в материнском уходе в гораздо большей степени, чем какое-либо другое животное. Без материнской любви человеческий род не мог бы существовать, что и объясняет силу этого чувства в душе человека. На этой почве возникают чувства симпатии между членами семьи.
Другим корнем симпатических чувств, соединяющих в одно целое не только кровных родственников, но и совершенно чуждых людей, является столь же стихийный, как и материнская любовь, общественный инстинкт человека. Как и материнская любовь, этот инстинкт свойственен не только человеку, но и многим животным. Некоторые животные виды живут только группами, между тем как другие не обнаруживают к этому никакой склонности, что опять-таки естественнее всего объясняется условиями борьбы за существование. Крупные хищники, как львы и тигры, не принадлежат к числу общественных животных, и это понятно, так как их добыча рассеяна на большом пространстве: стадо львов или тигров обречено было бы на гибель от голода. Напротив, дикие ослы, быки, антилопы живут большими стадами, обнаруживая при этом чрезвычайную потребность в обществе себе подобных: зависит это от того, что от недостатка пищи стадо травоядных не страдает, а между тем соединение в стадо уменьшает для травоядных опасность нападения хищников, облегчает защиту от них и бегство. Одинокая антилопа неминуемо должна была бы погибнуть, потому в ней так и развит общественный инстинкт62.
Общественный инстинкт слагается, по мнению Грооса, из двух более элементарных: из инстинктивного стремления к приближению к себе подобным и из стремления издавать звуки призыва и предупреждения и отвечать на них63. Эти более простые инстинкты свойственны всем общественным животным, к числу которых принадлежит и человек. Мы не знаем ни одного человеческого племени, которое не жило бы более или менее значительными группами. Сила общественного инстинкта человека доказывается тяжелыми страданиями, которые причиняет человеку принудительное изолирование его от общества себе подобных (например, в одиночном заключении).
Инстинктивная любовь кровных родственников и общественный инстинкт людей представляют собой важнейшую психологическую основу человеческого общества. Симпатические чувства и взаимная любовь, которую Конт назвал в противоположность эгоизму альтруизмом, естественно развиваются между людьми, принадлежащими к одному и тому же обществу. Наличность в человеческой природе альтруистических чувств есть факт безопорный. Вопрос только в том, достигают ли эти чувства в современных людях такого развития, чтобы их можно было признавать крупной социальной силой.
Один современный социолог – Бенджамин Кидд – сделал попытку доказать именно это. По его мнению, общественный прогресс нашего времени выражается в чрезвычайном распространении в широких общественных слоях и, в частности, в господствующих классах интенсивного чувства гуманности и жалости к страданиям другого64. К этому заключению Кидд пришел на основании оригинальных социологических соображений, отправным пунктом которых является положение, что не интеллектуальная одаренность, но моральная сила обеспечивает народу победу в борьбе за существование.
С последним можно согласиться. Но Кидд глубоко заблуждается относительно характера моральных свойств, необходимых народу для победы над соперниками. Пока война не исчезла с мировой арены, до тех пор естественный отбор не может укреплять в людях альтруистические чувства. Жестокость и невосприимчивость к чужим страданиям являются необходимыми свойствами хорошего солдата. Кидд очень высокого мнения о национальном характере англосаксов и видит в последнем главную причину промышленных и политических успехов англичан и американцев. Если это и так, то, конечно, только наше национальное самоослепление внушило английскому социологу мысль, что преимущества англосаксов перед всеми другими заключаются в исключительном развитии у них альтруистических чувств. Не альтруизм, но упорство и энергия в преследовании своих, по большей части, совершенно эгоистических целей, мужество и настойчивость, с какими преодолеваются препятствия, – вот что обеспечило англосаксами победу над соперниками. Что же касается рассуждений Кидда о горячей любви к ближним капиталистов и вообще лиц господствующих классов, то рассуждения эти слишком наивны, чтобы нуждаться в опровержении.
Именно условия борьбы за существование в современном обществе объясняют нам, почему альтруистические чувства имеют пока такое слабое развитие. «Как бы это ни казалось странным, – говорит Спенсер, – но следует признать, что усиление гуманных чувств не идет шаг за шагом по следам цивилизации, но, что, напротив, первые ступени цивилизации неизбежно обусловливают относительную бесчеловечность. Среди племен первобытных людей, самые грубые, скорее, чем самые добрые, успевали в той борьбе, которая имела результатом объединение и отвердение обществ; и в течение многих последующих стадий общественной эволюции бессовестные давления на общество извне и жестокие внутренние насилия долгое время были обычными спутниками политического развития. Люди, соперничество которых образовало наилучше организованные общества, были вначале, да и долгое время потом не что иное, как дикари, но более других сильные и хитрые. И даже теперь, если они освобождаются от влияний, которые по наружности изменили их поведение, они оказываются немногим лучше»65.
Так как политическая организация слагалась под влиянием войн, то естественно, что именно наиболее воинственные, т. е. наиболее кровожадные и жестокие народности достигли цивилизации. И теперь существует немало первобытных племен, отличающихся удивительной мягкостью нравов и далеко превосходящих в этом отношении цивилизованные расы; но характерно, что ведь эти племена почти лишены политической организации66.
Современный капиталистический строй столь же мало благоприятствует развитию альтруистических чувств, как и военная организация общества прежнего времени. Нравы теперь не так грубы, убийство и другие формы физического насилия внушают больше отвращения и признаются допустимыми только в исключительных случаях, например, во время войн, которые стали реже и мене продолжительны. Мы, несомненно, не так жестоки, как наши кровожадные предки. Но капиталистический строй не является благодатной почвой для широкого развития альтруизма. Насилие приняло теперь более мягкие формы, но отнюдь не прекратилось; капиталистическое хозяйство, как и рабское, и феодальное, покоится на присвоение чужого труда, на эксплуатации немногими огромного большинства. Беспощадная конкуренция, ставшая, благодаря капиталистическому способу производства, условием хозяйственного успеха, повела к чрезвычайному обострению борьбы за существование, которая, несмотря на большую мягкость своих внешних проявлений, требует теперь большого напряжения силы личности. Связь наличных денег (cash-nexus, по выражению Карлэйля) не есть связь нежной любви.
Итак, следует признать, что альтруистические чувства никогда не были сколько-нибудь могущественным фактором социального развития. Это так же верно относительно нашего времени, как и относительно прошлого. Симпатические чувства сильны только в сравнительно тесных группах людей. Это и понятно, так как способность человека к симпатии основывается на способности воспроизводить в своем сознании чувства и ощущения другого, для чего, в свою очередь, требуется известная общность психической жизни людей. Чем больше эта общность, тем сильные и чувство симпатии. По этой причине симпатическое чувство достигает наибольшей силы в пределах семьи – и только в этом узком кругу мы встречаем действительно сильную и готовую к самопожертвованию деятельную любовь. Люди, принадлежащие к тому же социальному классу, симпатизируют друг другу, как общее правило – сильнее, чем люди разных классов. Таким образом возникает классовое чувство, вступающее в тесную связь с эгоистическими и эгоальтруистическими чувствами и в такой форме являющееся одним из могущественных двигателей истории. Национальное чувство столь же мало основано на чистом альтруизме, как и классовое чувство, так как главную роль в нем играют эгоальтруистические элементы (национальная гордость, жажда славы).
Национальность нередко представляет собой крайний предел для симпатических чувств современного человека. Между людьми различных рас симпатическое чувство может совершенно отсутствовать, что, разумеется, не оправдывает жестокости европейцев по отношению к цветным расам, но объясняет ее.
IVЕсли современный человек не способен сильно симпатизировать страданиям другого, чуждого ему человека, зато он в высшей степени восприимчив к одобрению или неодобрению его поведения общественным мнением. «Я никогда никому не скажу этого, – говорит у Толстого князь Андрей Болконский, – но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать»67.
Совокупность чувств этого рода, названных Спенсером эгоальтруистическими, является одним из самых могущественных двигателей поведения как цивилизованного, так и нецивилизованного человека. «Даже самый примитивный человек, – утверждает Липперт, – не довольствуется простым животными существованием; он хочет возбуждать внимание, иметь значение для себе подобных»68. «Как ни велико тщеславие, обнаруживаемое цивилизованным человеком, оно все-таки уступает тому, которое обнаруживает человек нецивилизованный, – замечает Спенсер. – Самоукрашение занимает мысли какого-нибудь дикого вождя в еще большей степени, чем мысли какой-нибудь светской дамы наших дней»69. Дикарь охотно переносит самые тяжелые физические мучения (как, например, татуирование и изуродование различных частей тела), лишь бы придать себе более внушительный вид. «Фиджийский вождь, волосы которого, благодаря прическе, торчат, как щетина, в разные стороны, не может во время сна положить свою голову, но должен держать ее на весу, подпирая особой подставкой шею. Кольца в носу, куски дерева в нижней губе, которые носят ботокуды, обтачивание зубов в острые треугольники, к которому прибегают малайцы, – все это переносится, конечно, нелегко, но все же охотно переносится, как и самоистязания, которым себя подвергают люди для умилостивления богов»70.
Именно тщеславие первобытного человека объясняет пристрастие дикарей к блестящим безделушкам, привозимым европейцами. Конечно, не эстетические соображения побуждают негритянского князька с гордостью выступать в европейском костюме перед своими чернокожими подданными, но побуждения такого же рода, как и те, которые заставляют французского буржуа так высоко ценить знаменитую красную ленточку.


