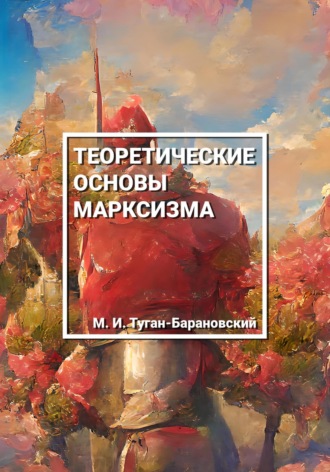
Полная версия
Теоретические основы марксизма
Итак, интеллигенция не составляет самостоятельного класса. Но это не значит, что она выше классов. Не образуя класса, интеллигенция примыкает к какому-либо из существующих общественных классов. Так как интеллигенты – люди умственного труда, а умственный труд требует образования, стоящего, в свою очередь, много денег, то естественно, что интеллигентные работники выходят почти исключительно из среды имущих классов. Это крайне благоприятствует тесной связи интеллигенции с названными классами. Но, с другой стороны, труд интеллигентного работника весьма часто оплачивается не капиталистическим предпринимателем, а непосредственно публикой – народной массой, в которой неимущие классы численно преобладают; на этой почве возникает экономическая связь между интеллигенцией и неимущими классами. Таким образом, интеллигенция может примыкать к самым разнообразным общественным классам, иначе говоря, интеллигенция есть общественная группа с неопределенным классовым характером; часть ее может бескорыстно служить трудящемуся народу, а другая идти вместе с его эксплуататорами, что мы и наблюдаем в действительности.
Возвращаемся к учению Маркса об общественном классе. Мы не должны упускать из виду, что класс должен совершить продолжительное развитие, прежде чем стать зрелым, конституированным классом. Развитие это характеризуется ростом классового сознания. Еще не конституированный класс не имеет сознания своих классовых интересов или, что то же, сознания противоположности своих интересов интересам других классов. Поэтому неконституированный класс не способен к политической, а следовательно, и классовой борьбе.
Развитие классового сознания делает класс конституированным классом. Но классовое сознание заключается не только в понимании своей солидарности с представителями того же общественного класса, так как симпатизировать с другими людьми, находящимися в тех же условиях существования, есть естественное чувство каждого нормального человека и само по себе еще далеко не образует классового сознания. Для наличности последнего требуется нечто большее – именно понимание, что условия существования представителей данного класса непосредственно определяются положением этого класса в существующем общественном строе, следовательно, господствующим способом производства. Так, например, для возникновения классового самосознания пролетариата требуется не только то, чтобы пролетарии чувствовали себя солидарными друг с другом, но также и то, чтобы они понимали, что их эксплуатирует капитал. Таким образом, классовое сознание равнозначаще с сознанием классовых антагонизмов, неустранимости классовой борьбы.
Но всякая классовая борьба есть политическая борьба, потому что государство есть орган классового господства, и эксплуатируемый класс может улучшить свое положение в господствующем общественном строе лишь посредством политической революции. Господствующий общественный класс пользуется государственной властью как средством упрочить свое экономическое преобладание, и лишь путем овладения государственной властью порабощенный класс может достигнуть своего экономического освобождения. Пробуждение в известном классе классового сознания равносильно превращению экономической борьбы данного класса в политическую борьбу.
Но в каком смысле утверждал Маркс, что история всех бывших доселе обществ есть история классовой борьбы? Мы знаем, что класс способен вести классовую борьбу лишь в известном фазисе своего развития и что этот фазис обыкновенно продолжается более короткое время, нежели тот, в котором еще не конституированный класс лишен классового сознания и не ведет классовой борьбы. Как согласовать это с приведенным утверждением Маркса?
Конечно, Маркс не хотел сказать, что всякое социальное движение имеет характер классовой борьбы. Тот же «Манифест» доказывает, как далеко был Маркс от этого, ибо авторы «Манифеста» признают ближайшей целью коммунистической партии превращение необъединенной борьбы рабочих в классовую борьбу. Классовая борьба скорее является в глазах Маркса сравнительно редким явлением в истории. Впрочем, взгляд Маркса на этот вопрос остается неясным. Если же желать извлечь из противоречивых замечаний Маркса по этому вопросу логически стройную теорию, то ее можно сформулировать следующим образом. Историческое развитие приводит к классовой борьбе, но отнюдь не исчерпывается таковой. Классовая борьба предшествует всякому политическому и социальному перевороту и заканчивается «революционным преобразованием всего общества или общей гибелью борющихся классов»31. Но так как история не состоит из одних революций, то она не состоит исключительно и из классовой борьбы. Несмотря на это, можно признавать классовую борьбу основным содержанием истории благодаря тому, что классовая борьба является самым важным и решающим в истории общества, и все остальное должно рассматриваться с точки зрения классовой борьбы.
Так, например, хотя рабочее движение первой половины XIX-го века и не было классовой борьбой, оно являлось подготовкой к таковой борьбе: если отдельные столкновения неорганизованных рабочих с отдельными капиталистами лишены классового характера, то все же они являются необходимой и крайне важной частью классовой истории пролетариата, так как они подготовляют будущую социальную революцию. В этом смысле можно сказать, что мировая история есть история классовой борьбы – именно история медленного развития классов, появления классового сознания, ведущего к классовой борьбе и социальной революции.
Только при таком истолковании учение о классовой борьбе может претендовать на научное значение. Вместе с учением о производительных силах оно образует другую составную часть материалистического понимания истории; оба эти учения рассматривались Марксом как нераздельное целое. Так ли это на самом деле – это я постараюсь показать в нижеследующем изложении.
Глава II. Психологические предпосылки материалистического понимания истории
Маркс и Гегель. Воля и разум как движущие силы истории. Волюнтаристическое направление в философии и отношение к нему Маркса. Общие черты в психологических воззрениях просветителей XVIII-го века и Маркса.
Маркс вышел из школы Гегеля и обыкновенно причисляется к левому крылу гегельянцев. И действительно, нельзя отрицать известного влияния философии Гегеля на воззрения Маркса. Но влияние это далеко не так глубоко, так как полагают некоторые критики Маркса. Так, например, нельзя не признать крайним преувеличением утверждение Дюринга, что «вся историческая философия для Маркса покоится на гегелевском отрицании отрицания и должна иметь одинаковую судьбу с диалектикой Гегеля»32. С гораздо большим основанием Маркс утверждал в предисловии ко второму изданию I тома своего «Капитала», что его диалектический метод «по своей сущности не только отличен от метода Гегеля, но представляет прямую противоположность этому последнему методу», и что он лишь «кокетничал» гегелевской манерой выражаться. «Определяя известные события как отрицание отрицания, – говорит Энгельс, – Маркс не думает доказывать этим их историческую необходимость; наоборот, доказавши, что известные события частью произошли, частью должны произойти известным образом, он констатирует, что они совершаются согласно известному диалектическому закону»33.
Замечание Энгельса очень характерно и выясняет истинную позицию творцов материалистического понимая истории по отношению к диалектике Гегеля. В «отрицании отрицания» Энгельс не усматривает исторического закона, но все же некоторый «диалектический закон». Странный закон, который не может служить доказательством необходимости вытекающих из него выводов.
На этом примере всего легче понять роль гегелевской диалектики в историко-философских построениях Маркса. Маркс не мог совершенно освободиться от этой диалектики. До конца жизни он оставался в известном смысле гегельянцем, хотя в конце – почти лишь по способу выражения. Но в оболочку гегелевской диалектики Маркс вложил совершенно другое идейное содержание, не имевшее ничего общего с идеями Гегеля.
Не только Гегель был идеалистическим метафизиком, в то время как Маркс принадлежал к тому философскому направлению, которое можно назвать материалистической метафизикой, но и по своим общим психологическим и историко-философским воззрениям оба мыслителя представляют собой крайнюю противоположность. Как психолог и историк, Гегель разделял убеждение просветителей XVIII-го века, что разум является движущей силой сознательной жизни отдельного человека и всего общества. «Мнения правят миром» – этим положением резюмируется психология и историческая философия столетия великой революции. Точно так же и для Гегеля мыслительный процесс, говоря словами Маркса, является «демиургом действительности». Это интеллектуалистическая философия истории была в самой тесной связи с интеллектуалистической психологией, преобладавшей до самого последнего времени.
Направление это было господствующим вплоть до начала ХIХ-го века, когда Фихте и особенно Шопенгауэр произвели в этом отношении полный переворот. В твоем бессмертном сочинении «Мир как воля и представление» Шопенгауэр впервые с полной ясностью и определенностью выставил положение, что «познание, как разумное, так и созерцательное, исходит первоначально из самой воли, принадлежит к существу высших ступеней ее объективации в качестве простой μηχανή, средства к сохранению индивидуума и рода, подобно всякому органу тела. Предназначенное к служению воли, к исполнению ее целей, оно почти всегда вполне к ее услугам; по крайней мере, у всех животных и почти у всех людей»34.
Эта точка зрения является, конечно, совершенной противоположностью воззрениям Гегеля. Весьма интересно, что поэтому решающему пункту Маркс является единомышленником не Гегеля, но Шопенгауэра.
Шопенгауэр, конечно, не оказал на Маркса никакого непосредственного влияния. Но, по-видимому, некоторые идеи Фихте вошли существенным элементом в миросозерцание Маркса. «Основной недостаток господствовавшего доселе материализма, – говорит автор «Капитала» в своих тезисах о Фейербахе, – заключается в том, что предмет, действительность, чувственно воспринимаемое понимается им лишь под формой объекта или созерцания, но не субъективно, как человеческая вещественная деятельность, как практика. Поэтому деятельная, активная сторона была выражена идеализмом, в противоположность материализму, но лишь абстрактно, ибо идеализм, естественно, не признает реальной, чувственной, деятельности… Вопрос о том, познает ли человеческая мысль объективную истину, есть вопрос не теорий, но практики. Человек практикой доказывает истину, т. е. действительность и силу, реальность своей мысли. Спор об объективной истинности или неистинности мысли, поскольку спор этот не касается практики, есть чисто схоластический спор… Практика составляет самую сущность общественной жизни. Весь загадочный элемент истории, приводящий теорию к мистицизму, находит свое рациональное объяснение в практике человеческой деятельности и в понимании этой практики»35.
Кажется, что эти мысли непосредственно внушены Марксу Фихте. В своей полемической книге, направленной против Бруно Бауэра, Маркс с полной определенностью высказывается по вопросу о примате воли над разумом. «Идея, – замечает он, – терпела всегда неудачу, поскольку она была различна от интереса. С другой стороны, легко видеть, что всякий массовый интерес, достигающий исторического господства, далеко выходит, при своем появлении на исторической сцене, в своей идее или представлении, за свои истинные пределы и отождествляется с общечеловеческим интересом. Эта иллюзия образует собой то, что Фурье называл господствующим тоном эпохи»36.
Однако было бы большой ошибкой признавать слабой стороной марксизма его близость к некоторым психологическим учениями Фихте и Шопенгауэра. Философия Гегеля не может в настоящее время служить основанием какой бы то ни было научной теории. Иное следует сказать о волюнтаризме Шопенгауэра. Этому направлению принадлежит настоящее и, как можно думать, будущее.
Можно различать три важнейших направления в научной психологии: интеллектуалистическое, материалистическое и волюнтаристическое. Интеллектуалистическая психология долгое время была господствующей. К этому направлению принадлежала английская психологическая школа, так же как и немецкие метафизики XVIII-го века. Материалистическая психология получила особенное распространение во Франции. Но в новейшей научной психологии господствует не интеллектуалистическое и не материалистическое, а волюнтаристическое направление.
«Волюнтаризм является, быть может, всего резче выраженной тенденций психологи ХIХ-го века; волюнтаризм есть форма, в которой эмпирическая наука использовала произведенное Кантом и Фихте перемещение точки зрения философии из теоретического в практический разум. В Германии особенно повлияла в этом направлении метафизика Фихте и Шопенгауэра»37. Односторонний и узкий рационализм ХVIII-го столетия ставил рассудок на первый план психической жизни человека: жизни чувства придавалось второстепенное значение. Однако действительным основанием нашей психики следует признать не рассудок и не чувство, являющееся наименее свободным и активным элементом нашей духовной жизни, а волю. «Душевный мир, – говорит Вундт, – есть царство воли. Решающее значение имеет воля, а не представление или мысль»38.
К волюнтаристическому направлению в психологии принадлежит, в числе прочих, также и известный датский философ Гарольд Геффдинг. «Если среди трех элементов психической жизни (познания, чувства и воли) какой-либо один следует признать основным, то таковым, очевидно, является воля», – замечает он в своем известном курсе психологи39. Несостоятельность объяснения мыслительного процесса пассивной ассоциацией представлений – объяснения, столь распространенного среди английских психологов, превосходно разъяснена Виндельбандом в одном из его очерков, столько же глубоких по содержанию, сколько изящных по форме. Мыслительных актов, лишенных всякого элемента чувства и воли, в действительности не существует. «В турнире психической жизни представления суть лишь маяки, под которыми скрываются от сознания истинные борцы – чувства. Но что такое этот интерес, эти чувства, определяющие действительный ход наших представлений? Не что иное, как формы и способы обнаружения бессознательной воли»40.
Каждый организм подвергается влиянию всех бесчисленных сил внешней природы. Все в природе находится в активном взаимодействии – это положение, сформулированное Кантом в его «Критике чистого разума» как третья аналогия опыта41, является основанием современного естествознания. Самая отдаленная звезда не остается без влияния на наш организм и подпадает, в свою очередь, его влиянию, как бы слабо оно ни было, благодаря чему весь мир сплетается в пеструю, но неразрывно прочную ткань. В окружающей нас внешней материальной среде перекрещивается все неисчислимое множество сил природы; бесконечно разнообразные удары волн материального мира постоянно поражают натуральную оболочку нашего духа. Сравнительно с этим разнообразием, наша сознательная жизнь крайне скудна и бедна содержанием; наши впечатления далеко не отличаются таким же обилием и такой же сложностью, как обильны и сложны внешние раздражители. Только чрезвычайно малая часть этих последних вызывает в нашем духе соответствующие впечатления. По отношению же ко всем остальным, несравненно более многочисленным внешним воздействиям, мы остаемся слепы и глухи; они не воспринимаются нашими органами чувств, и мы совсем не замечаем их существования. Бесконечной сложности внешней природы мы противопоставляем ограниченное число слабо дифференцированных органов чувств, и все, что не действует на них, не существует для нашего сознания. Так, например, мы не имеем особых органов чувства для восприятия электрической энергии – и она оставалась по этой причине долгое время совершенно неизвестной человечеству.
Что же определяет подбор между теми внешними раздражениями, которые воспринимаются и которые не воспринимаются нами? Не что иное, как практический интерес жизни. Органы чувств, как и сознание вообще, суть продукты борьбы за существование организмов. Сознание возникло для пользы жизни и представляет собой могущественнейшее орудие в борьбе за жизнь. Ощущения обоняния, вкуса, слуха, зрения служат первоначально только для того, чтобы облегчить животному нахождение пищи, бегство врага, указывать самцу на присутствие самки и т. д. и т. д… Воля к жизни управляет развитием сознания, а не наоборот, не сознание управляет волей к жизни. Практический интерес жизни указывает, какие внешние раздражения должны быть восприняты организмом, и какие нет; но организм заинтересован в различении и восприятии лишь тех раздражений внешнего мира, которые могут быть ему, так или иначе, полезны в его движениях. Поэтому, с биологической точки зрения, сознание есть не что иное, как регулятор движений организма, руководимых, в свою очередь, волей к жизни42.
Конечно, Маркс не был учеником Шопенгауэра. Но, как и Шопенгауэр, он был человеком ХIХ-го века, являющегося в столь разнообразных отношениях реакций против просветительной философии столетия Великой революции. «Классический дух» XVIII-го века, – говорит Тэн, – чуждался всего конкретного, индивидуального, исторически различного. Пустая абстракция человека, рассуждающая машина признавалась истинным человеком, которого определяли как «чувствующее и рассуждающее существо, избегающее страданий и стремящееся к наслаждению». Все различия в нравах, социальных и естественных условиях жизни общества, исторических традициях и пр. совершенно игнорировались и только одно различие считалось важным – различие в образовании, в котором видели ключ ко всем остальным различиям. Достаточно распространить образование в народных массах, чтобы создать новый общественный строй. Государство есть не что иное, как общественный договор граждан, и только невежество народных масс делает этот договор таким невыгодным для большинства43.
Маркс понял, что не мнения и не идеи людей, а их интересы определяют ход всемирной истории, и этим самым резко разошелся с мировоззрением просветителей. Признанием примата воли над разумом наш автор примыкает, как указано, к новейшей волюнтаристической психологии. Тем не менее Маркс не вполне порвал связь с рационализмом ХVIII-го века. Характерной особенностью психологических воззрений автора «Капитала» является чрезвычайно упрощенное представление о движущих силах человеческого духа, сильно напоминающее философов эпохи Великой революции. Из всего пестрого многообразия человеческих интересов Маркс обращает внимание лишь на один интерес – экономический в узком смысле слова, понимая под ним стремление к непосредственному поддержанию жизни. Маркс шел в этом отношении, пожалуй, даже дальше «просветителей» ХVIII-го века. Философы эпохи Просвещения считали стремление к наслаждению единственным двигателем поведения человека, а наш экономист замыкает человеческую психику в еще более темный и узкий круг и признает в социальном отношении важным и значительным только один род стремления к наслаждению – потребность в непосредственном поддержании своей жизни44. Правда, Маркс не отрицает разнообразие человеческих потребностей и интересов, но он считает исторически решающим именно экономический интерес и ничего больше.
Глава III. Потребности как движущая сила общественного развития
I. Физиологические потребности самосохранения и чувственного наслаждения. Производство непосредственной жизни. Роль различных потребностей при развитии хозяйства. Влияние условий добычи пищи на общественную жизнь.
II. Половое влечение. Голод и любовь. Развитие семьи. Схема Моргана. Ее несостоятельность. Зависимость форм семьи от условий хозяйства.
III. Симпатические влечения. Их происхождение. Материнская любовь и общественные инстинкты. Альтруистические чувства.
IV. Эгоальтруистические влечения. Их значение как движущей силы истории. Жажда власти.
V. Потребности, не основанные на практическом интересе. Игра. Сущность и происхождение игры. Искусство. Познание. Роль практического интереса в возникновении науки. Интерес к истине. Религиозная потребность. Ее основа и социальное значение.
Мы признали, что господствующим элементом сознательной жизни человека является воля, слуга которой – разум – исполняет то, что ему предписывается волей. Но воля действует по определенным мотивам; мотивы же даются влечениями, потребностями человека. Таким образом, признание первенства воли равносильно признанию первенства в психической жизни влечений и потребностей, которые заложены в нашей природе и которые определяют, в конце концов, все наше поведение. А так как дальше общество слагается из отдельных личностей, каждая из которых стремится к удовлетворению своих потребностей, то и общественная жизнь и деятельность не могут иметь иной цели, кроме удовлетворения разнообразных потребностей отдельных личностей, образующих общество.
Эти потребности могут быть разбиты на 5 следующих основных групп:
1) физиологические потребности в непосредственном поддержании жизни и чувственном наслаждении;
2) половая потребность;
3) симпатические инстинкты и потребности;
4) эгоальтруистические потребности;
5) потребности, не основанные на практическом интересе.
Каждую из этих групп потребностей мы рассмотрим отдельно и постараемся выяснить ее значение как фактора общественного развития.
IПервая группа потребностей образует собой психологическую основу индивидуальной жизни и свойственна человеку наравне со всеми животными миром. Так как удовлетворение потребности в поддержании жизни вызывает чувственное наслаждение, то эта потребность легко переходит в другую, тесно с нею связанную – в стремление к чувственному наслаждению как таковому благодаря более обильному и утонченному удовлетворению физиологических потребностей организма: стремление это далеко не всегда совпадает с потребностью самосохранения и может даже разрушительно действовать на жизнь организма (чувственные эксцессы всякого рода).
Потребности этого рода удовлетворяются при помощи деятельности, которую Маркс называет «производством непосредственной жизни» и которую он отождествляет с хозяйственной деятельностью вообще. Очевидно, что производство средств к жизни есть необходимое предварительное условие всякой иной деятельности. Отсюда Энгельс почерпнул свой важный аргумент в пользу материалистического понимания истории, который он повторяет неоднократно. Аргумент этот заключается в том, что «Люди должны прежде всего есть, пить, иметь жилище и одежду, а уже потом они могут заниматься политикой, наукой, искусством, религией и пр.; производство непосредственных материальных средств к жизни и, следовательно, данная ступень экономического развития народа или эпохи образует, таким образом, основу, на которой развиваются государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные верования данных людей»45.
Конечно, нельзя заниматься политикой, когда нечего есть и пить; в этом Энгельс, безусловно, прав. Но этой глубокой истиной еще далеко не исчерпывается вопросом об отношениях между «производством непосредственной жизни» и политикой, искусством, религией и пр., так как отношения эти далеко не так просты, как это кажется Энгельсу. Производство необходимых средств к жизни есть не только основа политики, религии и пр., но и наоборот, религия, политика и пр. представляют собой основу этого производства.
Возьмем, например, производство предметов одежды, составляющее чрезвычайно важную отрасль хозяйства вообще. Мы привыкли признавать одежду необходимой принадлежностью жизни. Однако современная этнология вполне установила факт, что «человек создал предметы украшения раньше, чем одежду; одежда, в некоторой своей части, есть не что иное, как преобразованные предметы украшения»46. Существуют народы, лишенные какого бы то ни было признака одежды: но мы не знаем народов, не употребляющих никаких средств самоукрашения. «Это раннее влечение человека к индивидуальным отличиям, к тому, чтобы при помощи какого-либо искусственного признака обращать на себя внимание как на особую личность, эта прирожденная потребность человека так же резко выделяет его среди наиболее близких к нему видов животных, как и употребление орудий труда»47.
На то же самое указывает Ратцель. «То, что австралийцы носят, представляет собой скорее украшение, чем одежду»48. Точно так же многие негритянские племена в Африке пользуются одеждой скорее как средством украшения, чем как средством предохранения тела от действия холода и влаги: во время дождя они ходят нагие, а в хорошую жаркую погоду облачаются в кожаные и меховые одежды. Подобные факты приводят Спенсера к заключению, «что корень происхождения знака отличия и одежды один и тот же… Платье, подобно знаку отличия, первоначально носится из желания возбудить удивление»49.


