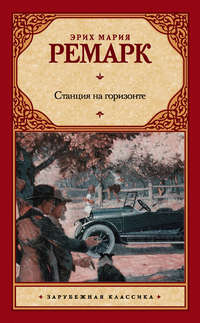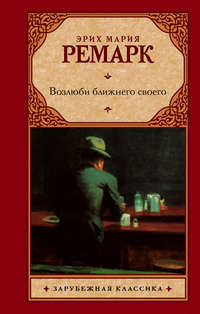Полная версия
Тени в раю
– По-моему, война – это когда чьи-то войска пересекают границы соседних стран, – продолжил я. – А где здесь неприятельские границы? В Японии и в Германии. Оттого и война здесь какая-то ненастоящая. Солдат, правда, иной раз видишь. А раненых – ни одного. Вероятно, их где-то лечат. Или, может, их вообще не бывает?
– Бывают. И убитые тоже.
– Все равно это как-то не взаправду. Как будто и нет никакой войны.
– Есть. И еще какая.
Все это время я смотрел на улицу. Кан проследил за моим взглядом.
– Ну что, это все тот же город? – спросил он меня. – Теперь, когда вы гораздо лучше язык знаете?
– Прежде все было плоским, как на картине, а движения воспринимались как пантомима. Теперь все стало рельефнее. Появились выпуклости, возвышения, впадины. Стала слышна речь, и ты уже даже понимаешь что-то. Правда, немного, и это усугубляет ощущение нереальности происходящего. Прежде любой таксист был для тебя сфинксом, каждый продавец газет – вселенской тайной. Да и теперь любой официант для меня этакий маленький Эйнштейн, но этого Эйнштейна я все-таки с грехом пополам хоть отчасти понимаю, если он, конечно, не о своих науках рассуждает. Однако весь этот прекрасный мираж чарует лишь пока тебе ничего не нужно. Но стоит чего-то захотеть – сразу начинаются трудности, и тебя из царства метафизических грез швыряет вниз, на уровень десятилетнего школяра, к тому же двоечника.
Кан заказал двойную порцию мороженого.
– Фисташки и лайм! – крикнул он пробегающей официантке. – Здесь семьдесят два сорта мороженого, – мечтательно сообщил он. – Ну, не в этой забегаловке, конечно, но в кондитерских Джонсона и в драгсторах. Сортов сорок я уже перепробовал. Для любителей мороженого эта страна сущий рай. А я, по счастью, до мороженого большой охотник. И представляете, до чего благоразумно устроена эта страна: даже своим солдатам, которые бог весть где, на каком-нибудь атолле сражаются с японцами, она целыми кораблями шлет не только стейки, но и мороженое.
Он вскинул глаза на приближающуюся официантку, словно та несет ему Святой Грааль.
– Фисташки кончились, – сообщила она. – Я принесла вам мяту и лимон, о-кей?
– О-кей.
Официантка улыбнулась.
– А женщины здесь какие соблазнительные, – продолжил Кан. – Аппетитные, как все семьдесят два сорта мороженого. Еще бы, они треть своих денег тратят на косметику. А иначе женщине здесь работу не найти. Примитивные законы естества в Америке решительно не в чести. Здесь только молодость в цене, а когда она проходит, волшебными ухищрениями создается ее видимость. Это, кстати, еще один раздел в ваши наблюдения о здешней нереальности.
Безмятежно и благостно внимал я Кану. Непринужденно, журчащим ручейком, текла наша беседа.
– Помните «Послеполуденный отдых фавна»? – разглагольствовал он. – У нас здесь совсем другой Дебюсси: «Послеполуденный отдых сладкоежки». И нам с вами подобным отдыхом никогда не насладиться вдосталь. Он заглаживает шрамы на наших душах, вы не находите?
– У меня такое бывает в подвале, среди антикварных древностей. Послеполуденный отдых китайского мандарина накануне отсечения головы.
– Вам бы лучше проводить послеполуденный отдых с какой-нибудь американской девушкой. Не понимая и половины из того, о чем та щебечет, вы без малейших усилий воображения вновь окунетесь в таинственный мир неизведанного, столь манивший нас в ранние годы нашей несмышленой юности. Ведь все непонятное заведомо кажется нам таинственным. Не понимая слов, вы не испытаете жестокого отрезвления житейским опытом и обретете редчайшую возможность претворить в жизнь одно из заветных мечтаний человечества – в умудренном возрасте заново прожить раннюю пору жизни, ощутив все восторги юности. – Кан рассмеялся. – Не упустите такой шанс! Ведь с каждым днем его вероятность тает. С каждым часом вы понимаете все больше, очарование неведения улетучивается. Но пока еще каждая женщина для вас сказочная загадка, словно экзотика южных морей для северянина, но с каждым новым усвоенным словом эти феи все больше будут превращаться для вас в обыкновенных домохозяек, уборщиц, продавщиц. Берегите как зеницу ока эту вашу вновь дарованную юность. Не успеете оглянуться, и вы состаритесь: через какой-нибудь год вам стукнет тридцать четыре.
Кан глянул на часы и махнул официантке в голубом, в полоску, фартучке.
– Последнюю порцию! Ванильное!
– А у нас еще миндальное есть!
– Тогда миндального! И немножко малинового! – Кан посмотрел на меня. – Я ведь тоже осуществляю мечту своей юности, правда, она попроще вашей, – лакомиться мороженым сколько душе угодно. Только здесь я впервые могу себе позволить такую роскошь. И для меня это символ свободы и безмятежной жизни. А ведь там, у себя, мы ни о свободе, ни о безмятежности и мечтать не могли. И неважно, в чем и каким способом мы это здесь обретаем.
Я молча щурился, глядя на пыльное марево над громокипящей улицей. Рокот моторов и шуршание шин сливались в монотонный, усыпляющий гул.
– Чем вы сегодня намерены заняться? – спросил Кан немного погодя.
– Ни о чем не думать, – ответил я. – И чем дольше, тем лучше.
* * *Леви-старший собственной персоной соизволил спуститься ко мне в подвал. В руках он держал бронзовую вазу.
– Что вы об этом скажете?
– А вам что сказали?
– Бронза эпохи Чжоу. Но может, впрочем, и Тан. Патина выглядит неплохо, верно?
– Вы ее уже купили?
Леви самодовольно осклабился.
– Так я и стану без вас покупать. Принес какой-то чудик. Ждет сейчас наверху. Просит сотню. Значит, отдаст за восемьдесят. За Чжоу, по-моему, недорого.
– Даже слишком, – буркнул я, осматривая бронзу. – Сам-то он торговец?
– Да непохоже. Молодой еще. Говорит, досталась по наследству, а ему, мол, деньги нужны. Она хоть подлинная?
– Ну, это действительно китайская бронза. Но точно не эпохи Чжоу. И даже не Хань. Скорее Тан или еще позже. Сун или Мин. Копия эпохи Мин по старинному образцу. И не лучшей работы. Маски «обжоры» таоте, видите, нечеткие, да и спирали к ним совсем не подходят: такие только после эпохи Хань появились. С другой стороны, декор – это уже копия декора эпохи Тан: простой, выразительный и лаконичный. Только вот маска «обжоры» и основной орнамент были бы гораздо рельефнее и четче, будь они действительно из эпохи Тан. Кроме того, вот таких мелких завитков на настоящей древней бронзе не бывает.
– Но патина! Патина-то очень хороша.
– Господин Леви, – сказал я, – это, несомненно, достаточно старинная патина. Но без вкраплений малахитовых окислов. Не стоит забывать: китайцы уже в эпоху Хань копировали бронзу эпохи Чжоу и закапывали в землю, получая через сколько-то лет отменную патину, хоть и не из эпохи Чжоу…
– И сколько, по-вашему, эта штука стоит?
– Долларов двадцать-тридцать, да вы лучше меня это знаете.
– Подниметесь со мной? – спросил Леви, и в его голубых глазенках сверкнули искры охотничьего азарта.
– А надо?
– Вам неинтересно?
– Прищучить очередного мелкого жулика? Чего ради? Может, кстати, он даже и не жулик. Кто в наше время хоть что-то смыслит в старинной китайской бронзе?
Леви стрельнул в меня неожиданно острым взглядом.
– Попрошу без намеков, господин Росс!
И энергично топая кривыми ножками, коротышка-толстяк поспешил вверх по лестнице, вздымая клубы пыли. Какое-то время мне была видна только его нижняя часть – колышущиеся брючины и топающие ботинки, выше пояса он уже был в лавке. Почему-то комичный этот ракурс живо напомнил мне круп цирковой лошадки, какой ее изображает пара начинающих коверных клоунов.
Немного погодя ножки Леви-старшего показались на лестнице снова. Вслед за ними тускло блеснула и бронза.
– Я ее купил, – сообщил Леви. – За двадцатку. Минь, в конце концов, тоже на дороге не валяется.
– Что верно то верно, – отозвался я. Я знал: Леви купил эту бронзу только из желания показать мне, что он тоже кое-что смыслит. Если не в бронзе, то хотя бы в торговле. Он смотрел на меня пристально.
– Сколько вам еще остается тут работать?
– Всего?
– Ну да.
– Зависит от вас. Хотите, чтобы я закончил?
– Нет-нет. Но вечно вас здесь держать мы тоже не можем. Да вы уже скоро управитесь. Кем вы раньше работали?
– Журналистом.
– А здесь почему не можете?
– С моим-то английским?
– Но вы уже прилично поднаторели.
– О чем вы, господин Леви? Я обычного письма без ошибок написать не в состоянии.
Леви в раздумье почесал лысину китайской бронзой. Будь она и вправду эпохи Чжоу, он, надо полагать, этого бы не сделал.
– А в живописи разбираетесь?
– Немного. Примерно как в бронзе.
Он ухмыльнулся.
– Это уже кое-что. Надо подумать, поспрошать. Не нужен ли кому-нибудь в нашей братии толковый помощник. В антиквариате дела, правда, совсем дохло идут, сами видите. Но с картинами все иначе. Особенно с импрессионистами. На старых-то мастеров нынче никакого спроса. Словом, поживем – увидим.
И Леви бодро потопал по лестнице обратно. «Прощай, дружище подвал, – подумалось мне. – Недолго же ты пробыл моим темным прибежищем, моим спасительным гнездом. Прощайте, позолоченные светильники конца прошлого века, и вы, пестрые аппликации 1890 года, прощай, мебель Луи-Филиппа, короля-буржуа, и вы, персидские вазы, и вы, летящие танцовщицы из гробниц династии Тан, прощайте, терракотовые скакуны и все прочие безмолвные свидетели и свидетельства отшумевших культур. Я любил вас всем сердцем и провел среди вас мое американское отрочество – от десяти лет до пятнадцатилетия. Адье! Не поминайте лихом! Невольный жилец одного из мерзейших столетий, запоздалый и безоружный гладиатор вшивых времен, я приветствую вас на этой арене, где полным-полно гиен и шакалов и почти не видно львов. Приветствую вас в твердом намерении несмотря ни на что радоваться жизни, пока меня не сожрали».
Я раскланялся на все углы, мановением руки благословляя антикварное сообщество по обе стороны прохода, потом глянул на часы. Мой рабочий день кончился. Вечер багряным заревом повис над крышами, а под ним редкие неоновые рекламы наливались белесым сиянием безжизненного, искусственного света. Из ресторанов уже доносилось зазывное благоухание жареного лука на шкварках.
* * *– Что-то случилось? – спросил я у Меликова, придя в гостиницу.
– Рауль. Хочет покончить с собой.
– И давно?
– Да уж с обеда. Он потерял Кики. Они четыре года были вместе.
– Что-то в этой гостинице слишком много плачут, – пробормотал я, прислушиваясь к сдавленным всхлипам, что доносились из угла с растениями, тревожа сонный плюшевый покой обшарпанного холла. – И почему-то всегда под пальмами.
– В любой гостинице много плачут, – изрек Меликов.
– В отеле «Ритц» тоже?
– В «Ритце» плачут, когда обвал на бирже. А у нас – когда человек внезапно осознает, что он безнадежно одинок, хотя прежде он так не думал.
– А Кики что, под машину попал?
– Хуже. Обручился. С женщиной! В этом вся трагедия, по крайней мере, для Рауля. Согреши он с другим голубым, никто бы не стал выносить сор из избы. Но с женщиной! Переметнуться в стан заклятого врага! Это предательство. Осквернение святынь. Страшнее смерти.
– Бедные голубые. Это же вечная война на два фронта. Изволь конкурировать и с мужчинами, и с женщинами.
Меликов ухмыльнулся.
– Рауль сегодня тут целую речь произнес и по поводу женщин немало соображений высказал. Самое безобидное, по-моему, было вот какое: они, мол, как тюлени без кожи. А уж насчет столь обожаемой в Америке женской прелести, как пышный бюст, он и вовсе в выражениях не стеснялся. «Трясучее вымя для сосунков-извращенцев» – это, пожалуй, еще самое невинное. И стоит ему вообразить, как его Кики к такому вымени приникает, бедняга Рауль ревет, как резаный. Хорошо хоть ты пришел. Его в номер спровадить надо. Здесь, внизу, ему никак нельзя оставаться. Пойдем, поможешь мне. В этом буйволе центнер живого веса, никак не меньше.
Мы крадучись подошли к пальмовому закоулку.
– Он вернется, Рауль, вот увидите, – прошептал Меликов. – Оступиться может каждый. Кики вернется. Возьмите себя в руки.
Мягко подхватив бедолагу с двух сторон, мы попытались помочь ему подняться. Но он, сотрясаясь от слез, только крепче вцепился в мраморный столик. Меликов продолжал увещевать.
– Вам надо выспаться, сон лучший лекарь. А Кики вернется, Рауль. Поверьте мне, я не первый раз такое вижу. Он вернется.
– Оскверненный! Запятнанный! – проскрежетал Рауль.
Тем не менее нам все-таки удалось его приподнять, и он тут же наступил мне на ногу. Всем своим центнером.
– Да осторожнее вы, чертова баба! – взвыл я.
– Что?
– Да-да, вы ведете себя как слезливая старая баба!
– Это я старая баба? – переспросил Рауль, как ни странно, уже более-менее нормальным тоном.
– Господин Росс не это имел в виду, – попытался вступиться Меликов.
– Отчего же. Именно это я и имел в виду.
Рауль провел ладонью по глазам. Мы уставились на него, ожидая нового приступа истерики.
– Это я – баба? – повторил он снова, негромко, но смертельно обиженным тоном. – Это я – баба!
– Он не так сказал, – соврал Меликов. – Он сказал: как баба.
– Вот так тебя все и бросают. Вот так и остаешься один, – проронил Рауль, поднимаясь уже без посторонней помощи.
Мы без труда проводили его до лестницы.
– Пара часов сна, – увещевал Меликов. – Одна-две таблетки секонала и глубокий, здоровый сон. А потом – чашечка крепкого кофе. И жизнь предстанет совсем в другом свете.
Рауль не ответил. Ведь мы тоже его бросили. Весь мир его бросил.
– Какого черта вы нянькаетесь с этим боровом? – спросил я.
– Это наш лучший жилец. Две комнаты с ванной.
VI
Я бесцельно бродил по улицам: возвращаться в гостиницу было страшно. Всю ночь меня мучили кошмары, я проснулся от собственного крика. Мне и прежде, бывало, снилось, что за мной гонится полиция, а иной раз накатывал и общеизвестный кошмар всех эмигрантов: какими-то судьбами тебя забросило через границу обратно в Германию, и за тобой уже пришли эсэсовцы. Но то были сны отчаяния и досады: как же ты так глупо попался? Однако и от них случалось просыпаться с воплем ужаса, и лишь глянув в окно, где красноватыми отсветами уличных огней мерцает ночное небо большого города, вспомнив и осознав, что ты в Нью-Йорке, с облегчением переводишь дух: слава богу, ты-то спасся. Но этот сон был совсем другой, смутный, клочковатый, неотвратимо жуткий, липкий и нескончаемый. Женщина, бледная, растерянная, беззвучно звала на помощь, все глубже погрязая в болотной трясине беды, отчаяния, загустевшей крови; ее глаза, полные ужаса, неотрывно смотрели на меня; это белое лицо с черным провалом беззвучно вопиющего рта, уже захлебывающегося вязкой черной жижей, рявканье команд, молнии, чей-то лающий, пронзительный голос с саксонским акцентом, мундиры и тошнотворный трупный запах смертоубийства, паленого мяса, раскрытые жерла топок, жадные языки пламени, и какой-то человек, еле живой, еще шевелится, вернее, только двигает рукой, потом уже лишь пальцем, этот палец все еще сгибается, медленно-медленно, пока на него не наступает сапог, и тут внезапно вопль – жуткий, истошный – и раскатистое эхо со всех сторон…
Я стоял перед витриной, но не видел ничего. И совсем не сразу сообразил, что я на Пятой авеню, перед шикарными ювелирными витринами «Ван Клиф и Арпельс». Ноги сами привели меня сюда из антикварной лавки братьев Леви. Тамошний подвал, похоже, впервые показался мне тюремной камерой. Вот меня и потянуло к многолюдству, на простор широких улиц – и я очутился на Пятой авеню.
А разглядывал я, как выяснилось, диадему последней французской императрицы Евгении. На черном бархате, в матовом мерцании искусственного света она сверкала лепестками бриллиантовых цветов. Рядом плотным узором рубинов, сапфиров и изумрудов поблескивал браслет; по другую сторону, красуясь каждое своим крупным камнем-солитером, разложены были кольца.
– Что-нибудь взяла бы отсюда? – поинтересовалась у подружки дама в красном костюме.
– Сейчас жемчуг носят, – строго изрекла та. – Элита носит жемчуг.
– Искусственный или натуральный?
– Любой. Жемчуг и черное платье. У элиты это сейчас высший шик.
– По-твоему, значит, императрица Евгения – не элита?
– Так это когда было…
– Не знаю, – протянула дама в красном, – лично я бы от такого браслетика не отказалась.
– Слишком пестрит, – отрезала ее спутница.
Я побрел дальше. Останавливался перед витринами без разбору и наугад, разглядывая сигары и обувь, фарфор и гигантские аквариумы модных салонов с их пиршеством красок и шелков и неизменными толпами зевак на тротуаре. Я смешивался с этими толпами, мне тоже хотелось быть зевакой; я тщетно, словно рыба на прибрежном песке, жадными жабрами слуха ловил обрывки чужих разговоров, я двигался сквозь это вечернее многолюдство жизни, всеми фибрами души желая слиться с ним и плыть в нем, как все остальные, но меня несло в одиночку, и смутный шлейф мрака влачился за мной, как отдаленное завывание эриний, преследующих Ореста.
Я прикинул, не поискать ли мне Кана, но тут же понял, что ни с кем, кто напомнит мне о прошлом, сейчас говорить не хочу. Даже с Меликовым. И все никак не мог отделаться от сегодняшнего ночного кошмара. Обычно-то кошмар по ходу дня развеивается сам собой, лишь поначалу омрачая душу неясной дымкой воспоминания, которая мало-помалу истаивает, чтобы через пару часов исчезнуть вовсе. Однако этот исчезать не желал, он упрямо стоял перед глазами. Я всеми силами старался его заглушить, прогнать, но он не отступал ни в какую. Наоборот, только пуще нагнетал чувство угрозы, мрачной и очень даже готовой сбыться.
В Европе мне сны снились редко, там бывало не до жиру – быть бы живу, и только здесь я поверил, что и вправду оторвался от погони. Океан своим уверенным рокотом, всей своей необъятностью проложил между мною и преследователями такие дали, что мне казалось: огромный затемненный корабль, бесшумно, словно летучий голландец, скользя между вражеских подлодок, спас меня и от других напастей, уберег от теней прошлого. Но теперь я знал: никуда они не делись, эти тени, – вот они, тут как тут. И уже проникли туда, где я бессилен с ними совладать, – в мои сны, в мир видений, который каждую ночь без всякого фундамента воздвигается из ничего, чтобы под утро рассыпаться в прах. Только вот нынешние рассыпаться не желают: вгоняя меня в холодный пот, они застыли где-то внутри липкими, смрадными клубами сладковатого тошнотворного дыма. Дыма из крематориев.
Я оглянулся. Да нет, никто за мной не следит. Томная нега дивного вечера окутала пролеты многоэтажных каменных фасадов с их тысячами мигающих оконных глаз. В два, а то и в три этажа вытянулись друг над другом ленты залитых золотистым светом витрин, похваляясь вазами и картинами, мехами и шелковыми абажурами, целыми комнатами шоколадно поблескивающей старинной мебели. Аляповатый тяжеловесный уют буржуазности наваливался со всех сторон; перед глазами как будто плыли страницы детской книжки с картинками, которую перелистывает беспечный божок расточительства, добродушным шепотком приговаривая: «Берите! Берите! Тут на всех хватит!»
Какая идиллия! Какая упоительная вечерняя прогулка в мирок внезапно воспрянувших иллюзий, былых влюбленностей, увядших, а тут вдруг снова проснувшихся надежд, торопливо зазеленевших под теплым дождичком самовнушения и самообмана; о, этот час мнимого всемогущества, час желаний и напрочь забытых унижений, час обольстительных истин, когда даже генералы и политики не только допускают, но ненадолго и вправду чувствуют, что они тоже живые люди и тоже смертны.
До чего же влечет меня эта страна, что прихорашивает и гримирует даже мертвецов, обожествляет молодость, но посылает своих солдат за тридевять земель, в края, о которых те и знать не знали, геройски погибать там неведомо за что. Первые граждане мира в военных мундирах.
Почему мне не дано со всем этим сродниться? Почему суждено до конца дней так и проскитаться с племенем безродных изгнанников, что с замиранием сердца, трепеща душой, взбираясь по бесконечным лестницам, поднимаясь в лифтах, беспомощно лопоча на ломаном жалком английском, мыкаются с этажа на этаж, из кабинета в кабинет, где их терпят, но не любят, и где сами они заранее любят всех только за то, что их терпят?
Я стоял перед витриной табачного магазина «Данхил». Вальяжно лоснясь, отливая холеной полировкой, передо мной красовались курительные трубки, эти символы буржуазного уюта и довольства, суля безмятежный покой неспешных вечерних бесед, а перед отходом ко сну – не выветрившийся еще аромат меда, рома, дорогого махрового табака у тебя в волосах и укромное шебаршение в ванной миловидной, может, даже слегка пухленькой, но уж точно не исхудалой женщины, что свершает вечерний туалет, готовя себя к ночи в мягкой, просторной постели. Как же далеко все это от черных «галуаз», скуриваемых до обжигающего пальцы и почти с ненавистью придавленного чинарика, этих дешевых сигарет чужбины, в чьем едком дыму ты ощущаешь не мир и покой, а только свой собственный страх.
Я становлюсь сентиментален до безобразия, подумал я. Смех да и только! Ради того ли примкнул я к бессчетному племени Агасферов, чтобы мечтать лишь о жилом тепле и любимых домашних тапочках? О тоскливой затхлости привычного мирка с его безнадежной скукой, задрапированной мещанским благополучием?
Я решительно повернулся и пошел прочь от магазинов Пятой авеню. Я двинулся на запад, и, миновав аллею зазывал-мошенников и дешевых балаганов, углубился в кварталы, чьи обитатели молча сидят на ступеньках подъездов узкогрудых домов угрюмого бурого камня, где детишки похожи на полинялых бабочек, а силуэты взрослых, если верить щадящим вечерним сумеркам, понуры лишь от усталости, а вовсе не от непосильной тяготы жизни.
Женщина, думал я, подходя к вывеске «Рубен». Просто женщина, какая-нибудь зверушка-хохотушка, самка блондинистой масти с игривым задом и без тени мысли в голове, кроме одной-единственной: достаточно ли у тебя денег на ее услуги, которые потребуется, конечно, сдобрить калифорнийским бургундским, а по мне, так еще и дешевым ромом; да, и чтобы ночь провести у нее, лишь бы не возвращаться к себе в номер – только не сегодня, только не нынешней ночью. Вот только где ее найти – эту женщину, эту девку, эту шлюху? Тут тебе не Париж, и я уже успел усвоить, сколь ревностно блюдет нравы нью-йоркская полиция, когда имеет дело с бедняками; нет, шлюхи тут не разгуливают по улицам, заявляя о себе опознавательными знаками – непомерной величины сумками и зонтиками; здесь все это устраивается по телефону, но это и дольше, и номера надо знать.
– Добрый вечер, Феликс, – поздоровался я. – А что, Меликова нет?
– Сегодня суббота, – ответил Феликс. – Моя смена.
И точно, суббота, час от часу не легче! Совсем забыл. Предстоящее воскресенье, пустое, нескончаемое, обдало меня всей своей неизбывной тоской. В номере у меня еще есть немного водки. Кажется, и пара таблеток снотворного оставалась. Почему-то сразу вспомнился увалень Рауль. Не я ли еще вчера вечером над ним потешался. А теперь вот и самому приходится ничуть не легче.
– Мисс Петрова тоже только что про господина Меликова спрашивала, – как бы невзначай сообщил Феликс.
– Она уже ушла?
– Кажется, еще нет. Вроде бы собиралась подождать немного.
Едва я приблизился к плюшевому закутку, оттуда, из полумрака, Наташа Петрова сама появилась мне навстречу. Только бы опять не начала плакать, подумал я, в очередной раз удивившись, до чего же она высокая.
– Опять к фотографу? – спросил я.
Она кивнула.
– Хотела, вот, водки выпить, но Владимира Ивановича сегодня нет. У него выходной, а я совсем забыла.
– У меня есть водка, – чуть не выкрикнул я. – Могу принести.
– Не беспокойтесь. У фотографа этого добра сколько угодно. Я просто хотела немножко тут посидеть.
– Сейчас принесу бутылку. Минутку подождите.
Я взбежал по лестнице, распахнул дверь. Бутылка мерцала на подоконнике. Стараясь не глядеть по сторонам, я подошел, взял бутылку, прихватил две стопки. В дверях все-таки оглянулся. Ничего особенного – ни теней, ни призраков. Из темного угла белесым пятном брезжит кровать. Сам себе удивляясь, я только неодобрительно головой покачал и отправился вниз.
Вид у Наташи Петровой сегодня был совсем иной, чем в прошлый раз. Не такой истеричный, напротив, почти по-американски уверенный. Правда, в чуть хрипловатом голосе слышался легкий акцент, но скорее французский, чем русский, насколько я могу судить. На голове у нее пышным сиреневым тюрбаном был повязан шелковый платок.
– Это из-за прически, – пояснила она. – Сегодня съемка вечерних платьев.
– И чем же вам нравится тут сидеть? – поинтересовался я.
– Я вообще люблю посидеть вот в таких гостиницах. Тут никогда не бывает скучно. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Люди приходят, уходят, здороваются, прощаются. Это же лучшие мгновения жизни.