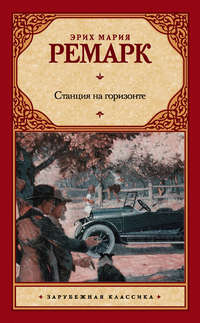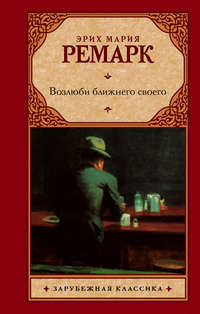Полная версия
Тени в раю
Теперь он вынес из той же комнаты две акварели.
– Что вы скажете об этом?
– Это акварели Сезанна.
Сильверс был поражен.
– И тоже можете сказать, какая лучше?
– У Сезанна все акварели хороши, – сказал я. – Подороже, думаю, будет левая.
– Почему? Потому что больше?
– Не поэтому. Эта поздняя вещь, и уже почти в кубистической манере. Прекрасный прованский пейзаж с горой Сан-Виктуар. В брюссельском музее есть похожая.
Сильверс переменился в лице. Он встал.
– Где вы работали раньше? – резко спросил он.
Мне вспомнился допрос, который учинила мне Наташа Петрова.
– Нигде я не работал, – спокойно ответил я. – Ни на кого из конкурентов, и я не шпион. Просто какое-то время провел в Брюсселе в тамошнем музее.
– Когда?
– Когда Брюссель был под немцами. Меня в этом музее прятали. Потом удалось бежать, нелегально перейти границу. Вот и весь секрет моих скромных познаний.
Сильверс снова сел.
– В нашем деле всего приходится опасаться, – пробормотал он.
– Это отчего же? – поинтересовался я, радуясь возможности хотя бы на время избежать дальнейших расспросов.
Сильверс на секунду замялся.
– Понимаете, картины – они как живые существа. Как женщины. Не следует показывать их всем и каждому, если вам дорого их очарование. И их ценность.
– Но они же для того и создаются, чтобы их показывать, разве нет?
– Может быть, хотя не убежден. Продавцу, во всяком случае, выгоднее, чтобы его картины не были широко известны.
– Странно. Я-то думал, это повышает цену.
– Отнюдь не всегда. Если картину слишком часто показывали, она примелькалась, или, на жаргоне рынка говоря, «спалилась». В отличие от картин-«девственниц», которые укромно таились в частной коллекции, не меняя владельцев. Такие картины, которых вообще почти никто видел, и ценятся дороже. И не потому, что они лучше, – просто к их покупке прилагается радость первооткрывателя и истинного знатока.
– И за это люди готовы приплачивать?
Сильверс кивнул.
– В наше время коллекционеров, к сожалению, раз в десять больше, чем знатоков. Время истинных коллекционеров-знатоков кончилось вместе с первой мировой войной, году примерно в восемнадцатом. Всякий политический и экономический переворот влечет за собой и финансовые потрясения. Крупные состояния переходят из рук в руки. Кто-то разоряется, кто-то богатеет. Частные собрания меняют собственников, разорившиеся вынуждены продавать, а новые, хотя и при деньгах, зачастую никакие не знатоки. А чтобы знатоком стать, на это требуется время, терпение… и любовь.
Я заслушался. В этой комнате, обитой серым бархатом, с двумя мольбертами посередине, казалось, навсегда застыл покой давно ушедших мирных времен. Сильверс между тем поставил на мольберт новую работу.
– А это вы знаете?
– Моне. «Поле маков».
– Вам нравится?
– Это великолепно. Сколько покоя! Сколько солнца! Солнце Франции…
– Что ж, мы можем попробовать, – решил он наконец. – Особых познаний от вас не потребуется. Куда важней исполнительность и конфиденциальность. Как насчет шести долларов в день?
Я оживился мгновенно.
– За сколько часов? Утром или вечером?
– Утром и вечером. Но днем у вас будет много свободного времени.
– Это примерно столько же, сколько зарабатывает хороший рассыльный.
В ответ я ожидал услышать, что именно такая работа мне и предлагается. Но Сильверс поступил элегантнее: он просто произвел при мне подсчеты, сколько зарабатывает хороший рассыльный. Получилось, что меньше.
– Меньше десяти долларов никак не могу, – не уступал я. – У меня долги, я их выплачиваю.
– Уже долги?
– Адвокату, который занимается моим видом на жительство.
Я знал: Леви успел рассказать об этом Сильверсу; тот, однако, сделал вид, будто это все меняет и он теперь подумает, стоит ли вообще меня брать. Хищник наконец-то показал зубы.
В итоге мы сошлись на восьми долларах. Это после того, как Сильверс с прежней своей застенчивой улыбочкой объяснил мне, что, поскольку работать я намерен нелегально, значит, и налогов платить не буду. К тому же и английский мой не безупречен. Но тут-то я его и подловил. Зато я говорю по-французски, козырнул я, а в его бизнесе это плюс, причем немалый. Только тогда он сдался, согласившись на восемь долларов и даже пообещав, если я хорошо себя зарекомендую, к вопросу оплаты еще вернуться.
* * *Придя в гостиницу, я застал там весьма причудливую картину. В старомодном холле было куда светлее, чем обычно. Горели даже те лампы, которые прижимистая дирекция неизменно отключала. За столом посреди холла собралось разношерстное и довольно живописное общество. Верховодил всем Рауль. В парадном, необъятного покроя бежевом костюме он, словно гигантская потная жаба, восседал в торце стола, накрытого, к моему изумлению, белой скатертью, а вокруг, обслуживая гостей, даже расхаживал официант. Рядом с Раулем сидел Меликов; далее обнаружились Лахман с пуэрториканкой, мексиканец в розовом галстуке с каменным лицом и неистовым взглядом, некий весьма белобрысый хлипкий юноша, обладатель, как выяснилось, рокочущего баса, хотя предположить можно было разве что высокое сопрано; кроме того, две жгучие брюнетки неопределенного возраста – от тридцати до сорока – и испанского обличья, оживленные, бойкие и даже привлекательные. И, по другую руку от Меликова, Наташа Петрова.
– Господин Росс! – вскричал Рауль. – Окажите нам честь!
– Что происходит? – поинтересовался я. – Совместный день рождения? Или, может, кто-то сорвал куш в лотерее?
– Присоединяйтесь к нам, господин Росс, – пригласил Рауль, уже с трудом ворочая языком. – Это один из моих спасителей, – пояснил он басовитому блондину. – Пожмите друг другу руки! Это Джон Болтон.
В первый миг мне показалось, что в ладонь мне сунули дохлую рыбину. От обладателя столь впечатляющего баса я ожидал рукопожатия покрепче.
– Что будете пить? – вопрошал Рауль. – У нас тут все, что душе угодно: кока-кола, сэвен-ап, ольборг, бурбон, скотч, а по мне, так даже и шампанское. Как это вы сказали в тот раз, когда сердце мое кровоточило от горя? Все течет, так вы сказали. Это ведь кто-то из древних греков, верно? То ли Гераклит, то ли Демокрит, то ли Демократ. Или, как говорят на Седьмой авеню, «жизнь еврея бьет ключом, был красавчик – стал хрычом». Вот это верно. Но на смену приходит новая, юная поросль. Так что вы будете пить? Альфонс! – величественным взмахом руки, которому позавидовал бы и римский император, он подозвал официанта.
– Что пьете вы? – спросил я у Наташи Петровой.
– Водку, что же еще? – радостно ответила та.
– Мне водки, – сказал я Альфонсу.
– Сразу двойную! – распорядился Рауль, соловея на глазах.
– Это что, новая любовь, новое чудо человеческого сердца? – спросил я у Меликова.
– Чудо самообмана человеческого, когда каждый думает, будто предмет воздыхания пленен им безраздельно.
– «Le coup de foudre»[7], – добавила Наташа Петрова. – Только без взаимности!
– Вы-то как тут оказались?
– Это все случай, – она рассмеялась. – Но до чего счастливый! Просто захотелось убежать от тоски и скуки очередного приема в «Корона-клаб». Но такого я здесь никак не ожидала!
– А потом у вас снова съемка?
– Сегодня нет. Почему вы спрашиваете? Опять пошли бы со мной?
Я хотел было ответить уклончиво, но вместо этого вдруг сказал:
– Да.
– Наконец-то хоть что-то внятное, – усмехнулась Наташа. – Тогда выпьем!
– Выпьем!
– Выпьем! Все! До дна! – подхватил Рауль и потянулся со всеми чокаться. Он даже попытался ради этого встать, но его повело, и он плюхнулся обратно на резное кресло, жалкое подобие трона, которое под ним угрожающе затрещало. В придачу ко всем остальным своим прелестям обветшалая гостиница была обставлена еще и чудовищной мебелью в неоготическом стиле.
Пока все чокались, ко мне подошел Лахман.
– Сегодня вечером, – жарко прошептал он мне, – я подпою мексиканца.
– А сам-то не захмелеешь?
– Я уже подмазал Альфонса. Он будет наливать мне только воду. А мексиканец пусть думает, будто мы текилу пьем. Она ведь такого же цвета, как вода. Вернее, тоже бесцветная.
– На твоем месте я бы уж не его, а ее подпаивал, – рассудил я. – Он-то ведь ничего против не имеет. Это она артачится.
На мгновение Лахман озадаченно потупился.
– Ерунда! – Он строптиво тряхнул головой. – Все получится! Должно получиться! Должно, и все тут, понимаешь!
– Пей лучше с обоими, и сам тоже напейся. Может, ты спьяну что-нибудь такое учудишь, до чего трезвым в жизни бы не додумался. Некоторые под хмельком вообще неотразимы.
– А толку что? Я ведь тогда ничего вспомнить не смогу. И получится, будто ничего не было.
– Лучше бы, конечно, наоборот. Лучше бы тебе уже сейчас вообразить, будто все было, а ты просто ничего не помнишь.
– Брось, это был бы самообман, все равно что жульничество, – горячо возразил Лахман. – Надо играть по-честному!
– А фокус с текилой – это по-честному?
– С самим собой я честен. – Лахман склонился к моему уху, обдав меня своим жарким, влажным дыханием, хотя ведь ничего, кроме воды, весь вечер не пил. – Я тут разузнал кое-что: оказывается, нога у Инес не ампутирована, а просто не гнется. Так что эта хромовая накладка никакой не протез, а всего лишь муляж, для форса, – пусть, мол, лучше думают, что ноги вовсе нет.
– Лахман, кончай!
– Мне точно известно! Ты женщин не знаешь! Может, она потому и артачится? Не хочет, чтобы я увидел…
На секунду я просто онемел. Вот она, любовь, аmore, amour, вот она, молния самообмана, надежда из самых глубин безнадеги, привет тебе, о, неунывающее чудо черной и белой магии! Я торжественно поклонился.
– Дружище Лахман, рад приветствовать в твоем лице звездные грезы любви!
– Вечно ты с твоими насмешками! Мне вот совсем не до шуток!
Рауль меж тем снова встрепенулся.
– Господа, – начал он, обливаясь потом. – Да здравствует жизнь! Я имею в виду, как хорошо, что мы все еще живы. Как вспомню, что совсем недавно намеревался этой жизни себя лишить, готов сам себя по щекам отхлестать. Какими же мы бываем идиотами, когда мним себя воплощением утонченности и благородства.
И тут вдруг пуэрториканка запела. По-испански, какую-то неизвестную песню, из Мексики, наверно. Голос у нее был удивительный, низкий и сильный, и пела она, не сводя глаз с мексиканца. Это была не песня даже, а зов, исполненный столь неодолимого и столь же естественного влечения, что казался почти жалобой, порывом уже по ту сторону всякой мысли и всякой цивилизации, отголоском незапамятных времен, когда самого драгоценного своего отличия, юмора, человечество еще не обрело, – порывом неистовым и бесстыдным, но еще невинным в своем бесстыдстве. Ни один мускул не дрогнул на лице мексиканца. Да и женщина как будто окаменела – живыми оставались только ее губы и взгляд. Эти двое смотрели друг на друга, не мигая, не отрывая глаз, а песня все лилась, все длилась, не помня себя и не ведая конца. То было любовное соитие без соприкосновений, и каждый это видел, каждый понимал. Я обвел глазами их всех, я смотрел, как они замерли, слушая эту величаво струящуюся песню: Рауль и Джон, Меликов, Наташа Петрова и все остальные – все они замерли, разом посерьезнев, углубившись в себя и возвысившись над собой благодаря этой женщине, которая, все на свете позабыв, видела сейчас только своего мексиканца, бог весть какие глубины жизни обретая в его помятой сутенерской физиономии, – и почему-то это было ничуть не странно и нисколько не смешно.
VIII
До поступления на новое место оставалось три дня, и я устроил себе отпуск. Отдых я начал с прогулки по Третьей авеню в самый любимый свой предвечерний час, когда в антикварных лавках тени сгущаются до синевы, время словно замирает, зато оживают зеркала. Из ресторанов уже попахивает жареным луком и картофелем фри, официанты накрывают столы к ужину, а омары, выложенные на пыточном ледяном крошеве в огромных витринах «Океанского царства», тщетно пытаются куда-то уползти, загребая своими огромными клешнями, обезвреженными деревянными колышками. Я никогда не мог без содрогания смотреть, как изгибаются в муке их округлые панцирные спинки, они напоминают мне о пыточных камерах в концлагерях страны поэтов и мыслителей.
– Верховный имперский лесничий Герман Геринг никогда бы такого не допустил, – заметил Кан, тоже подходя к витрине ракообразных гигантов.
– Вы про омаров? Крабы-то, вон, все уже четвертованы.
Кан кивнул.
– Третий рейх славится своей любовью к животным. Овчарку фюрера по кличке Блонди сам вождь холит и лелеет лично, как любимое дитя. А наш Герман, верховный лесничий Германии, премьер-министр Пруссии, главный херуск и кто он там еще, на пару с главной блондинкой страны Эмми Зоннеман держит у себя в Валгалле молодого льва и обожает благостно позировать рядом с ним в облачении древнего германца, с охотничьим рогом на поясе. Ну а начальник всех концлагерей Генрих Гиммлер питает нежную любовь к ангорским кроликам.
– А четвертованные крабы вполне способны вдохновить министра внутренних дел Фрика на очередную новацию. Он же у нас такой культурный, доктор наук к тому же, и уже упразднил гильотину как слишком гуманное орудие казни, заменив ее ручным топором. Теперь, может, велит всех евреев четвертовать, как вот этих крабов.
– Такой уж мы народ, – с горечью бросил Кан, – даром, что ли, наше главное свойство характеризуется непереводимым и якобы исконным словечком «духовность».
– Есть и еще одно исконно тевтонское слово, не встречающееся, сколько мне известно, ни в одном другом языке, – «злорадство».
– Может, хватит уже? – предложил Кан. – Что-то этот юморок стал меня утомлять.
Мы переглянулись как нашкодившие, застигнутые врасплох школяры.
– До чего же тяжело от этого избавиться, – пробормотал Кан.
– Это только с нами так?
– Да со всеми. Не успеешь привыкнуть к чувству безопасности, насладиться счастьем страуса, засунувшего голову в песок, как возвращается страх. И он тем сильнее, чем больше ты вначале радовался. Малость полегче приходится тем, кто, как муравьи после грозы, сразу лихорадочно принимаются строить – муравейник ли, гнездо, собственное дело, семью, будущее. Но тем, кто ждет чего-то, – тем не позавидуешь.
– Вы тоже ждете?
Кан глянул на меня с усмешкой.
– А вы, Росс, разве нет?
– Пожалуй, – помолчав, согласился я.
– Вот и я тоже. Чего, собственно?
– Я-то знаю чего.
– Каждый чего-то своего ждет. Только боюсь, когда все кончится, ожидания эти вмиг испарятся, как брызги на раскаленной плите. И мы опять сколько-то лет потеряем зазря, и придется все начинать заново. А другие нас на эти несколько лет обгонят.
– Велика важность, – удивился я. – Можно подумать, жизнь – это бег с препятствиями.
– А разве нет? – спросил Кан.
– Дело совсем не в конкуренции. Разве большинство не мечтает вернуться?
– По-моему, точно этого никто не знает. Некоторым просто деваться некуда. Актеры, к примеру: у них здесь нет будущего, им никогда не освоить английский как родной. Писатели, оставшиеся без читателей. Но большинству-то вообще непонятно чего надо. Их просто снедает неодолимая, идиотская тоска по родине. Вопреки всему! Смотреть тошно! Знаете, кто был в Германии самыми ярыми патриотами? Евреи. Они любили эту страну с какой-то неистовой, собачьей привязанностью.
Я промолчал. Подумалось, что евреи потому, должно быть, любили эту страну столь пылкой любовью, что никогда не чувствовали себя здесь по-настоящему дома, до конца своими. И от этой неуверенности их любовь только пуще распалялась снова и снова. При кайзере евреи даже были под защитой, но потом это кончилось. Хотя до тридцать третьего года особого антисемитизма все-таки не было, им страдали только совсем уж мерзкие, отпетые психопаты.
– Насчет любви к Германии: да, мне приходилось такое наблюдать, – сказал я. – В Швейцарии. Был там один еврей, коммерции советник, я надеялся, он мне денег подбросит. Не тут-то было. Вместо этого он дал мне совет: возвращайтесь в Германию. Газеты, дескать, все врут. А даже если в чем-то и не врут, то это временные, по необходимости суровые меры. Лес рубят – щепки летят. К тому же евреи во многом сами виноваты. Когда я ему сообщил, что сам лично тянул срок в концлагере, он в ответ заявил: значит, было за что. А тот факт, что меня выпустили, только лишнее доказательство справедливости немцев.
– Почему, кстати, вас отпустили? – перебил меня Кан.
– Потому что я не еврей, – сказал я и тут же разозлился на себя, пожалев о сказанном. – На этого коммерции советчика я наорал. А он в ответ наорал на меня: я, мол, антисемит.
– Знаю таких субъектов, – мрачно проговорил Кан. – Не часто, правда, но встречаются.
– Даже в Америке, – буркнул я, припомнив своего адвоката. – Ку-ку, – вдруг вырвалось у меня.
Кан рассмеялся.
– Вот уж кто действительно ку-ку! – подхватил он. – Ладно, пошли они к черту, все идиоты на свете!
– Включая тех, кто в наших рядах.
– Этих в первую очередь. И все-таки, несмотря ни на что, не угоститься ли нам по такому случаю порцией крабов?
Я кивнул.
– Позвольте мне вас пригласить. До чего же духоподъемное чувство – снова иметь такую возможность. Хоть на время избавляет от комплекса вечного попрошайки. Или, если угодно, этакого интеллигентного прихлебателя.
– Против внушенного нам дражайшей отчизной комплекса вины – вины за то, что мы еще живы, – любые средства хороши. С удовольствием принимаю ваше приглашение. Но в ответ позвольте и мне отреваншироваться бутылочкой нью-йоркского рислинга – так мы оба хотя бы на время снова почувствуем себя полноценными людьми.
– Разве здесь, в Америке, мы чем-то хуже других? Не такие, как все?
– Почти, но не совсем. На девять десятых.
Кан извлек из кармана некую розовую бумаженцию.
– Паспорт! – благоговейно ахнул я.
– Удостоверение иностранного гражданина враждебного государства, – сухо пояснил Кан. – Вот кто мы такие.
– Значит, и здесь люди второго сорта, – вздохнул я, раскрывая необъятную карту меню. – Неужели это теперь навсегда?
* * *Вечером мы пошли к Бетти Штайн. Она и здесь сохранила свой берлинский обычай: по четвергам устраивала у себя салон. Прийти мог кто угодно. Кому средства позволяли, приносил что-нибудь с собой: бутылочку вина, пачку сигарет, баночку консервов. К услугам гостей был граммофон со старыми пластинками: Рихард Таубер, арии из оперетт Кальмана, Легара, Вальтера Колло. Иногда кто-то из поэтов читал стихи, в основном же просто беседовали, обсуждали, спорили.
– Побуждения у нее самые благие, – рассуждал Кан. – Но все равно это морг, мертвечина – сборище людей, которые давно отжили свое, только не догадываются об этом.
На Бетти было старое шелковое платье еще догитлеровских времен. Мало того, что оно шуршало, колыхалось рюшами, благоухало нафталином, – вдобавок ко всему оно еще было фиолетовым. Пунцовые щечки Бетти, ее седые локоны и лихорадочный блеск темных глаз никак не вязались с этаким помпезным нарядом. Она встретила нас, простирая для объятий свои пухлые ручонки. При виде столь сердечного радушия оставалось только беспомощно улыбнуться, сознавая, до чего она и трогательна, и смешна, и что не любить ее невозможно. Глядя на нее, казалось, будто времени после тридцать третьего года не существует вовсе. То есть в другие дни оно, возможно, для нее и существует, но не по четвергам. По четвергам вокруг нее был лишь прежний Берлин и все еще действовала Веймарская конституция.
В просторной гостиной с галереей покойников на стенах собралось уже довольно много народа. Первым бросился в глаза актер Отто Вилер, окруженный горсткой почитателей.
– Он покорил Голливуд! – с гордостью провозгласила Бетти. – Он пробился!
Вилер внимал ее словам с молчаливой благосклонностью.
– Что у него за роль? – спросил я у Бетти. – Отелло? Братья Карамазовы?
– Большущая роль! Какая, не знаю. Вот увидите, он всех за пояс заткнет. Это будущий Кларк Гейбл.
– Чарльз Лоутон, – поправила ее племянница, сморщенная старая дева, приставленная разливать кофе. – Да, скорее Чарльз Лоутон. Характерный актер.
Кан перекинулся со мной саркастическим взглядом.
– Этот Вилер и в Европе-то такой уж звездой не был. Слыхали анекдот про человека, который заходит в Париже в ночной клуб русских эмигрантов? Хозяин расхваливает ему свое заведение. «Портье у нас – бывший генерал, официант – бывший граф, кабаретист – бывший великий князь», ну и так далее. Гость – на руках у него маленькая такса – хранит невозмутимое молчание. Чтобы как-то ему польстить, хозяин спрашивает: «А что это у вас за собачка?» Гость на это: «Раньше, в Берлине, это был сенбернар». – Кан меланхолически улыбнулся. – Впрочем, этот Вилер и вправду получил маленькую роль. В фильме второй категории. Будет играть нациста. Эсэсовца.
– Что? Да он же еврей!
– Ну и что из того? Пути Голливуда, как и Господа, неисповедимы. Судя по всему, в Голливуде полагают, что у всех эсэсовцев должны быть еврейские физиономии. Это уже четвертый случай, когда на роль эсэсовца они берут еврея. – Кан усмехнулся. – Что ж, в своем роде торжество справедливости силой искусства. А гестапо подобным образом спасает даровитых евреев от голодной смерти.
Бетти объявила, что в этот вечер у нее будет особенный гость – доктор Грэфенхайм, он в Нью-Йорке проездом. Оказалось, многие его знают: в Берлине он был знаменитым гинекологом. Даже какое-то противозачаточное средство названо его именем. Вскоре прибыл и он сам. Кан, как выяснилось, тоже с ним знаком. Это оказался тихий, скромный, худенький человечек с темной бородкой.
– Где вы обосновались? – спросил Кан у медицинского светила. – Где ведете прием?
– Прием? – переспросил тот озадаченно. – О чем вы говорите? Я еще не подтвердил свой диплом. Не сдал пока что экзамен. Это очень трудно. Вот вы сейчас взялись бы снова сдавать на аттестат зрелости?
– Вам-то разве это требуется?
– Да. Все по новой. Причем по-английски.
– Но вы же известный врач! Специалист! Уж вас-то здесь наверняка должны знать. И если даже нужны какие-то экзамены, то в вашем случае только проформы ради.
Грэфенхайм беспомощно пожал плечами.
– Как бы не так. Напротив, нас, эмигрантов, экзаменуют куда строже, чем американцев. Да вы сами знаете, как оно здесь и что к чему. Это только считается, что врачи по профессии альтруисты. На самом деле они тут объединены в сообщества, в клубы, и защищают свои шкурные интересы как лютые волки. Чужаков на пушечный выстрел не подпускают. Вот и приходится нашему брату снова экзамены сдавать. На чужом-то языке каково это? А мне уже за шестьдесят. – Грэфенхайм, словно извиняясь, виновато улыбнулся. – Надо было языки учить. Впрочем, кому из наших здесь легко? Мне еще потом ассистентом целый год стажироваться. Но тогда, по крайней мере, в больнице у меня будет бесплатное питание и топчан, чтобы переночевать.
– Да расскажите же вы всю правду! – горячо прервала его Бетти. – Кан и Росс вас поймут. Его обокрали. Один мерзавец, свой же, из эмигрантов, его облапошил!
– Но, Бетти…
– Да-да, попросту обворовал, самым подлым образом! У Грэфенхайма была коллекция марок, очень ценная. И часть ее он отдал своему другу, когда тот – много раньше других – из Германии уезжал. На сохранение отдал. Но когда Грэфенхайм в Америку прибыл, оказалось, что этот друг вовсе ему уже никакой не друг. Он заявил, что никогда ничего от Грэфенхайма не получал.
– Обычная история, – бросил Кан. – В таких случаях, правда, принято уверять, будто вещи изъяли на границе.
– Нет, этот оказался хитрее. Иначе он ведь признал бы, что взял марки, и тогда у Грэфенхайма были бы хоть какие-то, пусть призрачные, шансы на возмещение ущерба.
– Нет, Бетти, – возразил Кан. – Не было бы никаких шансов. Расписку ведь вы не брали, верно?
– Да нет, конечно. Это совершенно исключено. Дело-то деликатного свойства, да и какая расписка между друзьями?
– Ну да, зато эта скотина теперь как сыр в масле катается, – фыркнула Бетти. – А Грэфенхайму пришлось голодать.
– Ну, не то чтобы голодать… Но я рассчитывал, что на эти деньги смогу оплатить свое повторное университетское образование.
– Скажите лучше прямо, на какую сумму он вас обчистил? – безжалостно потребовала Бетти.
– Ну как… – Грэфенхайм со смущенной улыбкой потупился. – Там были самые редкие мои марки. Шесть-семь тысяч долларов любой знающий скупщик за них бы отдал.
Бетти, хоть явно слышала эту сумму не впервые, снова потрясенно распахнула свои глаза-вишенки.
– Целое состояние! Сколько добра можно было сделать на эти деньги!
– Хорошо хоть они не достались нацистам, – чуть ли не оправдываясь, проронил Грэфенхайм.
– Вечно это ваше «хорошо хоть»! – напустилась на него Бетти. – Вечно эти эмигрантские присказки, это самоутешение ваше! Вместо того, чтобы проклясть эту сволочную жизнь на чем свет стоит!