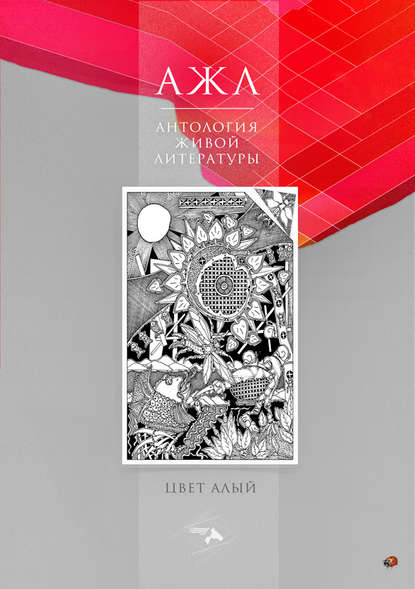Полная версия
За пределы атмосферы
– Ты пр-ра‘льно ск-зал, я пр-рыеду на Пр-рыдпор-ррто‘аю, пога‘аррю за тебя! Возьмут, аб-зательно возьмут!
– Никуда ты больше не поедешь один, бедоносец такой, – тихо, но все еще свирепо сказал Густав. – Вместе. Шмотки вот высохнут. И ша.
Глава 3. Где милиция – там трагедия
Новый год буквально завтра, и зарплату выплатили. По КЗоТу, теперь называется просто Трудовой кодекс, но смысл тот же, и норма та же: если день выплаты попадает на выходной, то должны накануне. Тридцатое декабря, все хоккей. А вот дело, которое навязали ему, лейтенанту Томилину, на горб, – делу конца-краю и вообще разумного разрешения не видится, и ни на что это дело не похоже. Банальное происшествие – девчонка упала в речку – обрастало все более странными странностями. Лейтенант Томилин по пятому разу перечитывал протокол медосвидетельствования потерпевшей Виктории Худяковой, восемьдесят четвертого года рождения, ученицы девятого класса гусятинской средней школы, и в ушах у него так и звучал голос Алевтины Прокофьевны, фельдшерицы: никогда не видала таких здоровых, про таких только в учебниках пишут да в космос посылают.
Отодвинул протокол, крякнул, взялся за пачку «Примы». В пепельнице было полно, но идти вытряхивать не хотелось. Почему-то казалось – вот-вот осенит. В пачке сиротела последняя сигарета. Зажевал мундштук, не закуривая – ворочал в челюстях, нюхал, листал протоколы опросов не меньше дюжины человек местных. Насчет самолета. Или не самолета. Чего-то, с чего выудили девчонку из речки, возили несколько часов незнамо где, потом вытряхнули на улице явно не в себе – сам видел, это уже не протоколы! А потом это «что-то» исчезло в юго-западном направлении – и никто не видел куда, а те, кто видел, плетут такую отборную чушь, что их самих впору в «Скворечник» или в Бехтеревку…
За окном шел снег. Мокрый, липкий и обильный. Протоколы тоже слиплись. Еле разлепил. Вот – Овчинникова Людмила Петровна, кассирша железнодорожной кассы, двадцать седьмого декабря, в день происшествия, как раз дежурила. Видела летящий низко над путями аппарат. Летел наискось, от поселка в сторону кладбища, как раз над переездом. Окошко кассы смотрит на платформу электрички и переезд, так что тут все чисто, не врет. Крылья аппарата якобы взмахивали. Утверждает это определенно, повторила несколько раз. На вопрос насчет спиртного возмутилась. Еще вяло сказано – возмутилась. Что реально было – то не для протокола. Даже нарисовала форму этих крыльев, по-бабски назвав – «в виде юбки-многоклинки или зонта», но накорябала четкий полукруг с радиальными элементами каркаса. Снизу, под аппаратом, был прикреплен длинный предмет. Крепление похоже на кисти рук, схваченные в замок. Показала жестом и тоже настаивала на этой формулировке. Нос аппарата в виде головы человека с развевающимися волосами. Прямо-таки требовала именно так и записать. Записал. Хотя зря. Начальник увидит такие художества и точно обоих в «Скворечник» отправит.
Еще двое видели аппарат летящим – Кархунен Герман Леонович, кладбищенский сторож, и Тухватуллин Рашид Сагитович, старшина-контрактник внутренних войск. Сторож видел его сбоку, поэтому подробностей насчет формы крыльев не сообщил. Про звук говорил зато. Не идеально тихо все-таки эта зараза летела – какой-то, да был звучок. Тихий свист, так определил гражданин Кархунен. Что-то развевающееся вдоль всего аппарата упоминал. Светло-серый цвет. Круглая, облизанная головка спереди – «как у городошной биты», городошником в прошлом был, двадцать пятого года, ветеран войны. Про пьянку – не отпираясь сказал, что выпил в тот день рюмочку за помин души, с родственниками погребаемого. И что это бывает часто. Но что меру свою он знает, и до чертей болотных, «суо-лембойд», только городские могут допиться, они-де и в речках тонут, и в мороз мерзнут, и в бане им плохеет – порода такая рыхлая.
А контрактник – тот видел чертову машинку снизу. Как и кассирша. Военный человек, из вертолета десантировался – а поди ж ты, не упомянул ни шасси, ни хвоста. И крылья машущие. Кто Россию защищать в случае чего будет, если у нас военные такие? Ну, храбрый он – это может и быть, дагестанских-то моджахедов упороли на раз, так там, поди, после развала Союза никто ничего круче арбы и ишака не видывал. Что ж, и Рашиду этому любая техника – шайтан-арба? Одни подробности чего стоят: пока это летело, словно шторкой прикрыло груз, притороченный снизу. Груз старшина определил как козу или барана. Четвероногое. Видно, свежезарезанное. С него, типа, капало.
А уж те, кто видел само происшествие… Вот – несовершеннолетняя Лаптура Галина, сержант внутренних войск Марамзин Иван Дмитриевич и компьютерщик-частник без юрлица Скуридин Тимофей Калистратович. Все трое в один голос – про какую-то рыбу. То, что взлетело, сначала плыло по той самой речке. Где там плыть-то хоть, а еще местными себя называют. Галина Лаптура и Тимофей Скуридин, по крайней мере. Переплюйка, все речки у нас такие. Там и утонуть по большому счету негде, потерпевшая пошла ко дну только потому, что декабрь, вода ледяная, упала с приличной высоты. Кстати, протокол осмотра места происшествия сам писал. Ой, прочтет начальник – будет полный кабздох…
Мундштук сигареты изжевался в хлам. Закурил. Дым поплыл знаком вопроса. Расплываясь в отдельные нити, пряди. Нити вели… куда они вели? В цешок, что ли, опытный, филиал питерского оборонного КБ, который прозябать-то прозябает, да нет-нет и грянет чем-нибудь, продукцию за ворота выпихнет – их, что ли, эксперименты? Рыба… Торпеда? Очень уж они морщатся, когда такое – и вслух. Ему, Томилину, туда ходу нет. Если они – спокойно можно рапортовать об окончании дознания. И – в возбуждении дела отказано.
Потому что ну на что такое похоже, когда трое разом, почти в одних и тех же выражениях – у рыбы треснул плавник вдоль и раскрылись крылья, это как? И – у рыбы была человеческая голова с волосами, это как? В одних и тех же выражениях – да попросту со слов одного и того же источника слухов, вот что это такое! Ну-ка, сравнить…
Положил три протокола рядом. На улице было уже совершенно темно. Четыре часа дня, а темнотища. Настольная лампа не помогала. Зажег верхний свет. Так называемый дневной. Зазудело, застрекотало – дрр. Невозможно думать. Раздавил окурок. Из пепельницы посыпалось. Плюнул – зло, по-настоящему. Разлетелось по столу. Плюнул еще раз, выругался, смел все назад в пепельницу, вынес. Отказано, отказано в возбуждении, Новый год на носу, какое еще возбуждение. Вернулся, прочитал еще раз эти три. Нет, в разных выражениях. Но все-таки. Узнать, не было ли недавно телепередач с похожим сюжетом.
Открыл дверь в коридор – там клевал носом Гущин. Удачно. В Гусятино тогда как раз вместе ездили.
– Принеси старые газеты, какие найдешь. Телепрограмму чтоб за прошлую неделю.
– Это все по тому делу? Про пьяную школоту, про русалку? Все отделение ржет. – Исчез и появился с кучей старых газет. Томилин уткнулся в телепрограмму. Ой, нет. Кабы еще знать, про что все эти «настоящие мистические» и «материалы Би-Би-Си». Помнится, в школе учился – в Би-Би-Си кидались грязью газеты. А потом – «мона все». Замгубернаторов убивают. Депутатов. А он должен мозги себе кочкать – кому-то русалка померещилась. Когда на самом висит две поножовщины, семнадцать краж, задавленный на стройке, четверо пойманных с наркотой и две пропавшие девицы. Отказано в возбуждении. Ша.
Взял бланк и написал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Мотив – происшествие не причинило физического вреда несовершеннолетней Худяковой Виктории, так как имеется протокол медицинского освидетельствования, подписанный, и так далее. Подпись. Число. Точка – чуть не продрал бумагу на этой самой точке. Сдал-забыл, как в школе бывало – и все.
– Ну, и пра-льно, Серёг, – сказал Гущин. – Там уж о другом жужжат, святая вода у них теперь. Бабам завсегда про что-нидь жужжать надо…
Редко бывает, чтобы милиция выражала глас народа, но тут – поди ж ты. Жужжало, как выразился Гущин, и впрямь все Гусятино, и ближайшая округа, и до Безносова долетало. А началось с того, что вечером двадцать девятого перекрыли в Гусятине воду. Начиная с девяносто второго такие истории въелись уже в ткань местного быта, случались по всякому поводу – от порыва проводов в ненастье до неплатежей поселковых предприятий – и никто не удивлялся. Вяло, без запала матерились – и все. Если отключение длилось неприлично долго – по чьему-нибудь начальственному мнению неприлично, поселковых никто не спрашивал, «нам тут некогда референдумами заниматься», сказал директор филиала могучего питерского НИИ, которому принадлежала поселковая котельная – то приезжали водовозки. И простым делением их объема на число жителей выводилось, по скольку на душу нальют. Так было и в этот раз. Утром тридцатого приехала водовозка, и выстроилась очередь.
А кому идти в эту очередь – никак у Худяковых не вырешивалось. Глава семейства проснулся оттого, что в прихожей раздались приблизительно равномерные звуки, похожие на падение некрупных предметов. Это Катерина, идя по прихожей в сторону туалета, пинала попадающиеся под ноги ботинки, сапоги и прочие обувки. Потом донесся ее голос:
– И этот… (пинок) гр-рязь! И еще… (снова пинок) др-рянь! И штаны… (хшш – звук тряпки по линолеуму) бр-росил, в чем стирать буду? Лежит… (опять пинок), мотня такая, зла моего не хватает!
И так далее, и тому подобное. Обычно это тянулось до пока не надоест. Хотя «Мотня», будучи одним из домашних прозвищ главы семейства Матвея, могло означать, что гнев хозяйки был не очень настоящим.
– Кать… Ну… – пробурчал он примирительно. – Это ты понервничала, с этой… милицией… Тудыть ее… Ну не надо… Все пучком…
– Кто за водой пойдет? Там уж, еть ее совсем, последний осадок раздали, он глазами еще только хлопает! Милицию приплел! Дочь украли – тоже лежал!
– Дак вернули… Кать, да хрен с ними всеми, хорошо же все уже…
– Ему все хорошо! Жрать чё будем, стряпать с чего буду?
В туалет идти было по такой тактической обстановке нельзя. А надо. И Матвей, как истинный гусятинец, вспомнил о колодце, раньше поившем полпоселка, а теперь затинившемся от малопользования. До него идти – через кусты, а там можно.
– Кать, а Кать! Давай я те новогодний подарок сделаю. Из колодца наношу!
От неожиданности Катерина замолкла на полминутки. Этим надлежало пользоваться безотлагательно. Матвей лихо вскочил с постели – ведь поднуживало, подзуживало! – быстро оделся и живой ногой был уже в ванной, где ждали приготовленные на такой случай ведра и канистры. Взял одно ведро и одну канистру. А еще взял в прихожей веревку – уже очень давно на колодце ее не было, и нельзя было оставлять, сперли бы в один момент. И – вперед, вперед, вперед! Вот уж первый этаж, дверь, дырка в бетоне плиты перед подъездом – ноги обходят ее сами, это в спинном мозгу, не глазами, декабрьская темнота не мешает. Двор, заледеневшие лужи, и наконец-то кусты. Жжж – зазвучало по веткам. Уффф. Облегчение-то какое. А теперь придется выполнить обещание…
Ведро, канистра, потом еще ведро, еще канистра. Третий этаж вроде и невысоко, но двадцать-то кило в руке тащить тяжеловато.
– Кать, давай пока ванну наливать не буду? Вдруг быстро дадут?
– Ладно, ладно…
И стали умываться, как делалось в таких случаях – из большой миски. Из нее можно черпать самому, никому рядом с кружкой стоять, поливать не надо. Когда дошел черед до Вички, раздалось ее удивленное:
– Во, осадку-то! Дела-а… Мам, глянь!
Катерина, собиравшаяся стряпать – на работе всех распустили праздновать, мало ее, работы-то, – вернулась в ванную. На дне миски для умывания лежал тонкий зелено-бурый слой, начисто скрывавший рисунок на эмали миски. А над этим бурым вода была голубоватая. И на потолке играли от нее блики. Такой воды она в жизни не видывала.
– Слуш, – начала она неуверенно, еще не вполне понимая собственную мысль, – а да-ай сольем эт-дело… в чайнике же все равно кипятить…
Сказано – сделано. Чайник завел утреннюю бодрую песню. Вичка перебила:
– Ой, ма, а теперь, гляди, и в ведре!
И Катерина убедилась, что на дне ведра появился точно такой же слой осадка. Вот только что, пять минут назад, когда зачерпнула миской, не было. Хотя вода была мутновата. А теперь лежит слой грязи, но над ним чистота невиданная.
– Ты как это сделала?
– Как обычно, – пожала плечами дочь. – Зачерпнула.
И отерла друг о друга мокрые пальцы.
– Руки-то зачем было окунать? – проворчала Катерина.
– Посмотреть хотела… – совсем уж под нос буркнула Вичка.
– Ну чё ты ее, она и так натерпелась, – донесся из комнаты голос Матвея.
– Ведра не насмотрелась? Назад в ясельки? – продолжала ехидничать Катерина, но Вичка вскинула голову и сказала твердо и рассудительно:
– Я руки-то в миску окунула – сразу осадок – шшш, вот и хотела посмотреть: а в ведре тоже так будет? Окунула, а оно – шшш, и так же. Тоже, и эту воду сольем?
Матвей уже стоял в дверях ванной, и голубые блики от ведра, полного чистейшей водой, плясали над ним и на его лице.
– Ух ты… – только и вымолвил он. – А если я?
Сунул палец во второе ведро. Ничего не произошло. Обыкновенная мутноватая вода. Чтобы готовить на ней, надо было ее отстаивать ночь или цедить через тряпку. Зачерпнул миской. Естественно, тоже ничего особенного. Рисунок на дне – подсолнух и листья – стал от нечистой воды еще более желтого тона, чем предусмотрел художник. Но он был отчетлив, никакого осадка за считанные секунды образоваться не могло. Вика окунула в миску пальцы. Раздалось негромкое шипение, напоминающее газировку, – и подсолнух почти исчез под пеленой буро-болотного, тинистого налета. А вода заголубела прозрачно и льдисто.
Матвей чуть миску не выронил. Поставил на раковину, выпрямился, перевел дух.
– Т-ты как… к-как это делаешь? Т-ты… это шутка такая новогодняя?
– Не знаю. – И Вичкины щеки, круглые и розовые, порозовели еще сильнее. – Новый год, вообще-то, завтра… послезавтра…
– Т-ты чё плетешь? – продолжал Матвей. Катерина погладила его плечо:
– Ну, ну, сам же говорил: натерпелась… И мне подарок решил сделать, и вообще… чего мы тут столпились?
Вышла из ванной, протолкнувшись в дверь мимо Матвея.
– Доча! – донеслось уже из комнаты. – А ты можешь так всю воду?
– Не знаю… А может, чаю сначала?
Чайник вовсю сипел на газу. Отвлеклись на завтрак. Начайпитый Матвей, против обычного, не лишился всякой подвижности. Его не меньше жены интересовало, что будет.
Катерина потратила миску воды, чтобы хоть как-то ополоснуть ванну. Потом вылила туда ведра, осторожно сливая с осадка. Ополоснула, выплеснула этот осадок насколько могла тщательно. И налила в ведро из канистры. Не дополна.
Вика сунула в ведро пальцы. Газированное шипение. Глинистая муть на дне и хрустальная прозрачность в объеме.
– А другой рукой? – подозрительно спросил Матвей.
Налили в миску. Другой рукой получилось абсолютно то же самое.
– Я и носом могу попробовать, – хихикнула Вика.
– А чё, давай!
То же самое. Чистая вода отправлялась в ванну. Носом, губами, локтем, лбом, подбородком, даже коленкой – результат был одинаков. Катерина попробовала некипяченую, только слитую с осадка воду на вкус – и застонала-заголосила от блаженства.
– Матвей, а давай еще… Давай полную, никогда такой хорошей воды не было!
Тащиться снова на улицу, где набирал силу морозец с неизбежным гололедом, не очень хотелось, волохать тяжести – тем менее, но, отведав воды, он преодолел лень. Даже самые вкусные воспоминания детства были далеки от наблюдаемой реальности.
В панельных домах стены тонкие, слышимость абсолютная. Только муж за порог – позвонила соседка:
– Чуть-чуть воды, хоть в кастрюльку, не отольете? Я и заплатить могу… Или чего-нибудь взамен. Не достоялись, перед нами вода кончилась! Мы потом на родник сходим, но я ж одна-то…
Кроме двух общественных колодцев в поселке был родник. Но сравнительно далеко, не в жилой застройке. Туда ездили, у кого была машина или мотоцикл, ходили и с ручными тележками. Но от рассыпчатой бабули такого не потребуешь. И Катерина налила в кастрюльку, дрожавшую в руках.
– Ой, спасибо-то какое, век не забуду!
К середине дня половина соседей у Худяковых перебывали. Не открывать нельзя – любой не глухой слышит, что жильцы тут, ссориться с соседями в маленьком поселке – себе дороже, неспроста говорят: не покупай дом, а купи соседа. И денег нельзя брать потому же. Брали в обмен продукты, самую немудрящую огородину, варенье и прочее – это считалось не платой, а угощением. Еще дважды сходили за водой вместе, женщины несли ведра, Матвей – канистры. Налили полванны воды. Чистейшей, как в горном роднике в «Клубе кинопутешествий». К вечеру некоторую часть этой воды пришлось раздать. Картошка, морковка, варенья и прочие сельхозпродукты наполняли «хрущевский холодильник» под окном, а что не влезло – обосновалось под кухонным столом. Воду уже называли святой. Скопление народу на лестнице все более напоминало осаду. Или очередь за водкой времен талонов.
– Мам, а если я прямо, кто просит, там поочищаю? Давай? – предложила Вика.
– Пусть отец проводит, тогда.
По квартирам соседей, знакомых и полузнакомых, повторялось то же самое. На улице встретился местный поп отец Стефан. Покачал головой:
– От лукавого, все от лукавого. Лишь благодатью Спасителя чин водосвятия совершается. А женщина – сосуд греха и врата геенны.
Робкие отвяли, покинули стихийную процессию, ходившую из дома в дом. Но их, робких, было мало, атеисты и пофигисты преобладали абсолютно – сказывалось соседство большой питерской науки. Была наука – была и вода в водопроводе, а захирело наукоемкое производство – худо стало и с водой, и со светом, и волей-неволей заходило в головы, что правы были «совки»: церковь – это тьма. Неробкие любопытные все прибывали.
И вдруг отец Стефан съежился, сморщилось лицо, потекли слезы – кто ближе стоял, увидели не прозрачные капли, а отблескивающие багровым, тяжелые, чуть не со звоном падавшие на мерзлую землю. Упал на колени:
– Господи, помилуй! Истинно говорю: не желал зла!
Шарахнулись. Заозирались. Прямо перед батюшкой стоял – не разобрать, кто или что. Высоченный. Черный весь. Лицо прикрыто маской, как у сварщика. Только искры белые и голубые у сварщика от сварки, а не от маски – а у этого от маски. Разлетаются. Попадают и жалят. Раздались крики:
– Ты, на хрена, растак твою!
– Больно же! А-а-а!
– Дьявол! Свят, свят, свят!
Задуло морозом, белые и голубые искры обращались в железные острия, разносились вихрем, дующим от черной фигуры, кололи все глубже, невыносимей. Народ побежал. Падали, топтали упавших, перескакивали в заячьем ужасе, летели вроссыпь. Только что была толпа в пару сотен человек, для Гусятина почти предел – а все по кустам уже. На батюшку не оглядывались. Да и на что глядеть … Черная лужа на песчаной земле, снежком испятнанной, ряса плавает. Высокий перед лужей чуть не вровень с фонарями, ветер хлещет почти как в наводнение, а плащ на нем не шевелится. И тени нет, ни одной. Если фонари горят, то у человека столько теней, сколько фонарей поблизости. А тут ни одной.
– Тени нету! – завопила поросячьим визгом, как на стену налетела с разбегу, гражданочка в длинном светлом пуховике и круглой шляпке.
– В милиц…
Но крик про милицию оборвался на полузвуке, побелело лицо кричавшего, даже в натриевом свете фонарей видно было, как мгновенно, рефрижераторно выбелилось. Высокий повернулся, ударило снопом голубых искр, пронзило – и все, упал, такая же лужа, как от попа осталась. Шмотки плавают.
Народ уже драпал через шоссейку. Врубали по тормозам поздние ездоки, отворачивали, визг стали, дым колодок. Кто-то завалился набок, в кювет. У кого-то не удержало – врезался, звон, вопль истошный. Тут же встала пробка, надсаживались матом. Один мотоциклист, расчетливо свернув загодя, прогарцевав по кочкам полеглой травы, рванул на высокого. Проскочил сквозь фигуру. Тот даже не пошевелился, орясина стоеросовая!
– Бей, пусто-о-ой!
Прорычал, обдавая дымом, тускло-багровой гарью и грозовым запахом электротехники, вломился, уже неуправляемый, в прутняк возле пятиэтажного дома, по нижней ступеньке крыльца местного магазина – и заглох в березу. Осел безжизненно, не полетел по инерции вперед – ополз по седлу, по колесу, пачкая машину студенистой массой. Но уже услышали «бей». Еще двое. Один на мопеде, другой пеший, зато в руках монтировка. Тонко взвыл мопед, песок и снег взвихрились из-под заднего колеса. Раздался звук удара, и высокий исчез. Не ушел, не взлетел – исчез, как погас. Руль мопеда выворачивали друг у друга из рук двое, неистово борясь, мотор надрывался вхолостую, колеса рыскали, извивались кольцами удава, клубился вихрь песка, щебня, щепок от оставшегося с ярмарки прилавка.
– На мопеде – этого не знаю, не местный. А другой – Густав Васильич, фрезер из института питерского, из цеха! И силенок-то у него – глиста в скафандре. А мопед держал! А мотор в полную мощь молотит. И тот тип – он же тоже старается и ногами, и кулаками. А никак. Не достает, и ша. Подбегает этот, с монтировкой – ой, дак Тимка же Скуридин, «скорая компьютерная помощь»! Монтировкой – хрясь! И достал. Аж меня зашатало, в самых ребрах отдалось, затрещало, такой… ну, не грохот… а как снаряд жахнул или бомбу с войны подорвали. И еще народ вокруг повалился, а потом повскакали, кинулись. И – все, усвистали.
– Какой мопед? Номер запомнил?
– «Рига», номер старый, горбачевский… буквы ЛЕВ, потому и запомнилось… хорошо, цифры… не запомнил, – потускнел Ваня Марамзин, сержант-контрактник.
Милиция явилась-таки – это вам не утопленник, это массовая авария с дракой и тремя трупами. Примчалась, представляемая все тем же лейтенантом Томилиным. Ванины светло-серые глаза поначалу распахнуто сияли, сметанно-белое обычно лицо раскраснелось от морозца, азарта чуть не случившейся драки и радости облегчения: все-таки не пришлось сцепиться в ближнем бою с неизвестным в фонарный столб ростом, не переехали мотоциклом, не прошило очередью непонятных иголок. А лейтенант обязан был в считанные секунды принять решение: или поселковый поп Стефан и двое неизвестных – прохожий и мотоциклист – убиты, а уехавший имеет к убийству самое непосредственное отношение – тогда нужно преследовать его. Или это несчастный случай, на крайняк – непреднамеренка, тогда нельзя никому давать расходиться, а надо опросить как можно больше народу, зафиксировать как можно больше подробностей, вызвать экспертов… Черт возьми, восемь часов вечера, тридцатое декабря! Этот самый Марамзин – только позавчера по происшествию с похищением виделись – может оказаться спасением!
– Гущин, остаешься. Опрос, эксперты, все такое. Вот он тебе в помощь. Уполномачиваю. Ванька, я тя как человек и как лейтенант прошу! И гиббонов вовлекайте, вон, едут! – мотнул головой на подъезжавших гибэдэдэшников. – Я погнал!
Прыгнул в служебный уазик и помчался, ища глазами мопед. Или кого-то очень высокого. Или попросту – кто драпает, того и ловить. Просто так не драпают.
– Первый, я одиннадцатый, одиннадцатый, иду по следу преступника, на УАЗе, Гущина оставил на месте, передайте ГИБДД: преступник на мопеде «Рига», госномер – буквы эЛ-Е-Вэ, цифры неизвестны, нужна будет их помощь…
Резко свернул вправо. След мопеда уходил вдоль железной дороги, в воинскую часть. Флотскую учебку. Машина съехала с асфальта, запрыгала по грунту. Дальше лес, ходу нет. Догнать мопед без машины… Разве что – вдруг у него кончится горючка.
– Первый, первый, я одиннадцатый! Продолжаю преследование пешком, по лесу, машину оставил на шестьдесят третьем километре!
Вывалился, дверь – хлоп. Побежал. Хорошо, что почва хоть чуток подмерзла. Под ногами похрустывало. Безветрие, еле заметный снежок. И темнота. Фонарик позволял видеть только тропинку и след. След мопеда. Или велосипеда, если ему, Серёге Томилину, не повезло и он свернул не туда. Но ему не могло не повезти, ехали сегодня по снежку уже, а в то же время след не запорошило – значит, только что, вот-вот. Он нагоняет. Нагоняет. След все четче – значит, он двигается быстрее мопеда.
По спине ползли струйки пота. Он, не сбавляя хода, расстегнул куртку. Сбросил фуражку. Стало неудобно – когда бежишь, надо правильно двигать руками, в них по возможности ничего не должно быть. Выругался, снова нашлепнул на макушку. Хоть бы какой звук! Мопед трещит громко – слышно должно быть далеко. Лес сгущался. Выбегая на прогалины, Томилин шарил фонариком вокруг. Раз или два увидел уже флотские постройки – стены с выступами, крыши или навесы. Про эту часть ходили легенды – якобы когда-то, сто лет назад, отсюда выстрелили таким калибром, что вчистую разбабахали английский корабль и много тысяч немцев с одного удара, и их генерал велел повернуть назад. И что якобы снаряды такого калибра подвозят по тайному военному метро прямо из Питера. Могут и ядерный тактический зарядить. Но это так, треп. Вроде русалки, похитившей школьницу.