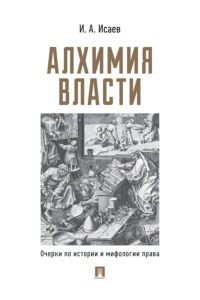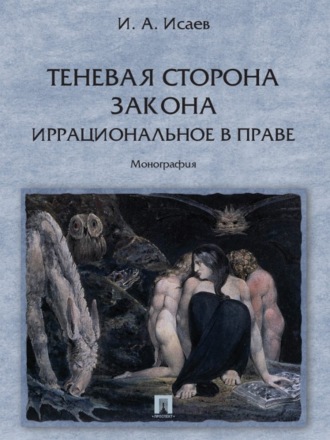
Полная версия
Теневая сторона закона. Иррациональное в праве
В толковании стоиков только мудрец способен к праведным действиям, каковые суть действия, предписываемые Законом, все же остальные заведомо обречены греху. Плутарх замечает по этому поводу, что «стоики делают Закон противоречивым, предписывающим то, чего люди заведомо не способны избежать»93. Поскольку все человеческие дела уже осквернены злом, то и вся жизнь есть по сути бессмысленная комедия. Но столь глубокий пессимизм как раз и ведет к объективистскому законничеству, а законничество – к индифферентному учению об отсутствии каких-либо степеней у добродетели и порядка: то и другое для стоиков оказывается чем-то вульгарно материальным и малоразличимым. (Противопоставляя свою позицию стоической доктрине, этому по сути «семитическому пантеизму», считавшему божество единственным творцом как благ, так и зол, Плутарх призывает вернуться к пифагорейско-платонической традиции: материя почитается им как чистое ничто, обретающая бытие лишь посредством формы, поэтому и сама материя не может быть причиной космического зла – такой причиной является собственно только движение материи ко злу.)
У стоиков добро и зло оказываются объективными и «нейтральными» космологическими процессами, протекающими в душе, так же понятой как вполне «материальная» вещь. То, что представляется злом, в космических масштабах таковым вовсе не является, объективно служа совершенству мироздания в целом (чего человек не в состоянии увидеть). Существование же физического зла и сопутствующей ему случайности есть только результат дефекта познавательной способности. Когда же проблема зла сводится к проблеме послушания божеству, понятому как личность (как в иудаизме), притом что источником зла мыслится трансцендентная сущность, оно все равно оказывается втянутым в сферу божественного и понимается как одна из божественных сил94. Причиной любых движений является душа: движений к благу – душа мира, движений ко злу – хтоническая душа, и эта последняя будет злой лишь в том смысле и только потому, что она по существу иррациональна.
Стоический философский индивидуализм, с его пониманием и различением трансцендентного и имманентного, здесь превращался в отвлеченное и «нейтральное» нравственное учение, в принципе не зависимое от религии. Разум побеждал страх смерти, более того, подрывал привязанность к самой жизни и ко всему земному95. Он демонстрировал свое господство над чувством и заодно уничтожение чувства как стимула человеческой деятельности: это была философия господствующего эгоизма.
Главной побудительной причиной римской глобалистской всеобщности Р. Иеринг считал тот же эгоизм, ставший основной чертой римского духа: это был, конечно же, мощный мотив, не позволявший вещам и ситуациям долго оставаться самими собой в их естественном развитии и побуждавший их к перемене и совершенствованию. Ни одна часть политической, государственной и правовой жизни не осталась, как это доказывает состояние всех институтов, предоставленной самопроизвольному движению, ни одна не покоилась на миссии, не связанной с традицией, – всюду высказывалось стремление «привести к сознанию высшее начало и провести это с самой строгой последовательностью в частностях всех правил, форм, символов»96. Римляне всерьез воспринимали лишь то, что имело видимую цель. Сама их религия руководствовалась мотивом целесообразности и эгоизма: они чтили богов не за то, что те боги, но за то, что они обеспечивали им свою помощь. С богами заключался договор, обязывающий обе стороны. Еще в древности римлянам удалось перенести понятие о праве из области души и чувства в область рационально рассчитывающего разума, сделать из права независимый от влияний мимолетного субъективнонравственного взгляда внешней механизм, «объективный, но поддающийся регулированию». Это овнешнение и объективирование означало победу идеи целесообразности над субъективным чувством нравственности. Тогда же и установилось господство отвлеченного правила, когда отдельный случай стал приноситься в жертву всеобщему правилу97: Иеринг называет это тиранией юридической дисциплины, где правила применяются ради самих правил. И эта дисциплина требовала не столько справедливости, сколько целесообразности.
«Fas» означает «слово богов» или божественный Закон, отличный от «jus». Это был символ власти слова, действующего в отрыве от человека как его источника, власти магической. В безличной речи зримо выражалась воля богов, которые изрекали, что людям дозволено или не дозволено делать, и доводили до человека эту свою волю через посредство толкующего ее жреца. Здесь проявлялась таинственная и сверхчеловеческая власть слова, нечто небывалое и потрясающее; «jus» же выражал только сущность права – не деяние, но изречение выступает в нем как составляющая права. Понятие это весьма близко понятию «клятвы» или «присяги»: произнося их, творят само право98. Только в соприкосновении с божественным возможно (при посредстве жреца) воспринять и истолковать существо права, и тогда это будет справедливое решение. «По заслугам нас назвали жрецами, ибо мы заботимся о правосудии, возвещаем понятия доброго и справедливого, отделяя справедливое от несправедливого, отличая дозволенное от недозволенного»: вообще правосудие есть познание божественных и человеческих дел, наука о справедливом и несправедливом (Ульпиан).
У стоиков Зевс (Юпитер) выступал олицетворением «мировой души» – «направитель и распорядитель» всего сущего, и если добродетель в человеке совпадала с его разумом, то она тем самым связывала его и с разумом всего космоса, возвышала его над статусом конкретного человека, делая «гражданином мира»: абстрактный человек и абстрактная мораль уходят здесь из сферы социального и политического в закрытую область индивидуального морализаторства.
Настоящий Закон оказывается заключенным только в душе человека и отнюдь не соответствует и тем более не тождествен внешним законам и правам. (По мнению некоторых современных психоаналитиков, право в таком толковании более приближалось к табу, чем к этике, еще и с той разницей, что табу грозит неопределенным злом и с неопределенной стороны: «Если это неопределенное наказание не выполнялось, тогда оно возвещалось со стороны сообщества, и так создавался переход от табу к закону»99.) В диалоге «О законах» Цицерон вновь развивает тему нравственного и юридического «очищения». Люди несут настоящие наказания за свои преступления вовсе не по суду – их больше тревожат и преследуют фурии, но уже не с пылающими факелами, как это изображается в трагедии, а угрызениями совести и мучительным сознанием содеянного зла. Это и есть голос «естественного» права. Но если справедливость заключается только в повиновении писаным законам и «установлениям народов», то этими законами будет пренебрегать всякий, кто полагает, что так будет ему выгодно (ведь сами философы утверждают, что все следует измерять выгодой); если же справедливость не проистекает из природы, то, значит ее, и вовсе не существует.
Раз закон может создавать право из бесправия, то почему же он не может создать благо из зла? Видимо, потому, что у человека есть только одно реальное мерило, позволяющее отличить хороший закон от плохого, – это природа. Руководствуясь ею, отличают не только право от бесправия, но и вообще все честное от позорного100. Весь процесс истолкования Закона понимался как процесс поиска истины. Только ощутимое можно принимать на веру, и эмпиризм права фактически перерастает здесь в его натурализм: природа римлянином воспринимается «на ощупь», а не глазами, как у грека. Ритуал и ордалии насыщяются чувственным материализмом. Ауспиции становятся последним формальным моментом для того, чтобы признать юридическое решение законным, и воля того, кто выносит решение, имеет здесь большее значение, чем само полученное знамение. Сакральное оказывается не магической силой, помещенной в самом объекте, но имманентным юридическим качеством, которым сам этот объект обладает101: использование жестких и неизменных формул, кажется, имело целью придать «телесность» самому процессу правоприменения. Дж. Вико полагал, что «достоверное» применительно к справедливости возникло еще в «темные» времена, начавшись с установления приоритета тела. Когда же появляется артикулированная речь, оно постепенно переходит на достоверные идеи, т. е. словесные формулы. И только значительно позже разум остановится на выборе самой истины, устанавливаемой из фактов, ведь «истина – это формула, свободная от каждой отдельной формы» (Варрон). Истина обязательно изрекается, иначе она будет неявной: и только в оракуле она становится сама собой.
«Принцип предостережения» (предвидения искомого результата) характеризуется двойственностью. Его питает, с одной стороны, идея всеобщего «естественного закона», с другой стороны, этот принцип обладает нравственной универсальностью, поскольку действует повсюду и сохраняет силу на всех уровнях (от семьи до государства). Его нравственный потенциал есть только продолжение Закона, стихийно действующего в мире и дающего начало реальности. «Процедура “предостережения”, зажатая между космологическим началом (которым она вдохновляется) и нравственной необходимостью (в которой она находит свое выражение), не может приобрести чисто политического характера». Вот почему так трудно бывает превратить ее в устойчивый институт102. Оракул же не может однозначно восприниматься как законодательный акт, хотя сами политические действия и согласовывались с его предписаниями.
Различение внешнего и внутреннего приходит в античную юриспруденцию вместе с разделением на объективное и субъективное право. Феноменологизм, присущий стоической философии, обусловил отстраненный, «нейтральный» характер объективного права. Надмирный взгляд философа как бы со стороны наблюдал за движениями Закона, не затрагивающего сущности бытия, которую составляла добродетель. Право остается неживой и чуждой материей, противоречащей даже природе вещей. Аскеза гасила жизненный порыв, а скептический разум отрицал наличие смысла: отстаивая свои субъективные права, личность должна была терпеть и сопротивляться слепому и бессмысленному давлению внешнего Закона.
В отличие от платоновской «идеи» такая установка сознания, как стоический «лектон», казалась неким «безразличием», о котором вообще нельзя было сказать, существует оно или не существует: это было нечто, подобное категории «истинности», которая, в отличие от «истины», всегда абстрактна и неконкретна. Оно было лишено субстанциональности, но зато демонстрировало мыслительную подвижность.
По сути же оно противоречило традиционной «телесности» античной истины. Умопостигаемый «лектон» позволял устанавливать ложность или истинность вещей, сам при этом оставаясь нейтральным. (А. Ф. Лосев тонко подметил определяющую роль этой категории во всей мыслительной системе стоиков. Она являла собой только внешний рисунок, формальную структуру, более или менее полную картину происходящего, но не само это происходящее в его субстанциональных и действующих причинах103.)
Стоический же Логос был совмещением всеобщей структурной закономерности и всеобщего рокового предопределения (всеобъединяющим элементом, совмещающим случайность и закон, здесь оставался Гераклитов «художественный огонь»), природа же рассматривалась стоиками вполне имманентно на основе собственной внутренней логики. Очевидно, что столь трансцендированные понятия, используемые стоиками, не могли не придать позднеантичным представлениям о Законе исключительно умозрительные и абстрактные черты.
Вселенная у стоиков есть «тело», но тело специфическое – нереальное или мнимосуществующее; вселенная – поэтому фикция, «лектон», поскольку она бестелесна. Реально существующими являются только отдельные вещи (напротив, у платоников всякая конечная вещь существует лишь постольку, поскольку существуют Единое и вселенная), но и они непричастны сущности истинно сущего, поскольку тленны: следовательно, «ничего нет, и это – состояние всего, которое и есть ничто». Из области этически-оценочной («добро – зло») дуализм здесь незаметно перебирается в область онтологического. Но и после этого фикция должна была все еще ощущаться вполне «телесно», чтобы оставаться достоверной: а так как люди по природе склонны стремиться к истине, то там, где они не могут ее действительно достичь, они придерживаются достоверности (Дж. Вико).
«Телесность» права у стоиков менее ощутима, чем в древней юриспруденции. Там ощущение уже было подтверждением присутствия истины, у стоиков оно свидетельствовало только о достоверности наличия. В древней юриспруденции веру в истинность питал миф, у стоиков достаточно было фикции. В ходе процедуры манципирования издревле говорили «рука», вместо абстрактной «силы» рука означала здесь «власть», ощутимую и конкретную; при совершении обряда стипуляции из рук в руки передавался символический узел, которым Юпитер некогда приковал гигантов к пустующим землям; торжественными словами (а по началу «телесным взятием во владение») была заменена фиктивная сила виндикации. Вместо непонятных абстрактных форм в юридических процедурах использовались или изображались персонифицированные телесные формы, например маски (личность персона), которые иногда символизировали собой целые семьи или корпорации и становились «законом дома» или «юридическим лицом». Вико замечает: «Создатели римского права еще не понимали интеллигибельных универсалий и создавали вместо них фантастические универсалии, и как впоследствии поэты искусственно выводили на театр персоналии и маски, так раньше они естественно выносили “имена” и “личности” на форум». Древняя юриспруденция оставалась насквозь поэтической: она представляла совершившееся несовершившимся и несовершившееся совершившимся, живых – мертвыми, а мертвых – живущими в их наследстве. Она ввела большое число «масок» без субъектов, «созданных фантазией права, стремясь найти такие мифы, которые сохранили бы за законами их важность, а для фактов указывали бы соответствующее право». Все фикции древней юриспруденции на самом деле были замаскированными истинами, а формулы законов из-за своей строгой ограниченности назывались carmina, т. е. способностью находить словесные тонкости и формулировки. Истолкователи права стремились сразу к двум целям – сделать его нераздельным и вечным: ведь «если отпадет цель закона, отпадет и закон». Цель закона – это «равная полезность причин», которая может отпасть (в отличие от этого смысл закона означает соответствие закона факту и обстоятельствам, над которыми этот смысл господствует). Но формула «время не является фактором основания или распада права» означала, что время не создает и не кладет конец праву, но является лишь доказательством того, что тот, кто обладал правом, сам пожелал от него отказаться104. Рационализм оказался самым привлекательным аспектом в стоической философии права. Казалось, что при его посредстве возможно выстроить четкую систему смыслов, отказавшись от спонтанных и иррациональных эмоций и страстей. «Прозрачное и неживое» право оказывается включенным в целую цепочку фикций, что позволяет ему существовать в любой ситуации и демонстрировать свой «нейтралитет». Но именно он парадоксальным образом придаст такому праву революционный характер, когда его лозунгом становятся аполитичные «добродетель» и «законность». (Такое право примет свой по-настоящему реальный облик только в «фиктивном теле» государства, после того, как будет революционным путем преодолена ситуация «двух тел властелина (сакрального и физического)»: с превращением монархии в демократию носителем «бессмертного» политического тела станет народ. Но граница, порог между «физическим» народом, который подчиняется праву, и «идеальным» народом – сувереном, который сам «создает закон», по-прежнему остается той же, что была между человеческим и политическим, сакральным телом властелина. Закон создается представителями «реального народа», но от имени «идеального народа»: скачок от одного к другому как раз и выражен в процессе законодательства105.)
Фикция позволяла стоикам принять и легитимировать любые реальные преобразования, формируя особый «юридический мир» и отвлеченное, но логически завершенное «юридическое пространство». Она одинаково эффективно могла работать как в границах божественного, «естественного» или позитивного права: это великое изобретение существенно повлияет и на всю дальнейшую политическую историю.
Стоическое представление о фикции заключалось в том, что она как нечто несущее представляла собой проявление небытия. Фикция искренне относилась к небытию как к своей настоящей сущности. Фикция размывала непоколебимую и формализованную основу традиционных законов. Природный же закон стоиков, «логос», управляющий миром, выступал как промысел и судьба, как непрерывная цепь причин и следствий: (необходимость и судьба здесь явно отождествлялись). Но право несовместимо как с предопределением, так и с отвлеченным детерминизмом. Стоики противопоставили им, как им казалось, вполне живое, или «естественное» право. Можно было уступить природе, но не судьбе: «ход вещей», эта грандиозная фикция, впервые сформулированная стоиками, предполагала неизбежные уступки как природе, так и «естественному» порядку. Натуральным, «естественным» и «нормальным» считали нормальное состояние юридического акта, не требующего изменений, противоречащих его характеру, и тем самым угрожающих сделать его недействительным. Фикция оказывалась инструментом сохранения правовой реальности: гераклитова убежденность в том, что человеческие право и правопорядок должны подчиняться естественным космическим закономерностям, была воспринята здесь вместе с приоритетным значением одной из обоготворяемых им стихий – всепоглощающего и светоносного огня. (Посидоний вновь обратится к гераклитовской теме «огня» как светоносного начала, позже продолженной уже христианскими богословами: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы» (ап. Иоанн. 1, 5).
11. «О противоречиях у стоиков»:
«естественное» право и справедливость
Сама воля человека находит необходимое ей правило для своих действий в природе. Эпиктет был убежден, что в мире нет ни добра, ни зла: мы сами превращаем по нашему желанию вещи в добрые и дурные, тем самым снимая ответственность с провидения. Если заблуждением пользоваться рационально, то даже оно принесет благо. И если право божества на нашу любовь основано на ниспосылаемом им распределении благ и зол, то значит, и божеством может стать всякий, кто как «государь способен произвести такое же распределение»: вот почему божеские почести оказываются людьми тем, кто имеет власть над внешними вещами.
Здесь, как представляется, и лежал тот духовный корень деградации, в которую впадает духовный Рим в эпоху цезарей (позже Боссюэ повторит подобную же аргументацию, попытавшись доказать, что все повелители – божества, так как подобно Богу они тоже обладают властью распределения благ и зол. Поэтому им должно повиноваться как самой справедливости106), зло не существует реально, но только в воображении, которое принимает боль и смерть за само зло, однако разум и воля, поправляя воображение, устраняют это зло: «Как не ставят цель для того, чтобы не достигнуть ее, так и сущность зла не существует в мире» (Эпиктет). Зато само воображаемое становится источником материальности, оно, являясь частью природы, взаимодействует с нею, превращая фантомы в осязаемые вещи. (Так, в римской религии души покойных, материализуясь, могли свободно посещать и действовать в этом мире, требуя для себя достойного уважения и жертв107.)
Одобрение природы и всего того, что она производит или уничтожает – вот та идея, которую Марк Аврелий развивает до логического конца. Гераклитов «поток вещей» не поддается регулированию, и сама свобода поглощается им: «Материя бежит, течет, подобно реке, душа только сон или дым». Мир, как и человек, не имеет будущего, ведь абсолютная необходимость, в которой пребывает мир, так близка абсолютной случайности. Слепой Закон, господствующий над вещами, почти совпадает с беззаконием, непостижимость рока дополняется непостижимостью случая. Марк Аврелий сравнивает вселенную с надоевшей театральной пьесой, смерть является в этой ситуации успокоением от бесцельного напряжения жизни: у стоиков было «слишком сильно чувство идеала для того, чтобы они могли удовлетворяться реальностью вещей, которая была для них отвратительна. И у них не было достаточной силы для того, чтобы направить ее для достижения этого идеала»108.
И Цицерон опирался на чисто стоические представления о тождестве высшего блага с нравственностью и о признании нравственно совершенного поведения соответствующим «жизни согласно природе». «Природа» и здесь получала двойное значение как понятие, включающее все свойства человеческого существа, и как приведенная в порядок совокупность всего существенного. Норму совокупного действия всех способностей человека Цицерон видел в существовании вечного и объективного порядка, основанного на божественном духе Закона, из которого выводятся все человеческие законы. Тем самым он сознательно отождествлял «божественный закон» и «закон природы», и вслед за ним и ряд римских писателей периода Империи стали подчеркивать эту повелительную силу заложенного в человеке нравственного требования. (И только постепенно в этом процессе стало меняться само представление о «природе» – под ней начали понимать не идеальное совершенство и развитие, но ту внутренне пустую и «испорченную природу», на которую указывает наш опыт: природа вдруг оказывается не идеалом нравственности, а ее противоположностью, а сама нравственность остается только дуальным соединением реального и идеального в человеке109.)
Марк Аврелий и Плотин, воспитанные на греческой традиции, вслед за Платоном верили, что подлинный мир весь одержим злом, а человеческая деятельность в нем представляет собой нечто абсурдное. Но зло космоса есть явление видимое и тем самым противопоставленное некоему невидимому и благому божеству, статусу или личности, находящимся за его пределами. Радикальный дуализм предполагал трансцендентность. Однако классический стоицизм не желал признавать трансценденции подобного места или личности, поскольку сам он являлся только «одноэтажной системой». Там, где видимый космос противостоял Богу, принцип противопоставления предполагал неизбежное наличие материи или «тьмы», не созданной и сопротивляющейся божеству. Возможным было также появление и некоего злого личного начала или «планетарных демонов». Такое понимание материи как источника зла и независимого принципа имело под собой как греческие, так и восточные корни. Но если в персидской и манихейской вере мир был театром непрекращающегося конфликта добра и зла, то христианская, гностическая и герметическая концепции стремились представить его уже переданным в полную власть зла. Гностик Валентин полагал, что мир создан по проекту некоего «невежественного демона», Ориген считал, что его создателем является «бестелесный ум», который злонамеренно обратился к худшему; стоики же говорили об опасном для души «принудительном служении природе»110.
Тезис о принудительном служении подчеркивал отчужденность человека не только от трансцендентальных инстанций, но и от самой природы. Только внутренний мир и собственная воля остаются в распоряжении человека. Все окружающие его законы чужды и враждебны душе. И если сама жизнь ничего не стоит, то что же говорить о природе и человеческом общежитии? Предельный индивидуализм, странным образом встроенный в космополитическое миросозерцание, вел стоиков к столь же предельному нигилизму и акосмизму.
У стоиков само божество оказывается началом всякого зла: ведь оно либо не справляется с задачей по его предотвращению, либо допускает зло сознательно. В космосе господствуют казуальность, провидение и судьба, поэтому сам Зевс оказывается одновременно причиной и порока, и наказаний. Эта идея, возросшая на почве еще семитических идеологий, предполагала, что само божество создает злодеев только с одной целью – прославиться и расправиться с ними, – такой поворот мысли свидетельствовал о все еще господствующем в стоицизме «ваальном» понимании божества. Во всяком случае представление о нормативном для человека рабстве богу не очень согласовывалось с эллинистическим представлением об олимпийской божественности.
В ситуации «мирового пожара», учат стоики, Зевс пожирает, подобно Ваалу, всех остальных богов, которые как бы «сворачиваются» в нем, явно тяготея к самоубийству, – этот духовный мотив позже приводит к учению о растворении в божестве или ипостасном с ним единстве. Плутарх, один из первых серьезных критиков стоицизма, подметил рано проявившееся абсолютное безразличие стоического божества к нуждам людей: «телесный верховный бог, делающий и добро, и зло, человекоподобные ваалы; промысел, занимающийся, с точки зрения мудреца, пустяками на лежащей во зле земли, – вот как выглядела в главных чертах семитическая идеология глазами эллина»111. У стоиков добродетель только в самой себе могла найти конечную цель, поскольку она санкционировалась сознанием. Божественное воздействие на мир осуществляется по необходимым и неизменным законам, все явления находятся во «взаимном сцеплении», и никакое внезапное изменение не нарушает гармонии целого. (Христианство же предполагает, что божественная иерофания обнаруживает себя как раз в неожиданных изменениях, вносимых в обычное и рутинное течение явлений, в нарушении стабильности мирового порядка, в чрезвычайных ситуациях, чуде.)