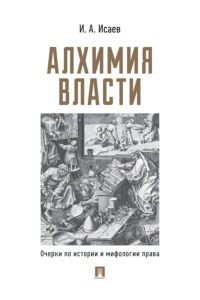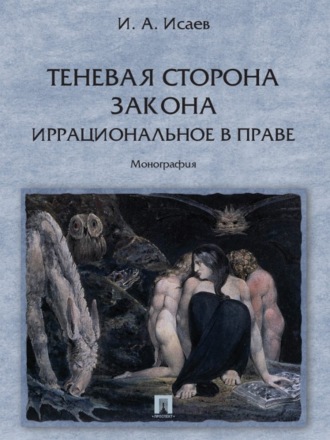
Полная версия
Теневая сторона закона. Иррациональное в праве
Двоякое оправдание власти – полезностью и мерой насущной необходимости – проистекало из внутренней двоякости самого понятия римской власти и подлежало постоянной легитимации и релегитимации. Авторизация власти происходила через вмешательство инстанции, абсолютно другой, чем фактическая власть. Ведь власть как способность что-то делать и власть над теми, которыми командуют, – это две разных власти. При этом «командная» власть как способность принимать решения и «что-то делать» существует без каких бы то ни было средств принуждения, а власть заставлять делать что-то других не имеет сама по себе никакой легитимности. Здесь рождается новое отношение между правящими и управляемыми – отношение, когда управляемые решают через свое «автоматическое сопротивление» держателям власти заставить этих последних «не ограничивать свой кругозор только текущим моментом, но открыться для будущего, которое вобрало бы в себя и наследие прошлого»78.
Власть над чем бы то ни было по своей главной тенденции всегда есть абсолютная власть, это ее естественная, в своей крайности «смертоносная тенденция». Химерично мечтать о самоограничении власти, ибо власть на ее пути может остановить только другая власть. Начиная с Декарта любая реальность стала осознаваться как сила и точно так же стала пониматься и власть – как сила, способная к действию, а значит, только сила и может остановить эту силу. (Шарль Пеги подчеркивал различие между двумя типами власти – «архия» и «кратия», – где первый тип ассоциирован с такими понятиями, как «принцип», «начало», «источник», а второй – с «силой», «энергией», «господством», «мощью»79. Франсуа Федье предполагал, что первый феномен может быть определен как власть компетенции, второй – как власть управления и командования.)
Только Рим и продемонстрировал настоящую «волю к власти». Легитимированное господство по сути оставалось именно господством. Полнота власти была ее характеристикой и подтверждалась амбициозными претензиями империи на глобальное пространство. Римский мир – это вся вселенная, и не менее того. Теократическая идея, пришедшая с Востока, материализовалась на Западе. Духи «мировой пещеры» воплотились здесь в политические и юридические структуры и институции. «Телесность» римского права требовала непременной реализации. Закон воплощался в порядок жизни (что позволит ему позже войти в плоть и кровь европейских обществ, усвоивших вместе с рецепцией римского права и римское представление о власти и господстве).
Господство, могущество действуют, когда власть обладает «телесностью», способностью превращать материю жизни. Идея становится реальностью, когда «овладевает массами». Власть должна воздействовать, иначе это не власть. Не бывает потенциальной власти, она – всегда действенна, даже еще не проявившись. Античность знала эту особенность, присвоив власти имя Рока и Судьбы. Олицетворением такой власти был Закон, настойчивый, ощутимый, непреклонный. Только христианство попробует одухотворить его, подняв до уровня трансцендентного.
Но ни св. Иоанн, ни ап. Павел еще не говорили о власти в подобных терминах. В «Послании к римлянам» ап. Павел заявляет: «Пусть всякий будет покорен властям, которые свыше. Ибо нет власти не от Бога, и существующие власти установлены Богом. Бойся, если делаешь зло, ибо не напрасно она носит меч, она орудие Божие, чтобы вершить правду и чтобы наказывать делающего злое». Власть и начальство в греческом правописании означали одно и то же. (У Платона и Демосфена власть понималась в буквальном смысле реально «осуществлять что-либо»; позже от власти этот смысл отделяется и перемещается уже к идее свободы, т. е. права.) Правящие у ап. Павла обозначены как «архонты», в латинской транскрипции как «принципсы», и эти субъекты приобретают значение законных правителей: «дан тебе служитель, чтобы вести тебя к богу». Позже Б. Паскаль интерпретирует это положение следующим образом: «Большинство людей претерпевает власть с негодованием, но осуществляет ее со спокойствием». Управление здесь противостоит служению, одновременно и почти незаметно сливаясь с ним: власть и подчинение навсегда останутся в этом нераздельном сочетании. Римский опыт дает этому множество авторитетных примеров. Но право и свобода так и не смогут устранить насилие и принуждение из арсенала власти: и кажется, что других способов действовать она вовсе и не знает.
9. «Телесность» и формализм права
Рудольф Отто подчеркивал этимологическую нерасчлененность понятия «сакральное», для пояснения введя в оборот термин «нуминозное». Им обозначалось ощущение чувства непознаваемого, жуткого, могущественного, соединенное с чувством зависимости, подвластности, бессилия перед лицом всемогущества. Трансцендентное проявляет себя здесь как реальное, но при этом совершенно иное80. Священное могло явиться во внешнем откровении божества, в знамениях и знаках: римляне использовали возможность зафиксировать эту способность сакрального путем использования разветвленной системы ауспиций и разного рода гаданий.
Ранняя римская религия не знала чисто субстанциональных божеств. Так, у нее не было специализированных божеств Земли, Солнца, Луны, моря. Кроме того, римские боги, казалось, были совершенно безразличны к вопросам нравственности: даже Юпитер, наказывая какого-нибудь своего оскорбителя, совершал тем самым только акт личной мести, но не действия, направленного на защиту и соблюдение отвлеченного нравственного принципа. Ситуация изменилась, когда этот грозный властитель становится гарантом «общего договора» и начинает мстить уже не за себя, а за попранные Закон и правду. Ф. Ф. Зелинский считал, что вся римская религия и ее нравственные начала носили сугубо юридический, конвенциальный характер: «Риму выпало на долю развить правовой элемент человеческой души: в этом заключается едва ли не большая часть его мирового значения». Правовые понятия проникали во все возможные проявления индивидуальной и общественной жизни. И за религией Рима ее правовой характер остался надолго – вплоть до наших дней81.
Однажды сделав Юпитера своим покровителем, Рим навсегда присвоил себе звание «избранного народа» и от имени бога смог диктовать свои законы другим народам. Принимая их в пределы своей империи, Рим вместе с ними принимал и чужих богов, включая их в свой пантеон. Однако право, которое он предлагал и навязывал иноземцам, могло быть только римским. Джанбатиста Вико определял теологию как науку «истолкования богов», будучи убежден, что и для древнейшей римской юриспруденции была характерна именно интерпретация (т. е. «вхождение в отцов»), и она считала справедливым лишь то, что сопровождалось торжественными обрядами божественных церемоний, – здесь, видимо, и находились «корни суеверного отношения римлян к торжественным юридическим актам».
Затем появляются соответствующие формулы исков и формулировки для договоров. И мистическая теология, или наука «о языке богов», предполагавшая понимание божественных тайн, уступает место юридической формалистике. Однако люди слишком легкомысленно успокаиваются, когда, не уловив разумности или усмотрев противоположность, ссылаются на «неисповедимость установлений, скрытых в бездне божественного провидения». Более поздняя политическая теология, считает Вико, заменит провидение прагматичным «государственным смыслом» (по определению Ульпиана, известным не каждому, но лишь немногим опытным правителям). «Суеверно соблюдая слово законов, римляне прямолинейно применяли их ко всем фактам, даже там, где они оказывались суровыми, жестокими и тяжкими». Само провидение установило порядок, в котором действовали священные законы («тайные и запретные для простого народа»), «естественные» и выражавшиеся посредством священных торжественных обрядов. Традицию эту затем восприняла монархическая государственность, при которой «государственный смысл» опять же стал доступен лишь немногим мудрецам, и соответственно своему вечному свойству сохраняется «втайне внутри кабинетов» (Дж. Вико)82.
Ритуальность римской юриспруденции сделала ее почти неотличимой от римской религиозности. Прагматизм и воля к власти пропитывали собой обе сферы. Давно утратив демократические и республиканские принципы, империя формировала сакрализованное пространство власти. Единственной централизующей силой в нем оставался теперь культ государства или культ императора (что было одним и тем же). Вместе с ним внешние, трансцендентные черты приобретали институты власти, культа и права. Механицизм властной машины превращал Закон в оторванный от жизни и насильственно к ней применяемый инструмент, рационализированный и мертвый.
Достоянием римского религиозного и юридического рационализма, тяготеющего к институциализации, было то, что он сделал священство должностью. Римский дух тем самым низвел религию до уровня средства для достижения политических целей, совершив превращение, которое значительно было облегчено самим дуализмом римского стиля жизни и права. Два высших должностных лица, две правовые системы (jus civile и jus gentium), два типа народных собраний, постоянные сдержки и противовесы – такой была политическая система Рима. Религиозная «теокразия» (слияние божеств Востока и Запада) усугубляла ситуацию. Формализм и допускаемые в культе фикции (подмена объекта символом) вполне согласовывались с двойственной ролью жреца, понтифика, авгура и пр. Рудольф Иеринг весьма красочно описывает ту теневую сторону, в которой догмат и культ оказались в эти времена государственного доминирования над религией, сделавшего из нее политический институт. «Это прегрешение разума по отношению к предмету, от которого ему следовало вечно держаться в отдалении, это сознательное или бессознательное иезуитство, которое соблюдает незначащие формы, потому что они ему не мешают, а действительные преграды, которые противопоставляет ему религия и выказывающий себя в религиозных вопросах хитрости юридического искусства, – вот отталкивающая темная сторона римского характера»83.
«Внешний» характер римского права обусловил его «телесность» (понятие лица вообще появляется в процессе усиления реалистического восприятия и субстанциональности правовых реалий). Вместе с ним рождается и идея «юридического лица», одновременно усиливая формальный аспект права. Магическая формула была в состоянии породить реальное отношение или субъекта. Номинирование становится излюбленным приемом юриспруденции, поименование вещи порождает саму вещь. Вместе с этим в право приходят в изобилии юридические фикции, на уровне формально-логическом, трудно отличимые от действительности.
Персонифицированный Закон греков тоже был по-настоящему «телесен» и одновременно отдален от людей. Метаморфозы и причуды «олимпийцев» и подземных богов в действительности могли создавать множество реальных проблем для земных обитателей, а полубоги и герои были посредниками в этих отношениях. Божественные предписания вырастали из божественных деяний, кристаллизующихся в традицию. Но содержание самого Закона оставалось тайной для людей, хотя и обязательным к исполнению. Логика Закона была логикой мифа, недоступной смертным. Сами мифические и полумифические (как Солон, Ликург) персонажи были законодателями и творили законы при посредстве героев и гениев. Дочери Зевса, Дике, олицетворявшая справедливость и закон, а также судебный процесс, и Эвномия, гарантировавшая «благозаконие», хорошие законы и правопорядок обеспечивали закономерное течение жизни: богиня Пония распоряжалась карами и возмездием, исполняя приговоры.
Римские боги к юриспруденции относились с меньшим вниманием: Закон превращается здесь в некую «общую клятву государства», предварительно пройдя через стадии и формы «индивидуального» закона – обязательства и обязательного договора84. Римская трактовка закона приобретает откровенно формалистические черты, следуя старому афоризму Аристотеля: «юридическая форма есть существенная форма». Строгий правопорядок мыслился уже заключенным в законах, конституциях принципсов, плебисцитах, санатусконсультах и разъяснениях юристов («закон – это то, что мы разъясняем»). Тот, кто точно исполнял формальности, достигал желаемого результата.
Понтифики, жрецы культа Юпитера, интерпретировали законы, придавая им актуализированную форму, поэтому настоящая сила закона, скорее, заключалась не в нем самом, а в том внешнем выражении, которое придавали ему интерпретаторы. Менялась сама процедура использования закона: легисакционный процесс буквального применения сменялся формулярным процессом, допускавшим уже достаточно свободное толкование содержания закона, правда, не выходящее за пределы формулы. Наконец, экстраординарный процесс уже полностью находился во власти претора-интерпретатора.
Регулярная юриспруденция уступила место юриспруденции истолковывающей и судебному праву, сохраняя при этом в неизменности старый принцип: «Тот вправе толковать закон, кто вправе его устанавливать». (В «Дигестах» Павел замечает, что «в неясных фактических обстоятельствах следует принимать во внимание то, что более правдоподобно или обычно делается».) Субъективизм римской юриспруденции, порожденной особенностями теологического мышления латинян, оказался самодостаточным фактором, пропитывающим на протяжении столетий всю правовую жизнь Рима: «Бессмысленно исследовать основания действующих норм, иначе многое из того, что устойчиво до сих пор, будет низвергнуто» (Нерва). Консерватизм гарантировал стабильность порядка, а формализм – его точность и артикулированность.
Теодор Моммзен отметил то обстоятельство, что римское право решительно отвергает всяческий символизм и его принципы и требует взамен прежде всего точного и ясного выражения воли. Соответствующим образом и из римской религии довольно рано были исключены все аллегории и вместе с ними и всякие виды олицетворения. (Только значительно позже эллинское влияние вновь возвратит религии эту образность.) Сферы публичного и частного права, священного и светского права при этом разграничивались самым тщательным образом. Само же римское богопочитание было тесно привязано к земным благам и только второстепенным образом связывалось с тем страхом, который вызывают необузданные силы природы. Подобный рационализм в этой области обусловил определенный оптимизм как римской религии, так и римского права: здесь испытываемый страх не был похож на тот тайный трепет перед всесильной природой или могущественным божеством, и на те иерофании, которые были свойственны пантеистическим или монотеистическим религиям. «Римская действительность была не чем иным, как полем силы, ее идеальность – миром формально упорядоченных отношений во времени (благоговение перед предками, право собственности pater familias, законы наследования и т. д.) и в пространстве (дороги, армии, проконсулы, пограничные валы и т. п.)». Христианство же представляло себе мир как одну из сторон метафоры, другая сторона которой придавала миру смысл, идентичность и определенность, располагалась уже в ином мире85.
Греческое религиозное мышление свободно могло обратить простое и естественное созерцание природы в метафизически глубокое космическое воззрение, а простое нравственное или правовое понятие – во всеобъемлющее гуманитарное воззрение. Римское же воплощение абстрактных понятий о божестве было для этого слишком прозрачным: бог был одухотворенным, но земным явлением и свое адекватное изображение находил в этом самом явлении, поэтому и «созидаемые человеческими руками стены и идолы могли только исказить и затемнить столь тонкие духовные представления», как кажется, римское богослужение не нуждалось ни в многочисленных изображениях, ни в роскошных жилищах для богов (законы Нумы, кроме древнего символа двуликого Януса, не признавали никаких других персонифицированных образов и предписаний), сами жрецы и понтифики придавали религиозным актам строгую и лаконичную форму нравственного закона.
Абстрактные нормы расширяли сферу применения законов и область «судебного права». Для их толкования открывалось обширное поле деятельности. Алгоритм дедукции вел мысль от общих принципов к конкретным казусам. Религиозная составляющая права оставалась доминирующей. Традиционные ценности и принципы сосредотачивались в границах «квиритского права», новеллы и методы более свободного толкования – в области «права народов». Священное право по-прежнему диктовало свои общие начала в юридической теории и судебной практике. (Совершивший преступление прежде всего подвергался воздействию божественной кары и проклятию, и только после этого к нему применялись санкции светских властей.)
Характерно, что, несмотря на постоянно расширяющиеся территориальные пределы Империи и процесс постоянного заимствования чужеземных богов и обрядов, римскому государству все же удавалось сохранять по преимуществу национальный характер своей власти и своего права (первыми религиозно-юридическими обычаями, которые действительно воспринял Рим, были греческие оракулы и предписания Сивиллиных книг): «Язык римских богов ограничивался немногими словами да или нет и самое большее – выражением божественной воли, выявленной по результатам метания жребия»86. Этот лаконизм и афористичность надолго оставались характерными свойствами римского права, облегчая его рецепцию в инородные системы и стимулируя процессы кодификации. Вместе с тем они же делали право довольно неподатливой для философских спекуляций материей, сохраняя тем самым его исконный консерватизм. Закон оставался прежде всего формулой, допускавшей интерпретации в толковании и применении, но строго оберегающей свой первоначальный смысл. Его априорность не нуждалась в дополнительном аргументировании, и это придавало ему заведомо сакральный характер, тем более ярко выраженный, что сферы права и религиозности практически не разграничивались, проникая друг в друга.
Если греки в своей религиозности, а следовательно, и в юриспруденции тяготели к мифам, то латиняне, как кажется, по преимуществу тянулись к вере. В римских культах наблюдателя поражает кокой-то их местный и домашний характер. Семейные культы и семейная власть составляли важную неразрывную и неделимую «ячейку общества». На более общем уровне римскую религию от греческой, конечно же, отличали ее имманентность и актуальность, дополненные некоторой расплывчатостью общих представлений. Римские божества были некоей объективацией «мировой воли», этого «размытого множества» требующего буквального соблюдения раз и навсегда установленного ритуала, в котором не могло быть пропущено ни одного слова, запечатленного в законах Ромула и Нумы. Чистота и точность ритуала имели здесь первостепенное значение, порождая при этом угрожающую смыслу отвлеченность объективаций. Римский полидемонизм, основанный на обожествлении отдельных знаменательных для человеческой жизни моментов и сил, тем самым разрастался до бесконечности. Подобная актуальная имманентность соответствовала и всей постоянно нарастающей юридической казуальности римского права.
Рудольф Иеринг отмечал, что везде, где право выступает в истории, оно всегда бывает связано с другой силой, которая дает ему как бы печать высшего посвящения, – с религией. Особенностью римского сознания было то, что оно уже на раннем этапе своего становления осознавало противоположность между fas (т. е. религиозным началом, принявшем форму права) и jus (человеческим установлением, конвенциальным правом). Первое опиралось на волю богов, оно оставалось неизменным, второе – было изменчивым и вполне способным к развитию. Такой дуализм, основанный на аналитических способностях латинского сознания, позволял долгое время сохранять паритет между религиозной и политической сферами римского общества. Для римлян политический союз без религиозного единения вообще был немыслим. Боги становились богами государства, их влияние не простиралось далее его границ и расширялось вместе с ними.
Римский интеллектуальный мир был преимущественно миром отвлеченных максим и правил, величественной «машиной», все истребляющей или подчиняющей себе. В этом мире право не было убеждением, мнением или знанием, но прежде всего волей. Только воля могла дать праву то, на чем покоилось его существо, – действительность. Для римского права были характерны два качества – его логическая последовательность и его консерватизм (Р. Иеринг), римлянам была свойственна особая манера примирять всякую неудобную последовательность с практической потребностью, для чего их мышление прибегало к фикциям, фикция, как проективное воображаемое основывается на откровенном парадоксе, форме, в которой «разыгрывается представление в театре мировоззрения», здесь наглядно выражались противостояние между кажущимся и существующим и вся глубинная непоследовательность, искони существующая в мире. Закон непостоянства вещей и иллюзорности видимого приводит к тому, что все, что прежде казалось реальным и окончательным, внезапно проявляет свой преходящий характер и переходит в иную форму и измерение87.
Факторами, которыми Закон приводился в соответствие с воображаемыми общественными потребностями, Генри Мен считал справедливость, закон и юридическую фикцию. Последняя используется в праве для того, чтобы при изменении содержания и применении закона сохранить «видимость» его неизменности, опираясь исключительно на его буквальное выражение. В отличие от латентного действия фикция «справедливости» как фактор открыто вмешивалась в Закон с целью его более «правильного» применения, и в этом случае основанием всегда являлся авторитет самих принципов справедливости, уже обладавших достаточной степенью «святости»88. Но сакральный характер правовых предписаний, однако, наталкивался на «букву закона», которая могла быть по-разному истолкована, но обязательно учтена. Справедливость тем самым проистекала из божественного или природного источника, а буквальные конфигурации были уже инструментом приземленного человеческого разума. Разум же вынужден был употреблять все свое остроумие, чтобы найти средства и пути, которыми могло бы быть достигнуто это необходимое примирение объективной последовательности с возникшей субъективной практической потребностью. Решить задачу помогал консерватизм римского права, позволявший, не разрывая ни по форме, ни по содержанию связей с традицией, подчинять правовым нормам и направлять правообразующую силу по обычному пути.
Константин был первым императором, который отрыто задал правила для юридического творчества: он игнорировал решения авторитетов и объявил подлинными якобы принадлежащие Павлу сентенции, не знающие ни сомнений, ни колебаний. Юристов-буквоедов он менял на сговорчивых риторов. В конституциях понятийный аппарат перекрывался императорской пропагандой: «манера становится многословной, помпезной и бессодержательной», противоположной точности классиков89.
Тогда как правовые положения лежали на поверхности, а правовые институты и правовые понятия в процессе своего применения открывались сознанию, направляющие право силы покоятся в самых глубочайших недрах бытия действовали постепенно и хотя и пронизывали собой весь общественный организм, однако не выступали явно. Они не являлись чем-то практическим или собственно правовым фактором, но были только качествами, характерными чертами правовых институтов, некими общими мыслями, которые оказывали определенное влияние на образование практических положений права. Но как только правовые положения покинут повелительную, императивную форму предписаний и запрещений и превратятся в правовые понятия, тогда критика получает возможность обратиться уже к их логической оценке, а не к рассмотрению их практической пригодности. Но это уже будет область формальной осуществленности права, требующей прежде всего легкости и надежности применения абстрактного права к конкретным и частным случаям90.
10. «О противоречиях у стоиков»:
«неживое право» и фикция
Существовавшая более пятисот лет стоическая школа все это время почти не меняла своих принципов. Идеи стоицизма представляются бесцветными и суровыми в сравнении с учениями греческих классиков, но доктринально они получили не менее широкое признание, чем учения Платона и Аристотеля (Бертран Рассел)91 и со временем захватили даже внимание известных практикующих политиков и правителей. Законы, по которым существует мир, исходят, в представлении стоиков, от некоей верховной силы, которая всем управляет. Это верховное начало пронизывает мир, являясь для всего существующего имманентной нормой. Стоический пантеизм тем самым делал природу и питаемое ею «естественное» право в их динамике определяющей силой, которая направляет и волю человека. Поэтому эта воля должна была сама собой стремиться к согласованности с миром. Вместе с тем стоики полагали, что добродетель есть сердцевина человеческого духа, делающая его свободным, и что она не зависит от действия высших сил.
Современный метафизик уверяет нас, что мы слишком поспешно представляли стоиков в качестве тех, кто отвергает метафизическую глубину, находя в ней только «адские смеси, соответствующие страданиям» – телам и дурным желаниям. Однако их система включала вместе с «этикой физики» и природы еще и саму целую «физику» как учение о «фюзис». «Если страдания и дурные желания суть “тела”, то и благие намерения (например, справедливые договоры) тоже “тела”. Но если отдельные тела формируют некую отвратительную смесь, то совокупность всех тел, взятых как целое, формирует совершенную смесь, космическое настоящее, по отношению к которому зло выступает только как вредное следствие» (Ш. Делёз). У стоиков «физика» категорически противопоставлена логике. Их система держится на парадоксальных противоречиях и антиномиях: одновременно бесстрастности и продуктивности, безразличии и эффективности. События и действия подчиняются здесь иным законам, чем некие телесные причины; и они определяются только их связью с бестелесной квазипричиной. Сам «стоик-мудрец» отождествляется с такой квазипричиной, он как наблюдатель и созерцатель располагается на «поверхности бытия, на прямой линии, пробегающей поверхность». Плутарх пояснял, что «мудрец-стоик» подобен стрелку из лука; поскольку он прилагает все силы не для того, чтобы достичь цели, но для того, чтобы пойти на все, что от него зависит, чтобы достичь этой цели. Тем самым «мудрец-стоик» не только постигает и желает события, но и как бы представляет его, производя тем самым его отбор92.