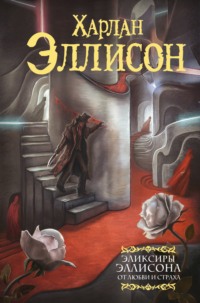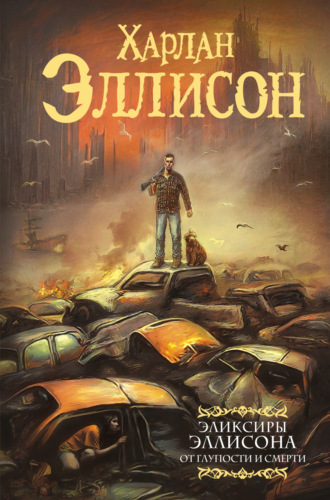
Полная версия
Эликсиры Эллисона. От глупости и смерти
Самым большим страхом матери было то, что однажды она попадет в дом престарелых. Они казались ей адскими дырами, хранилищами для брошенных близких, апофеозом отвержения. Она умоляла нас никогда не помещать ее туда.
Совсем незадолго до ее смерти в кардиоцентре Майами состоялся консилиум, на котором ее состояние было определено как «стабильное». Иначе говоря, она нуждалась в опеке и надзоре. Они собирались ее выписать.
Нам предложили перевести ее в дом престарелых.
Конечно, они сформулировали это иначе. Они это умеют. Но речь шла именно об адской дыре, о доме престарелых.
Беверли, моя сестра, пережившая мучения последних шести недель у кровати матери, была вынуждена найти такое место. В пятницу, 8 октября 1976 года, в день, когда маму должны были увезти из кардиоцентра на машине скорой помощи в ад, хотя она, несмотря на то что была в глубокой коме и не могла знать, что предназначено для ее мертвой, но все еще дышащей телесной оболочки, решила умереть в 5:15 утра.
Я каким-то таинственным образом понимал, что она об этом знала.
Мой шурин Джерольд позвонил мне и сказал, что Беверли сообщила ему о смерти мамы. Теперь он хотел выяснить, есть ли у меня какие-либо пожелания по поводу похорон.
– Только два, – ответил я. – Закрытый гроб, это во-первых. И второе, я хочу произнести надгробную речь.
С этой минуты и до воскресенья (день прощания), все семейство Розенталей дрожало от страха, представляя себе, что я собираюсь произнести.
Они знали, что я никогда особо не любил весь их клан, и теперь боялись, что я закачу какую-то сцену, ляпну что-то такое, что унизит их в присутствии друзей и родных. Их вовсе не волновали ни мама, ни мои чувства. Но, думаю, так бывает со всеми семьями, со всеми похоронами.
Я летел ночным рейсом и прибыл в Кливленд (куда уже перевезли тело мамы, чтобы похоронить ее рядом с отцом) в полседьмого утра. Из аэропорта, взяв напрокат автомобиль, я поехал в дом Беверли и Джерольда. Когда Джерольд попросил у меня текст моей надгробной речи, продемонстрировав тем самым страх всей семейки перед «чокнутым» Харланом и тем, что этот псих может выкинуть, я солгал шурину, сказав, что ничего не писал, что речь будет импровизированной, такой, как сердце подскажет.
Начали съезжаться родственники и, за исключением дяди Лью, который всегда был самым симпатичным и понимающим членом клана, все они обходили меня стороной, как будто я был шакалом, в любую секунду готовым вцепиться им в горло.
В похоронном бюро равви Розенталь тоже был на взводе из-за моего участия в церемонии. Ведь все происходило в Суккот, в еврейский праздник урожая, и прошла всего неделя со дня Йом Кипур, наисвятейшего дня для нормальных евреев. И поэтому все молитвы, которые обычно произносят на прощании с покойником, было нельзя произносить. Разрешалось изменить несколько слов. Несколько, совсем немного.
Равви Розенталь к нашей семье не имеет отношения. То, что его фамилия и девичья фамилия мамы была Розенталь – всего лишь совпадение. Типа как Смит. Или Джонс. Или Хаякава. Или Гётц. Или Пьяцца. Прекрасный человек, почетный главный раввин всего Кливленда, сильный и решительный голос Кливленд Хайтс и других пригородов. Он был выразителем дум местных евреев в течение многих лет. Но он не был знаком с моей мамой.
Родственники мамы были польщены тем, что церемонию проведет равви Розенталь. Не составит большого труда проследить за их мыслью: все благопристойно, внешние приличия соблюдены, все согласно протоколу. Но я, как вы могли уже догадаться, был озабочен не тенями бытия, а обыденной реальностью.
Тем не менее, равви сказал мне, что он сам откроет церемонию, а уже потом предоставит слово мне.
Перед входом в главный зал стоял розовый гроб из анодированного алюминия, доступный для присутствующих. Близких родственников, а также их супругов, детей и внуков провожали в семейный зал – справа от главного. Всем этим заправляла Джейн Бубис, лучшая подруга Беверли.
Морри встретил давних друзей из Кливленда. Я и мой племянник Лорен настаивали на том, чтобы увидеть маму. Все убеждали нас не делать этого, потому что она страшно высохла, и нам следует «запомнить ее такой, какой она была». Почему-то всегда говорят о покойнике, что его следует «помнить» таким, каким он когда-то был. Запомните эту фразу. Преступление, которое я совершил по отношению к семье, заключалось в моем требовании.
Мы с Лореном настояли на своем.
Это было совсем не похоже на маму. В гробу лежал талантливо сработанный манекен, чье место было в парке развлечений или в музее восковых фигур. Я уверен, что бальзамировщики и гримеры проделали огромную работу. Но это не была моя мама. Ее уже не было. В гробу лежал чужой для меня человек. Но я расплакался. Из-за боли, сжавшей мою грудь и невозможности сделать вдох. Но это не была моя мама.
Началась служба и, когда рабби Розенталь пригласил меня, я прошагал к кафедре, по-дурацки погладив по дороге металл гроба, словно прощаясь с мамой навсегда.
Я вытащил исписанные странички из внутреннего кармана пиджака. И, хотя люди передо мной сидели неподвижно, те члены семьи, которые располагались в соседнем зале, были возбуждены. Я видел это боковым зрением. Взбудоражены всерьез. Так мечутся мелкие рыбешки, почуяв хищника в своей заводи.
И к слову: мы с сестрой никогда не были дружны. Она была старше меня на восемь лет, и ее всегда огорчало то, кем я был, чем я был и что я делал. (В детстве я часто воображал, что на самом деле я цыганский мальчуган, похищенный из цыганского табора ордой еврейских дамочек с хозяйственными сумками.) Беверли, вне всякого сомнения, достойный человек, до краев полный любовью, милосердием и состраданием. Я никогда не замечал в ней этих качеств, но у нее было много преданных друзей и, если среди всех родственников проводился бы конкурс: кого из нас можно было бы представить приличному обществу, не опасаясь, что избранный устроит «сцену», Беверли выиграла бы безоговорочно. И хотя вся семья Розенталей гордилась – весьма лицемерно – моими достижениями, это была гордость напоказ, которую не следует путать с желанием узнать меня получше. Ничего. Я и это переживу.
Когда я начал читать свою речь, моя сестрица стала буквально рассыпаться. Не знаю, из-за того ли, что речь моя была неподобающей (как ей казалось), или из-за того, что я плакал и с трудом мог читать текст, или же из-за шести недель мучений, боль от которых теперь обрушилась на нее, но она рвалась из рук Джерольда, хрипло крича на весь зал:
– Остановите его! Заставьте его замолчать! Остановите его! – Сидевшая рядом с ней ее дочь Лиза, моя племянница, проворчала: «Мама, заткнись!», но Беверли ее уже не слышала. Она обращалась ко всем присутствующим, потому что ее идиот-братец, этот Харлан, проделывал очередную из своих отвратительных штучек, глумясь над всем святым и превращая похороны ее матери в цирк. В конце концов, ее удалось вывести в другое помещение, но ее вскрики доносились и оттуда. Я – хоть и не без труда – продолжил свою речь. И вот что я говорил:
– Моя мама умерла три дня назад. Ее звали Серита Р. Эллисон. «Р» значит «Розенталь» – ее девичья фамилия. Я расскажу вам все, что знаю о ней.
Мама однажды рассказала мне анекдот. Единственный за всю ее жизнь. Наверное, она знала множество других, но мне их не рассказывала. Я расскажу вам тот, которым она поделилась со мной.
Два еврея встречаются на улице в Буффало, штат Нью-Йорк. Они, пожалуй, даже родственники, но дальние: шурин там, шмурин, в этом роде. И Гершель не любит Солли, потому что Солли всегда пытается всучить ему какую-нибудь хрень или вовлечь в какую-нибудь темную сделку. Но Солли подловил Гершеля, когда тот выходил из мясной лавки и деваться ему было некуда. И вот Солли говорит:
– Ой, какой у меня для тебя бизнес!
И Гершель отвечает:
– Если такой же, как и в прошлый раз, то мы пойдем заявлять о банкротстве, взявшись за руки.
И Солли говорит:
– Слушай сюда, такое ты упустить не можешь! Это фантастика! У моего друга интрижка с одной женщиной, а брат ее второго мужа женат на девушке, чей отец имеет бизнес с придурком, чей сын еще и работает агентом по продажам во всякие-разные цирки, и через него я могу достать тебе – всего-то за три тысячи долларов – гарантировано взрослого, весом в две тонны, прямо из цирка Барнума,слона!
Гершель смотрит на него так, словно у Солли вдруг выросла вторая голова, и говорит:
– Ты точно сошел с ума. Я живу на пятом этаже, без лифта, у меня жена и четверо детей, и один из них вынужден спать в кухонной мойке, вот сколько у меня места. Да и вообще, что я буду делать с этим слоном, дубина?
И Солли говорит:
– Слушай сюда. Только потому, что ты женат на Герте, я тебе таки дам скидку. Можешь иметь его за две пятьсот.
Гершель уже орет:
– Нет, поц, это ты слушай сюда! Ты оглох что ли? Я тебе сказал, что не нужен мне слон в две тонны ни за две с половиной тысячи долларов, ни задаром. Как я поведу его по лестнице на пятый этаж? Чем я его буду кормить? Да с такой зверюгой мы в нашей квартирке просто задохнемся! Давай, шлепай отсюда, придурок.
В общем, они спорят, перекрикивая друг друга, Солли снижает и снижает цену и наконец выдает:
– Окей, окей, момзер! Хочешь меня разорить, родственничек? Сердца у тебя нет, вот что. Мое последнее, окончательное предложение! Только для тебя! Два слона по две тонны каждый. Два слона от Барнума – за пятьсот зеленых!
И Гершель торопливо вставляет:
– Вот это совсем другое дело!
Когда мама рассказывала мне этот анекдот, она смеялась. Смеялась долго. Смеялся и я. Не потому, что это был такой уж смешной анекдот, хотя он был и неплох. И не потому, что рассказала она его хорошо, а потому что онасмеялась. Я не часто видел маму смеющейся.
С мая 1949 года я никогда, ни разу не видел, чтобы она смеялась.
С того дня, как умер мой отец.
Невозможно говорить о Серите, не упоминая отца. Конечно, я не знал их во времена их молодости, когда они дурачились и совершали глупости, которые свойственно совершать молодым, но из того, что мне рассказывали члены семейства Розенталей, они были чем-то вроде еврейского аналога Скотта Фицджеральда и Зельды. Они любили друг друга и сходили с ума вместе.
Думаю, что, когда умер отец, жизнь мамы остановилась. Потом были двадцать семь лет жизни с тенями. Просто отмечая время. В ожидании того, как она воссоединится с Доком. Если в смерти и есть что-то хорошее, что-то способное хоть немного облегчить боль от смерти мамы, так это то, что ей, наконец, – по прошествии двадцати семи лет – повезло, и она отправилась на встречу с моим отцом, чтобы заполнить пропасть, образовавшуюся в 1949 году.
Я бы сказал вам, сколько лет было маме в момент ее смерти, но все, кто был знаком с ней хотя бы в течение часа, могли бы рассказать вам, что она предпочла бы скорее загнать иголки под ногти, чем раскрыть тайну ее возраста. Такой уж она была.
И была она хорошим человеком, достойной женщиной, жившей правильной жизнью – все те достоинства, о которых принято говорить на похоронах. А еще она была уверенной в себе, невероятно упрямой, нередко просто занозой в заднице, нередко возмущавшейся так, что впору было устыдиться вдовствующей королеве. Но Бог мой, как же она трудилась ради детей.
Я не помню ни единого дня, чтобы она слонялась по дому без дела. Она или работала с отцом в ювелирных магазинах, или в комиссионных магазинчиках Бней-Брит, или еще где-нибудь. И в чем бы мы ни нуждались, она всегда нас этим обеспечивала.
Помню, однажды, когда я был еще малышом – не самым послушным и покладистым – и выкидывал очередной дикий фортель, мама говорила: «Погоди, вот придет отец, и ты свое получишь». Я несомненно заслуживал взбучки. Как правило, заслуживал. И когда отец приходил с работы, усталый, мечтавший только о том, чтобы присесть и отдохнуть, мама рассказывала ему о моем очередном подвиге и о том, что меня следует хорошенько выпороть.
Хочу сразу отметить: в нашей семье телесные наказания не были в ходу. Но отец отвел меня в подвал нашего дома на Хармон-драйв в Пейнсвилле, снял пояс и как следует меня угостил.
Спустя какое-то время я поднялся наверх, но ни мамы, ни папы в гостиной не было. Я прошел на второй этаж и из-за закрытой двери спальни услышал, как мой отец плакал. Порка огорчила его гораздо сильнее, чем меня. И мама тоже плакала. Она утешала его, говоря, что так было нужно, и они успокаивали друг друга.
Розентали были семьей с невероятной способностью портить себе жизнь. А мама была Розенталь с головы до пят. Братья и сестры создавали союзы и клики, и мама объединялась с Элис и Лью против Морри, а в другой ситуации с Морри и Дороти против Мартина, а порой эти союзы были настолько запутанными, что невозможно было понять, кто на кого ополчился. Но не взирая ни на какие обиды, мама – Розенталь с головы до пят – бросалась в атаку на любого, кто посмел бы тронуть хоть волос на голове ее сородичей. Русская душа Розенталей всегда была стержнем существа моей мамы, и она же не позволяла маме радоваться чему бы то ни было в поздние ее годы, но моя племянница Лиза была абсолютным исключением из этого правила. Они не общались как внучка и бабушка, они были приятельницами, закадычными подругами, и это невероятно обогатило их жизни. Я думаю, что смерть моей мамы была бо́льшим ударом для Лизы, чем для любого из нас. Все-таки маме удалось удачно выдать Беверли замуж, увидеть двоих ее детей, и удостовериться, что я не проведу остаток дней в тюрьме. Для нее все это было даром судьбы.
Хотелось бы мне рассказать больше о Серите Эллисон, но остается печальным фактом то, что мы проживаем наши жизни как тени друг друга. Мы никогда не понимаем друг друга по-настоящему: наши несбывшиеся мечты и надежды, стремления, делающие нас чужаками. И в этот последний момент, когда я говорю о ней, я вспоминаю о самых важных событиях – и об одном самом значительном, происшедшем не так давно – в феврале прошлого года, в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Меня пригласили выступить на политическом форуме в Йельском университете, и на это престижное мероприятие я взял маму с собой. Она была словно двадцатилетняя девушка, чувствуя себя на седьмом небе, как она сама об этом сказала. Ее сын выступал с докладом в Йеле! Как она светилась от счастья! Какой это был нахес! Она сияла как все солнца во Вселенной. В Нью-Хейвене был сильнейший снегопад – с метелью и жутким морозом, – и я боялся, что она может простудиться. Но она шагала таким бодрым шагом, что я едва поспевал за ней.
А когда во время моей лекции я представил ее, и она встала и отвесила королевский поклон всем светилам Йельского университета, я думал, что взорвусь от радости. И когда ее подвели к столику с моими книгами, чтобы оставить автограф, она написала: «Спасибо за то, что вам нравятся книги моего сына». Ближе к ее кончине мы несколько раз в день общались по телефону, и я говорил, что приеду, и она отвечала: «Не хочу, чтобы ты видел меня такой. Беверли и Лиза здесь, так что я в порядке». Она стала более понимающей, более доступной для бесед, и, когда мы с ней разговаривали в последний раз, – а, может, и не в последний – она сказала мне: «Из тебя вышел толк, я тебя люблю.» И вот теперь ее не стало. И что можно сказать о смерти пожилой женщины – любой старой женщины – кроме того, что ее больше нет, и все, кто ее знал, будут скорбеть от того, что она не сказала им всего, что должна была сказать.
Она была моей мамой, и мне будет ее не хватать.
Когда я спустился с трибуны и прошел в семейный зал рядом с главным залом, Беверли уже вернулась на свое место. Не знаю, слышала ли она мою речь за исключением «анекдота». Когда церемония завершилась, – а это случилось быстро, ужасающе быстро – никто не заговорил со мной. Никто не подошел и не сказал: «Ты чудесно говорил о своей маме». Только мой племянник Лорен пожал мне руку, и мы обнялись, и он тоже плакал и очень тихо произнес: «Ты был молодцом». Позднее, намного позднее Джерольд отвел меня в сторону и сказал: «Серита гордилась бы тобой». Но за исключением этих двоих меня сторонились как прокаженного. Беверли, все дяди и тети – нет, меня не забили камнями, но обходили так, чтобы даже плечом не коснуться. Приличные люди держатся подальше от изгоев и прочих нечистых. И это их осуждение навсегда освободило меня от этой семьи.
Мама ушла, и я сделал то, что хотел сделать для нее – она всегда любила слушать, как я читаю, и я сделал это в последний раз. Я прекрасно понимаю, что она этого не услышала, но это невинный самообман. Ее хотели похоронить за считанные минуты, сказав при том два или три слова. Надо было, чтобы я закончил чтение своей речи, а потом дал бы слово Беверли, Лизе и Лью, и любому, кто хотел бы что-то сказать. Мама заслужила это.
Надгробные речи – не для покойников. Они всегда для живых. Отдать должное ушедшему. Попрощаться в самый последний раз. Никого нельзя отпускать во тьму, отделавшись двумя-тремя словами.
Усталый старик (Дань признательности Корнеллу Вулричу)
Чертова штука в том, что ты никогда не бываешь таким крутым, каким себе представляешься. Всегда найдется человек с печальным взглядом, который пристрелит тебя, когда ты его даже не видишь, когда ты причесываешься или завязываешь шнурки на ботинках. И вдруг падаешь, как подстреленный носорог. И всё, и ты вовсе не такой крутой, каким себе казался.
В среду я прилетел из Калифорнии в Нью-Йорк и закрылся в отеле «Уорвик», чтобы закончить книгу, добил ее и вызвал курьера, заказав доставку рукописи в издательство Уайету к следующему вторнику, после чего я был свободен. Ну, запоздал на девять месяцев, но работу проделал славную. Теперь у меня было по меньшей мере три дня до того, как издатель позвонит мне, чтобы обсудить изменения, которые он хотел бы видеть в тексте. Я знал, что ему точно не понравятся три главы в самой середине книги, и я придержал кое-какой материал, который Уайет непременно потребует, так что у меня оставалось какое-то время, которое вполне можно убить.
Мне пришлось напомнить себе, что если я еще хоть раз напишу эту фразу, чтоб моя копирка всегда была загружена в машинку обратной стороной.Время, которое можно убить. Да, именно эту фразу.
Я позвонил Бобу Кэтлетту, предполагая встретиться за ужином с его женой, – психиатром – если, конечно, они еще не разбежались. Он сказал, что можем поужинать в этот же вечер, и кстати, почему бы мне не появиться на ежемесячном собрании членов клуба «Цербер». Я сдержался, не выругался, но ответил:
– Не думаю, старина. У меня изжога от этой публики.
«Цербер» – это «писательский» клуб старых профессионалов, которые начинали свою деятельность еще в эпоху Гуттенберга. Ладно, в пятидесятые и шестидесятые это была вполне активная группа авторов, но теперь они представляли из себя унылую толпу уставших от жизни старых сплетников, напивавшихся вусмерть по поводу очередного некролога в «The Saturday Evening Post». На тот момент мне едва стукнуло тридцать, и по их меркам я был юным засранцем, не видевшим ничего привлекательного в том, чтобы провести вечер в атмосфере скучной трепотни и сигаретного дыма, выслушивая мнение полуживых лузеров о том, какая из книжных серий времен их молодости была лучше: «Черная маска» или «Странные истории».
Короче, Боб меня уговорил. Ну так на то ж мы и друзья.
Мы отужинали в аргентинском ресторане рядом с Таймс-сквер и, набив живот стейком с хлебным пудингом, я решил, что готов рискнуть и посетить сборище старперов. Мы прибыли на место – традиционное место их встреч в тесной квартирке одного бывшего редактора – около половины десятого вечера. Квартирка была забита под завязку.
Я не видел всех этих стариков лет десять, потому что уехал в Калифорнию, чтобы работать над сценарием по моему роману «Преследователь» для студии «Парамаунт». Для меня это были хорошие десять лет. Я уезжал из Нью-Йорка с кучей неоплаченных счетов, которые грозили вот-вот превратиться в гору. И был я в самом отчаянном положении – как в личном плане, так и в профессиональном. Я даже почти смирился с мыслью, что зарабатывать себе на жизнь писательством мне не светит. Но работа четыре месяца в году в кино и на телевидении обеспечили мне подушку безопасности на остальные восемь месяцев, которые я мог бы провести, работая над книгами. Я разделался с долгами, прибавил двадцать фунтов веса и впервые в жизни был обеспечен и относительно счастлив. Но войти в эту квартиру для меня было все равно, что войти в физическое воплощение памяти о мрачном прошлом. Ничего не изменилось. Все те же, все там же, все то же.
Моим первым впечатлением была висящая в воздухе усталость.
Словно кто-то наложил друг на друга чертежи квартиры и набившихся в нее людей. На заднем фоне двигались фигуры, еще более истаскавшиеся и постаревшие, чем десять лет назад. Двигались – или, скорее, ковыляли – они гораздо медленнее, чем прежде, словно существовали в застывающем янтаре. Нет, не в замедленной съемке, просто светопропускающие характеристики моих глаз изменились. Их мимика никак не совпадала с голосами. Но на переднем плане, гораздо резче и ярче, чем фигуры присутствующих, лежала пелена – как строки на кинескопе – усталости. Серые и голубые линии не просто накладывались на их лица и руки, на локти женщин, но на всю комнату. Они тянулись к потолку, свисали с ламп и кресел, разделяли на секции ковролин на полу.
Я шагал по этим линиям, и мне стало трудно дышать, когда на меня навалилась вся тяжесть тотальных неудач и мертворожденных мечтаний. Это было так, словно я вдыхал прах древних могил.
Боб Кэтлетт с женой сразу же отправились на кухню за выпивкой. Я было увязался за ними, но меня заметил Лео Норрис, который протиснулся между двумя бывшими авторами нон-фикшн и схватил меня за руку. Он выглядел усталым, но трезвым.
– Билли! Боже мой, Билли! Я и не знал, что ты в Нью-Йорке. Потрясающе! И надолго?
– Всего на несколько дней, Лео. Книга для издательства «Харпер». По горло занят ей, пора срочно заканчивать.
– Надо понимать, синдром Скотта Фицджеральда тебя не коснулся? Сколько книг ты написал с тех пор, как уехал? Три? Четыре?
– Семь.
Он смущенно улыбнулся, но смутился недостаточно для того, чтобы быть чуть скромнее с проявлениями неискренней дружбы. Мы с Лео Норрисом, несмотря на его излияния, никогда не были друзьями. Когда он уже был состоявшимся писателем, – что подтверждалось его именем на обложке солидного журнала «Сент Детектив» – я оголтело лупил по клавишам, строгая детективные рассказики для журнала «Manhunt», чтобы оплатить аренду квартиры в Гринвич Виллидж. И в те времена никаких сердечных отношений не было, как не было и никакой дружбы. Но теперь Лео скользил вниз по склону, вот уже шесть или восемь лет, опустившись до работы на дешевые серии в дешевых обложках, все эти романчики были пронумерованы (последний вышел за номером 27), и в каждом из них действовал неприятный тип из ЦРУ по имени Курт Костенер. А из моих семи романов четыре были экранизированы. Один даже послужил основой телесериала. Такие вот мы друзья.
– Семь книг за… Сколько, за десять лет?
Я не отвечал, вертя головой, давая понять, что хочу отойти. Он намека не понял.
– А знаешь, Бретт МакКой умер. На прошлой неделе.
Я кивнул. Я читал МакКоя, но знаком с ним не был. Добротный писатель. Полицейские романы.
– Рак. Неоперабельный. Легкие. И метастазы. Но умирал долго. Нам его будет не хватать.
– Да. Прости, Лео, мне нужно отыскать ребят, с которыми я пришел.
Я не смог бы протиснуться через толпу у входной двери, чтобы добраться до кухни и до Боба. Единственным верным способом был бы путь через прихожую, но там было еще многолюднее. Я отправился в другую сторону, глубже в комнату, глубже в клубы сигаретного дыма, глубже в гул монотонных голосов. Он смотрел на меня, явно желая что-то сказать, – закрепить дружбу, которой никогда не было? – но я двигался быстро и решительно. Я не нуждался в очередной порции некрологов.
Женщин здесь было всего пять или шесть. Одна из них наблюдала, как я пробирался сквозь толпу. Я не мог не видеть, что она заметила меня. Лет под пятьдесят, обветренное лицо, она не отрывала от меня взгляда. И только когда она заговорила:
– Билли? – я узнал ее голос. Не лицо, даже тогдане лицо, но именно голос, который совсем не изменился. Я остановился, вглядываясь в нее.
– Ди?
Она улыбнулась, но дежурной, никакой улыбкой. Вежливость, не более того.
– Как дела, Билли?
– Прекрасно. Как ты? Что поделываешь, чем занимаешься?
– Живу в Вудстоке. Мы с Кормиком в разводе. Еще пишу книжки для издательства «Эйвон».
Я давно не видел книг с ее фамилией на обложке.
Люди, такие как я, по многолетней привычке бродящие по книжным магазинам, похожи на греков из кафе на углу, безостановочно – тоже в силу привычки – перебирающих свои четки. Я бы узнал ее имя, если бы увидел его на обложке.




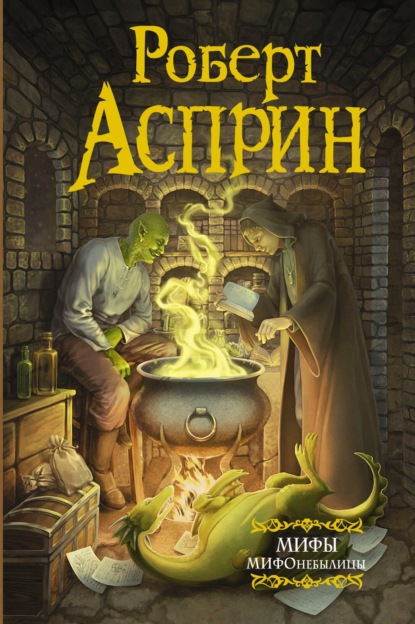



![Время глаза [Время ока]](/covers_200/156709.jpg)