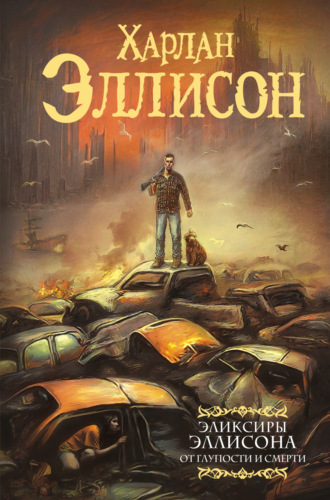
Полная версия
Эликсиры Эллисона. От глупости и смерти
Она заметила мое замешательство.
– Готические романы. Их обычно издают под псевдонимом.
На этот раз ее улыбка была хищной. Она словно говорила: «Да, смеяться последним будешь ты, да, я продаю свой талант за гроши и ненавижу себя за это. Но я скорее вскрою себе вены, чем позволю тебе злорадствовать». Что может быть оскорбительнее успеха другого, когда тебя самого выбросили на обочину, и даже если когда-то ты подавал надежды, то уже давно не в состоянии их оправдать?
УСПЕХ: Единственный непростительный грех по отношению к ближнему. Амброз Бирс, «Словарь сатаны».
Конец цитаты.
– Если будешь в Лос-Анджелесе, найдешь меня в телефонном справочнике, – сказал я. Она повернулась к трем мужчинам за ее спиной. Взяла под руку элегантного господина с густой копной седых волос в стиле Клода Рейнса. Он был в очках а-ля авиатор начала века. Ди сжимала его руку. Этот роман долго не продлится.
Его костюм был слишком шикарным. Она же выглядела как потрепанный боевой флаг. И когда это все они умудрились смириться с забвением? Ко мне из противоположного конца комнаты направлялся Эдвин Чаррел. Он до сих пор был должен мне шестьдесят долларов, которые одолжил десять лет назад. Не думаю, что он об этом забыл. Он наверняка расскажет мне какую-нибудь слезную историю и попытается сунуть мне в руку мятые пять баксов. Не сейчас. Серьезно, только не сейчас. Только этого мне не доставало после Лео Норриса, Ди Миллер и всех тутошних мятых пиджаков. Я резко повернулся вправо, улыбнулся пожилым супругам, работавшим в тандеме и сейчас прихлебывавшим водку из одного стакана на двоих, и стал продвигаться к стене.
Передо мной стояла задача: убраться отсюда к чертовой матери, и чем быстрее, тем лучше. Все знают, что в движущуюся цель труднее попасть.
Но долог был мой путь.
Задняя стена была занята большим диваном, на котором велась громкая дискуссия ни о чем. Однако толпа в центре комнаты отвернулась от сидевших, а значит это был для меня наилучший маршрут. Я двинулся к дивану. Чаррела уже нигде не было видно, так что я продвинулся еще немного. Никто не обращал на меня внимания, никто не хватал меня за руку, никто не пытался крутить пуговицу на моем пиджаке. Я двинулся еще дальше. Я уже полагал, что неприятности позади. Я начал поворачивать за угол – оставалось пройти несколько метров вдоль стены, а там входная дверь, и свежий воздух, и свобода. Именно в этот момент меня поманил рукой старик, сидевший на мягком кресле. Оно было втиснуто в угол комнаты и примыкало к дивану. Здоровенное, потертое и бесцветное. Старик буквально утопал в нем. Худощавый, с усталым лицом и водянисто-голубыми глазами. Он подзывал меня. Я обернулся, но сзади меня никого не было. Он делал знаки именно мне. Я подошел к нему.
– Садись.
Сидеть было не на чем.
– Я собирался уйти…
Я в жизни его не видел.
– Садись, поговорим. Время еще есть.
На другом конце дивана появилось свободное место. Уйти сейчас было бы невежливо. К тому же старик кивнул головой, указывая на него.
Я сел. Он был самым измученным стариком, которого я когда-либо видел.
– Так ты пописываешь, – сказал он. Я подумал, что он надо мной подшучивает.
– Как тебя зовут? – спросил он.
– Билли Ландрес.
Он пожевал губами, словно пробуя имя на вкус.
– Уильям. На обложках, должно быть, Уильям.
Я усмехнулся.
– Точно. На обложках Уильям. Выглядит солиднее.
Я уже смеялся негромко. Не над собой. Над ним.
Он не улыбнулся в ответ, но я видел, что он не был обижен. Очень странный у нас получался разговор.
– А вы…?
– Марки, – сказал он и добавил после паузы: – Марки Страссер.
Продолжая улыбаться, я спросил:
– Вы пишете под этим именем?
Он мотнул головой.
– Я уже не пишу. Давно не пишу.
– Марки, – сказал я, вслушиваясь в это слово. – Марки Страссер. Не думаю, что я читал ваши книги. Детективы?
– В основном. Триллеры. Несколько современных романов, ничего выдающегося. Но расскажите о себе.
Я поерзал на диване.
– У меня такое чувство, сэр, что вы надо мной подшучиваете.
Его мягкие голубые глаза смотрели на меня без тени лукавства. Улыбки на его лице не было. Он был усталым. Старым и ужасно усталым.
– Мы все так или иначе забавляемся, Уильям. Но не тогда, когда стареем настолько, что уже не в силах шутить. Тогда мы перестаем забавляться. Так вы не хотите рассказать о себе?
Я развел руками в знак капитуляции. Что ж, расскажу о себе.
Возможно, он и считал себя слишком старым, чтобы забавляться, но тем не менее был очаровательным стариком. И хорошим слушателем. Остальная часть квартиры словно растворилась в тумане, и мы беседовали. Я рассказывал о себе, о жизни в Калифорнии, о сюжетах моих книг, о том, что нужно для адаптации романов-триллеров для экрана.
Язык тела – интересная штука. На самом примитивном уровне даже те, кто не знаком с бессознательными сигналами, посылаемыми положением рук, ног и торса, все же в состоянии почувствовать, что происходит. Когда беседуют два человека, и один хочет довести до собеседника важную мысль, он делает это, немного нагнувшись вперед. Отвергая такую мысль, он, наоборот, откидывается назад. Я вдруг заметил, что сильно наклоняюсь вперед. Я практически лег грудью на подлокотник дивана. Он же откинулся на подушки кресла, но слушал меня очень внимательно, словно впитывая все, что я говорил. Но создавалось впечатление, что он знает: все это в прошлом, все это мертвая информация, и он просто выжидает, чтобы рассказать мне о каких-то важных для меня вещах.
Наконец, он сказал:
– Вы заметили, что многие ваши сюжеты касаются отношений отцов и детей?
Это я заметил давно.
– Когда умер мой отец, я был еще мальчишкой, – сказал я, и, как всегда, почувствовал стеснение в груди. – Когда-то, не могу точно вспомнить когда, я наткнулся на фразу Фолкнера. Он высказался примерно в таком роде: «Что бы ни писал автор, если он мужчина, он всегда пишет о поисках отца». Эти слова поразили меня с особенной силой. Я никогда не понимал, насколько мне его не хватает, до одного вечера на групповой психотерапии. Руководитель группы попросил нас выбрать человека на роль того, с кем мы всегда хотели поговорить по душам, но так и не смогли это сделать. Выбрать и сказать этому человеку все, что вы всегда хотели сказать. Я выбрал человека с усами и говорил с ним так, как не способен был беседовать с отцом, потому что был слишком мал для этого. И очень скоро я заплакал…
Я сделал паузу и добавил очень тихо:
– Я ведь не плакал даже на его похоронах. Это был очень странный, очень тревожный для меня вечер.
Я снова умолк, собираясь с мыслями. Весь наш разговор становился гораздо более тяжелым, более личным, чем я предполагал.
– А потом, года два назад, я наткнулся на эту мысль Фолкнера, и тогда все вдруг встало на свои места.
Старик не отрываясь смотрел на меня.
– И что же вы ему сказали?
– Кому? А, мужчине с усами? Хм… Ничего выдающегося. Я сказал ему, что мне удалось выбиться в люди, что преуспел, что он гордился бы мной… Да вот и все, пожалуй.
– А что вы ему не сказали?
Я почувствовал, как вздрогнул от этого замечания. И похолодел. Он бросил это так небрежно, так походя, и все же значимость этого вопроса вонзила холодное лезвие стамески в дверь моей памяти, надавила и щелкнула замком. Дверь распахнулась, и чувство вины хлынуло наружу. Откуда Марки мог все это знать?
– Ничего. Я не вполне понимаю, что вы имеете в виду, – я не узнавал звук собственного голоса.
– Но ведь что-то должно было быть. Вы обозлены, Уильям. Вы злитесь на своего отца, может быть, потому, что он умер и оставил вас в одиночестве. Но вы не сказали того, что вам необходимо было сказать. Вам и сейчас нужно это произнести. Что это было?
Я не хотел отвечать ему. Но старик просто ждал. В конце концов, я пробормотал:
– Он так и не попрощался со мной. Он умер, но так и не попрощался.
Я затрясся всем телом. Я снова, после всех этих лет, стал ребенком, пытался стряхнуть с себя этот морок, отмахнуться от него. И очень тихо я произнес:
– Это было неважно.
– Для него не было важно сказать вам «прощай». Но для вас важно было услышать эти слова.
Я не мог поднять на него взгляд. Потом Марки сказал:
– В объективе времени каждый из нас видится исчезающей пылинкой. Извините за то, что расстроил вас.
– Вы меня не расстроили.
– Нет. Расстроил. Позвольте мне попытаться загладить свою вину. Если у вас есть время, позвольте рассказать вам о нескольких книгах, которые я написал. Вам может понравиться.
Я откинулся на спинку дивана, и он пересказал мне несколько сюжетов.
Он говорил без колебаний, плавно и ровно. И его сюжеты были чертовски хороши.
Да что там, они были просто великолепны. Истории в ключе саспенса, что-то вроде Джеймса М. Кейна или Джима Томпсона. Истории об обычных людях. Не сыщиках, не иностранных шпионах. Просто люди в ситуации стресса, где насилие и интриги логически вытекали из обстоятельств, в которые они попали. Я зачарованно слушал его. И какой же у него был талант по части названий! СРОК ИСТЕКАЕТ НА РАССВЕТЕ, ОТМЕНИТЕ БРОНИРОВАНИЕ, ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ РАДОСТИ, ДИАГНОЗ ДОКТОРА АРХАНГЕЛА, БЛУДНЫЙ ОТЕЦ – и еще один, который поразил меня настолько, что я сделал пометку в уме, чтобы не забыть и связаться с Андреасом Брауном из книжного магазина «Готам», и попросить у него раздобыть у букинистов для меня экземпляр книги, которую я просто обязан был прочитать. Книга называлась «ЛЮБИМЫЙ УБИЙЦА».
Он умолк и стал казаться еще более измученным, чем прежде, когда пригласил меня присесть с ним. Кожа старика была бледно-пепельной, а мягкие голубые глаза время от времени закрывались.
– Может быть, вам принести воды? Или что-нибудь перекусить?
Он внимательно посмотрел на меня и произнес:
– Да, стакан воды, если вам не трудно.
Я встал, чтобы добраться до кухни.
Он пожал мою ладонь своей сухой ладошкой. Я посмотрел на него.
– Кем вам все-таки хотелось бы стать, Уильям?
Я мог бы отделаться какой-нибудь банальностью. Но не стал этого делать.
– Тем, кто помнит, – сказал я. Он улыбнулся и убрал руку.
– Я принесу воды, секунду.
Раздвигая толпу, я добрался до кухни. Боб все еще был там, споря с Хансом Сантессоном о проблеме пропорциональной доли гонораров за перепечатку рассказов в литературных антологиях для колледжей. Мы с Хансом поздоровались, обменявшись любезностями, пока я набирал в стакан воду, добавив туда пару кубиков льда из пластикового пакета. Я не хотел надолго оставлять Марки.
– Где тебя черти носили? – спросил Боб.
– Я был в комнате, с одним стариком. Поразительным стариком. Он говорит, что был писателем. Несомненно, был. Господи, он писал, как мне кажется, невероятно интересные книги. Не знаю, как это они ни разу не попали мне в руки. Обычно я читаю все, написанное в этом жанре.
– Как его зовут? – поинтересовался Ханс со своим милым скандинавским акцентом.
– Марки Страссер, – сказал я. – Какое у него поразительное чувство сюжета! – Они умолкли, и оба пялились на меня.
– Марки Страссер? – Ханс замер, не донеся до губ чашку с чаем.
– Марки Страссер, – повторил я. – А что такое?
– Единственный Марки, которого я знал, писатель, появлялся на тутошних посиделках тридцать лет назад. Но он уже лет пятнадцать в могиле.
Я рассмеялся.
– Вряд ли тот же самый, разве что ты ошибся насчет его смерти.
– Нет, я абсолютно уверен. Я присутствовал на его похоронах.
– Значит, это кто-то другой.
– Где он сидит? – спросил Боб.
Я вышел в коридор и жестом пригласил их присоединиться ко мне. Я подождал, пока толпа на мгновение расступится, и указал. – Там, в углу, в большом мягком кресле.
В большом мягком кресле никого не было.
Пока я пялился на кресло, а они стояли за мной, в кресло плюхнулась женщина с коктейлем в руке. Плюхнулась и тут же заснула.
– Он, наверное, встал и куда-то перебрался, – сказал я.
Но в комнате его не было. Конечно же.
Мы уходили последними. Я вообще не желал уходить. Я смотрел на каждого, кто приближался к входной двери – я стоял рядом с ней, так что мимо меня он точно бы не проскользнул. Боб проверил туалет. Там его тоже не было. Это был единственный выход из квартиры, и я стоял рядом с ним.
– Послушайте, черт побери, – проговорил я со злостью, обращаясь к Хансу, Бобу и хозяину квартиры, который явно жаждал поскорее проблеваться и отправиться в постель, – я не верю в призраков, и он не был призраком, не был плодом моей фантазии, мошенником он тоже не был. Бог мой, я не настолько легковерен, чтобы не понять, когда меня водят за нос, а его сюжеты были слишком хороши для шутника, и если он был здесь, то как мог он проскочить мимо меня? Я стоял прямо у двери и видел ее, даже набирая воду на кухне. Он старик лет семидесяти пяти, а то и старше, он же не чертов спринтер! Никто не мог бы пробраться через толпу, прорываясь к входной двери и не толкнув кого-нибудь, а это бы люди запомнили…
Ханс попытался меня успокоить.
– Билли, мы опросили всех, кто здесь был. Никто твоего старика не видел. Никто не видел и тебя на краешке дивана, где вы с ним, по твоим словам, беседовали. Никто не говорил с таким человеком, а многие из сегодняшнего сборища знали Марки. Зачем бы ему было говорить, что он Марки Страссер, если он не Марки Страссер? Он бы знал, что в комнате, набитой писателями, знавшими настоящего Марки Страссера, его разоблачили бы с ходу.
Но я не желал сдаваться. Не галлюцинация же это была, в самом деле! Хозяин квартиры порылся в шкафу и нарыл старые программы победителей конкурса Авторов Детективной Прозы, на одной из них было фото Марки Страссера пятнадцатилетней давности. Я посмотрел на фотографию. Снимок был четким и ясным. Это не был мой новый знакомец. Этих двоих невозможно было перепутать, даже добавив человеку на снимке пятнадцать лет. Даже добавив болезненности и усталости. Марки на фото был круглолицым и почти лысым, с густыми бровями и темными глазами. У Марки, с которым разговаривал я в течение часа, были мягкие голубые глаза. Даже если бы человек на снимке надел парик, глаза их невозможно было спутать.
– Это не он, черт возьми!
Меня попросили снова его описать. Не сработало. Тогда Ханс попросил меня пересказать его сюжеты и названия книг. Все трое слушали меня внимательно, и я видел, что сюжеты книг их впечатлили так же, как они впечатлили меня. Наконец, я выдохся и сел, тяжело дыша. Ханс и хозяин квартиры качали головами.
– Билли, – сказал Ханс, – я семь лет редактировал серию Unicorn, а до того был редактором журнала «Saint Detective Magazine» более десяти лет. Я читал не меньше детективных романов, чем любой из ныне живущих на планете людей. Этих книг не существует в природе. Наш хозяин, авторитет по этой части, согласился с Хансом.
Я поднял глаза на Боба Кэтлетта. Этот тип вообще проглатывал по роману в день.
Медленно и неохотно он кивнул, соглашаясь с Хансом и хозяином квартиры.
Я закрыл глаза.
Спустя какое-то время Боб предложил расходиться. Его жена исчезла еще час назад с группой знакомых, захотевших полакомиться чизкейком. И теперь Бобу не терпелось попасть в постель. Я не знал, что мне делать. И потому отправился в Уорвик.
В ту ночь я укрылся двумя одеялами, но все равно мерз. Содрогался от холода. Я оставил телевизор включенным, хотя смотреть было нечего. Серый экран и ровный гудящий звук. Я никак не мог заснуть.
И наконец встал, оделся и вышел из дома. 44-ая улица в три часа ночи была пуста и безмолвна. Не было даже грузовиков, доставляющих продукты и товары. И я, хотя и высматривал его повсюду, не смог его найти.
Идя по улице, я все думал и думал о происшедшем и даже на какое-то время поразмыслил о том, что, может быть, мой отец восстал из могилы, чтобы говорить со мной. Но это не был мой отец. Я же не идиот. Отца бы я узнал.
Отец был значительно меньшего роста. У него были усы, и он никогда не говорил так, как мой новый знакомый, а в речи старика звучали не его слова и не его ритм.
И это не был почти забытый автор детективов по имени Марки Страссер. Зачем он воспользовался этим именем – я не знаю. Может, чтобы привлечь мое внимание, увлечь меня на черную тропу страха, где я понял бы, что он совсем другой человек. Я не знаю, кем он был.
Я вернулся в «Уорвик» и вызвал лифт. В ожидании лифта я стоял перед большим зеркалом между дверями двух лифтов и смотрел на свое отражение, вглядываясь в стекло в поисках ответа.
Потом я поднялся в свой номер, сел за письменный стол, вставил в портативную машинку бумагу с копиркой и напечатал «ЛЮБИМЫЙ УБИЙЦА». Роман шел легко. Да и кто еще мог бы написать эту книгу?
Но, как и мой отец, он не сказал мне «До свидания», когда я ушел за стаканом воды для него. Этот усталый старик…
Подай-Принеси в цирке, или Воспоминания о карнавале
Встаньте за пологом циркового шатра и всмотритесь в их лица.
Вы узнаете все, что нужно знать о темной стороне человеческой природы.
(Великая Депрессия высосала из людей любую способность радоваться. Шоу-бизнес пытался привлечь людей своими сиюминутными развлечениями. Кинематографу это удалось. Дешево и сердито уносит тебя в мир грез и снабжает приятными воспоминаниями. Колоссально расцвели карнавалы, разъездные парки аттракционов и прочих подобных штучек. Карнавалы разъезжали по всей стране. Дешевые и тотально безвкусные развлечения. В нынешние времена ни один уважающий себя карнавал не предлагает зрителю шоу уродов – демонстрацию врожденных деформаций. Мерзкий бизнес, доложу я вам. Дешевка. Но в те времена, в дешевые уродливые времена тридцатых, нужно было что-то могущее привлечь деревенщин, мужланов и недоумков. Шоу уродов было безотказным магнитом. Спеши, спеши сюда, и не забудь прихватить с собой подружку, чтобы увидеть самое волнующее, самое поразительное зрелище из всех, виденных вами! Ты увидишь Лену, самую толстую женщину в мире, четыреста фунтов трясущегося желе… И Люцифера, с глоткой из асбеста и желудком из стали, ты увидишь, как он глотает огонь, пережевывает гвозди и пьет керосин. А каково пригласить такое чудо к себе в гости, чтобы согреться в этот холодный канзасский вечер? А ведь есть еще и Риппо, мальчик-рыба… Там, где у нас с тобой руки и ноги, у Риппо только плавники и жабры. Так что смотри и поражайся… У нас ты увидишь неизвестное существо, – ни человека, ни зверя – это монстр из твоих ночных кошмаров, он живьем пожирает змей, откусывает головы цыплятам, милые дамы, я не могу даже рассказать обо всех ужасах, на которые эта тварь способна… Но входите, входите, вы увидите все своими глазами…)
Так вот, встаньте за пологом циркового шатра и всмотритесь в их лица.
И вы узнаете все, что нужно знать о темной стороне человеческой природы. (Спросите любого человека сорока-пятидесяти лет, мальчиком работавшего на карнавале. Спросите его, доводилось ли ему стоять за брезентовым пологом цирка и наблюдать – нет, не уродов, не этих несчастных созданий – спросите его, видел ли он лица людей. Добропорядочных граждан, солидных фермеров и сельчан, с детства впитавших в себя иудео-христианские идеалы. Спросите тогдашнего мальчика, а ныне зрелого мужчину, и он не захочет вам рассказывать о том, что он видел. Но вы все же не отступайте, и тогда он расскажет вам о лицах мужчин, о том, с каким выражением лица они смотрели на чудовищные колыхавшиеся груди Лены, какие эротические фантазии одолевали их при виде бесхребетной женщины-змеи. Но он никогда не расскажет вам о влажных губах и сияющих глазах посетителей-дамочек, когда они разглядывали чудовищные деформации мальчика-рыбы, о том, как не отрываясь, они смотрели на его едва скрытые гениталии и как фантазировали о том, каково было бы прижаться к нему, почувствовать, как он обнимает их своими плавниками, каково было бы заняться с ним любовью (а это читалось по их возбужденным лицам!). Тогдашний паренек никогда не расскажет вам об ужасе, который охватывал его при взгляде на лица зрителей шоу уродов: о женщинах, мечтавших совокупиться с сумасшедшим, вымазанным собственными экскрементами, о мужчинах, дрожащих от страсти при виде гермафродита, полумужчины, полуженщины, каково было бы соблазнить такое чудо? Единожды постояв у брезентового полога, единожды увидев мечтательные лица зевак, человек уже никогда не спросит себя, как могла произойти бойня в Сонгми, и не станет задаваться вопросом о том, какая же черта, какое же свойство американской души производило на свет Ричарда Спека[4], или Чарльза Мэнсона, или Чарльза Старкуэзера[5], или Сьюзен Аткинс[6].
Да нет и нужды спрашивать, потому что эта черта души – она во всех нас, она живет под самой поверхностью душ тех из нас, кто составлял большинство публики этих шоу уродов. Да, Великая Депрессия осталась позади, но замшелые деревенщины все еще среди нас, они все еще часть нас самих. Мы до сих пор жаждем видеть наших уродов. Без сочувствия, без сострадания, без любви… Но лишь с похотью и отвращением, которые скорее привлекают, чем отталкивают… Мы все, облизывая пересохшие губы, устремляемся к этому большому шоу).
Мне было тринадцать. И я веду речь не о том, как я сбежал из дома. Это совсем другая история, о ней как-нибудь в другой раз. Я сбежал. Это была мечта любого американского мальчишки в начале 1940-х: сбежать из дома и пристроиться к цирку. Я уже прочитал книжку «Тоби Тайлер или десять недель в цирке», и для меня не было ничего более влекущего, более рискового, более авантюрного, чем сбежать из дома и начать работать в цирке.
Цирка я так и не нашел. Зато нашел ободранный карнавал, который все называли «шапито». Такой бизнес – сегодня здесь, а завтра там, колесивший по словно бы восьмерке, притормаживая в Огайо, Индиане, Иллинойсе и Миссури и разворачиваясь в Кентукки, чтобы снова катить по тому же маршруту. Они именовали себя «Шоу Трех Штатов», но в справочнике адресов и названий групп шоу-бизнеса искать их было бы бесполезно. Классический карнавал мошенников с тесными клетками зверинца, мерзким шоу уродцев и обшарпанный до предела – такого не увидишь даже на самых потертых деревенских карнавалах.
Чем я занимался? Обычным: подай-да-принеси.
– Эй, пацан, принеси кофе.
– Эй, пацан, прикати вон тот рулон брезента.
– Эй, малой, сбегай за этим дармоедом, Сэмом.
Ни шкуры, ни бороды, ни когтей у меня не было. И потому я был Подай-Принеси.
Я был говночистом в клетке гиены. Зазывалой для деревенских лопухов. Стоял на шухере, высматривая легавых. Бегал за водой для девушек из кордебалета. Прислуживал на кухне. И, конечно, был зеленым сопляком. Я даже не представлял, насколько уголовной была вся наша шарашка, пока нас не накрыли в Канзас-Сити, штат Миссури.
В нашем «цирке» промышляли девочки на ночь, да еще карманники, да еще мастера подделывать чеки – в общем, было все, кроме хоть сколько-нибудь порядочного отношения к лохам, которые заглядывали в нашу кунсткамеру и чаще всего оставались без штанов.
Один карманник попытался вытащить бумажник у случайного типа в Канзас-Сити. Тут и оказалось, что тип этот был помощником окружного прокурора, отслужившим пятнадцать лет в армии. В общем, он отутюжил нашего героя по полной. И все наши карнавальщики – карни – приземлились в тюряге.
И очень быстро все забегали и запрыгали, как угорелые. Наш «менеджмент» нуждался в рабочих руках, во-первых, потому что без них невозможно было уложиться в график гастролей, а во-вторых, потому что жалоб и ордеров на арест нашего брата навалило столько, что нас прикрыли бы до скончания века. Так что забегали все.
С двумя серьезными исключениями.
Первым был наш гик. Вторым был я.
Тому, кто незнаком со словом «гик», я советую найти и прочитать уже ставший классикой роман Уильяма Линдсея Гришэма 1946 года «Кошмар в переулке». Там вы найдете самое точное и жестокое описание этого типа людей. Гик, как правило, человек с разжижением мозга, который вливал в себя столько алкоголя, что мозги его постепенно превратились в йогурт. Когда он потеет, на коже его выступают белесые, воняющие чем-то кислым капли. Так вот, менеджеры шапито примечают район трущоб в городе, который они осчастливили своим присутствием, подыскивают гика и быстренько смываются с ним, пока он не помер или не удрал. За роскошный гонорар – бутылка джина в день – алкаш этот одевается в звериные шкуры, не бреется, спит в клетке и по свистку ведущего шоу катается по полу в собственном дерьме, жрет дохлых змей и откусывает головы живым цыплятам.
Ни один приличный карнавал не будет иметь дела с гиками. Это отвратительно до предела, потому что речь идет об игре на самых низменных желаниях и самых глубинных страхах в жизни человеческой. Любой, кто испытывает наслаждение, наблюдая за обесчеловеченным существом, катающимся по полу в куче собственных экскрементов, трущим гениталии шкурой дохлой гремучей змеи, стонущим и закатывающим глаза, превращаясь в недочеловека, который ужаснул бы даже неандертальца – такой наблюдатель сам ниже презрения. Ибо он пал еще глубже, чем бедный ублюдок в клетке.





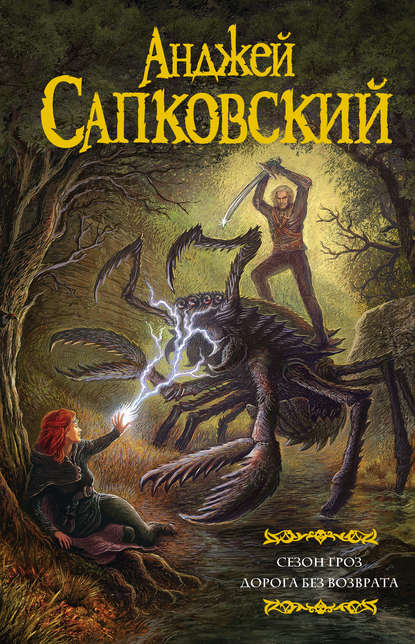




![Время глаза [Время ока]](/covers_200/156709.jpg)



