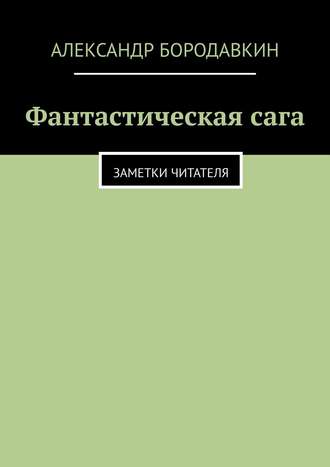
Полная версия
Фантастическая сага. Заметки читателя
Но неизвестное нас ждет уже за границей земной атмосферы. Об этом убедительно повествует, например, А. Беляев в книге «Звезда КЭЦ» – эту книгу ругают, но я помню свои детские впечатления, свой восторг от знакомства с новыми людьми, новыми картинами, новыми научными идеями. Она надолго захватила меня и подготовила почву для понимания науки. То, о чем позже с натугой пытались сообщить мне учебники, вливалось в сознание без всякого сопротивления; книга – этакий сверхпроводник, хранящий ток много после того как отключен источник питания… До сих пор помнятся астроном, пауком обосновавшийся в своей обсерватории, оранжерея на орбите, обезьянка-мутант…
На околоземной орбите находят странный артефакт герои романа Дэвида Брина «Бытие» – и оказывается, что Земля буквально нашпигована пришельцами, вот только форма существования их, как и цели, оказываются несколько… как бы это сказать… неклассическими. Какими? Прочтите книгу, она того заслуживает.
Да, космос зовет! Следующая цель – Луна.
На серебряной планете
– Луна, – размышлял я вслух, – что вы рассчитываете там увидеть? Я всегда думал, что Луна – мертвый мир.
Он пожал плечами.
– Что вы рассчитываете там увидеть?
– А вот посмотрим.
Г. Уэллс. Первые люди на Луне.
Вероятно, первым посетителем ночного светила был Одиссей; следовательно, история того, как воображение покоряло нашу верную спутницу, насчитывает не одно тысячелетие. С тех пор на Луне побывали герои многих литературных творений: достаточно вспомнить сочинения Сирано де Бержерака («Иной мир, или Государства и империи Луны»), Эдгара По («Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфалля») … Упомянуть все произведения, написанные уже в наше время, не представляется возможным, это уже тема специального исследования.
Авторами первых сочинений о путешествиях на Луну руководило почти детское любопытство: что же представляет собой этот мир над головой, такой близкий – и такой дразняще недоступный? Кроме того, вероятно, в те времена как-то само собой разумелось, что обширные территории небесного государства просто не могут не иметь своих жителей, – и со страниц книг на нас глянули селениты, безобразные, непонятные и порой жестокие создания, плод ночных кошмаров.
Таким увидел лунного аборигена Герберт Уэллс, который, кстати, изобрел довольно оригинальный способ межпланетного путешествия – неважно, что критики от науки разбили в пух и прах построения Уэллса, указав, что работа, которую должны были совершить Кэйвор и его спутник, отгораживаясь заслонкой из кэйворита от земного тяготения, эквивалентна работе по переносу той же массы в бесконечность (стоило ли огород городить?), – до Уэллса на Луну летали главным образом во сне, в птичьих упряжках и в пушечном ядре, что явно недостоверно, а реактивный двигатель еще не был придуман. В кэйворит как-то легче верится, он не мешает впитывать впечатления, он – условность, призванная донести до читателя нечто более важное, чем описание способа передвижения. Именно это «нечто» постепенно становится в книгах о космосе главным, и изобретения позднейшего времени типа телетранспортировки призваны избавить автора от необходимости долго и нудно объяснять, каким образом герой переместился из пункта А в пункт Б, который, по мнению автора, более подходит для реализации его замысла. А пока так же, как когда-то мчались в пушечном ядре Мишель Ардан, Барбикен и Николь, летят к Луне Ян Корецкий и его спутники, чтобы заложить основу новой цивилизации. Но на этом сходство и заканчивается. Это Жюль Верн хотел просветить читателя и рассказать о том, что известно о Луне современной ему науке. Жулавский обошелся и без селенитов – его больше интересовали люди. Он хотел узнать что-то новое о людях – и Луна показалась ему наиболее подходящим плацдармом. 13
Бросим беглый взгляд на лунные ландшафты, на фоне которых разворачиваются драматические события лунной трилогии. Обратная сторона Луны еще оставалась тайной за семью печатями, и эта недоговоренность оставила писателю простор для воображения. Он придает Луне форму яйца, сохраняет кое-где атмосферу, воду и все остальное, необходимое для жизни. (Хотя будет ли такая жизнь нормальной – это бо-ольшой вопрос!) А его герои, прилунившись в центре безжизненной стороны, совершают беспримерный поход за край видимого с Земли диска – и обнаруживают долину, в которой можно дышать. Если можно дышать, можно жить: много ли человеку надо на самом деле, помимо тех потребностей, которые он сам для себя выдумал?
Обстоятельность, скрупулезность, неторопливость, так свойственные старым книгам… Да полно, так ли уж стара лунная трилогия Жулавского? Первый ее роман – «На серебряной планете» – был издан на языке оригинала в 1902 году; казалось, было достаточно времени, чтобы познакомиться с ней так же близко, как знакомы мы с той же лунной дилогией Жюля Верна или «Первыми людьми…» Уэллса. Но… роман Жулавского был однажды издан в серии «Зарубежная фантастика» издательства «Мир», а об остальных двух книгах – «Древняя Земля» и «Победоносец» – вообще не было упоминаний. И, думаю, не случайно. Мы имеем дело с той же системой, которая, однажды нечаянно пропустив «Час Быка» Ивана Ефремова, всеми средствами замалчивала неугодную книгу. Роман вроде бы и издан, но найти его почти невозможно (если у вас нет связей): в библиотеке его выдадут только по специальному разрешению, а находящиеся в личном пользовании экземпляры не афишируются и соответственно, не поддаются учету.
Это не праздные спекуляции на тему «совка»: я столкнулся с такой проблемой на собственном опыте, и именно благодаря «выгодным» знакомствам добыл несколько желанных текстов.
Можно представить, сколько вреда принесла нашей культуре игра в прятки! В результате мы имеем то, что имеем: накопившиеся в столах книги хлынули потоком, затопили читателя, и он в них захлебнулся. То, что было актуально в свое время, превратилось в анахронизм, и огромный труд рассыпался журнальным прахом. 15
Но что толку сокрушаться о том, что могло быть, но чего не случилось? Вернемся пока к Жулавскому.
Боль, испытанная Матаретом, потомком людей, основавших лунную цивилизацию, созвучна боли, которую обнажает перед всем человечеством больная совесть наших классиков. «Древняя Земля!» – саркастически и презрительно шепчет Матарет, уходя от огромной афиши на фонаре, обнародовавшей следующие выводы:
Вполне современно звучащие строки! Разве мы постоянно не балансируем на острие бритвы и не готовы сорваться в ту самую пропасть, которую живописал Жулавский? Разве не являются у нас ассигнования на образование, науку и культуру настолько мизерными, что и без подобного указа эти надстройки в не очень отдаленном будущем прекратят свое существование? Работая в школе, невольно озадачиваешься подозрением, что в министерствах засела некая вражья сила, задавшаяся целью убить школу. Возможно, она, эта сила, как и энтузиасты-революционеры сто лет назад, руководствуется лозунгом «разрушим до основанья, а затем… новую школу построим: кто был никем, тот станет всем»: обилие бумаг, которые нужно заполнять, отправлять и снова заполнять похожие, но все же чуть отличающиеся, отнимает время на уроки, на подготовку к урокам; отупляет, наконец. Приводит буквально в ярость – и не хочется больше «творить, выдумывать, пробовать».
И тут в памяти открывается окошечко: все это мы уже проходили! Перелистаем «Бесов» Федора Михайловича и перечитаем:
Поневоле задумаешься: не вертится ли история в чудовищном колесе, вновь и вновь прокатываясь по нашим спинам, а мы каждый раз лишь крякаем и привычно расправляем вмятые позвонки?
А в туманной дали будущего уже маячат знаменитые антиутопии: «Мы» Евгения Замятина, «1984» Джорджа Оруэлла, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «451 по Фаренгейту» Рэя Брэдбери…
При этом романы Жулавского вовсе не являются памфлетом. Даже самая плодотворная идея зачахнет без художественного обрамления, как тело не сможет жить без души. Нет, эти книги – произведения именно художественные, в которых есть и боль, и радость, и ненависть, и любовь… и красота, та самая, которая должна спасти мир.
…В 1967 году Клуб любителей фантастики МГУ провел анкетный опрос читателей, и я тогда был лишь чуть младше 13-летнего знатока, который, отвечая на вопрос: «Какие проблемы занимают Вас?», заявил: «Мне хочется чего-нибудь вроде деформации пространства-времени в складках дезплузионных слоев при наложении параллельных пространств» (!!!) А Владимир Савченко, комментируя анкету, заметил: «Из этого парня выйдет толк!» Ну что ж… Тогда было важным постижение внешнего мира, погоня за чудесами и диковинами, которых не встретишь в обычной жизни и которые хотелось увидеть хотя бы в воображении, в звездной дали. Попадись мне в 13 лет книга Жулавского, я… не могу ручаться, но, возможно, одолел бы ее – и вряд ли что-нибудь при этом понял, вряд ли проник бы под оболочку, наверняка сказал бы: «Подумаешь! у Жюля Верна интереснее!» Жулавский не увлекает чудесами и диковинами, нет в его книге безобразных селенитов (хотя есть намек на них в первой книге: когда-то здесь обитали разумные существа). Забросив на Луну Адама и Еву, он исследует пути возникновения цивилизации, религии, пути развития общества, факторы, определяющие эти пути…
Самое время вспомнить И. Ефремова: «Претендуя на роль натурфилософии, фантастика должна отвечать обязательному требованию: быть умной. Быть умной, а не метаться в поисках каких-то необыкновенных сюжетных поворотов, беспочвенных выдумок, сугубо формальных ухищрений».
(Хмм… а иногда все же хочется увлечься игрой ума, теми самыми формальными ухищрениями – почитать те страницы Фолкнера, Джойса, на которых они уводят читателя в лабиринты сознания, и это чертовски увлекательное блуждание! Тут уж, как говорится, дело вкуса, и накладывать ограничения на что-то – себе вредить. А еще и строгая наука ввергает в искушение: цитирую статью Романа Подольного в журнале «Знание – сила», 1972, №1: «Квазары – места, где наша Вселенная соприкасается с другой вселенной (точнее, квазивселенной). Какой бы странной ни казалась эта гипотеза, некоторые физико-математические уравнения приводят к еще более невероятной умозрительной гипотезе: каждая элементарная частица в нашем мире […] сама оказывается Вселенной (точнее, квазивселенной)». Чем хуже «складки дезплузионных слоев»? ) 16
Но вернемся пока на Луну. Она оказалась великолепной экспериментальной площадкой и для «физиков», и для «лириков». Ее поверхность изучали герои Владимира Беляева, Владимира Михановского, других, менее известных авторов. Под куполами на ее поверхности и в ее недрах жили герои Артура Кларка, Станислава Лема, Айзека Азимова, знакомились, проникались симпатией друг к другу или становились врагами, организовывали спасательные операции… С нее же нацеливались на Землю батареи ракет, должных держать в страхе и повиновении стадо землян. Воинственный первый грандмастер фантастики Роберт Хайнлайн посвятил Луне не одну сотню страниц, среди которых есть настоящие жемчужины. 17
О нем стоит поговорить подробнее, поэтому – отступление первое:
Сначала мне показалось, что перед нами стоит неуклюжее четвероногое с опущенной головой; потом я разглядел, что это была тщедушная фигурка селенита на коротких, тонких ножках, с головой, вдавленной между плечами. Он был без шлема и без верхней одежды. […] Казалось, что у него не лицо, а какая-то страшная маска, ужас, бесформенность, не поддающаяся описанию, без носа, с двумя выпуклыми глазами по бокам, – сначала я принял их за уши, которых вообще не было. […] Рот был искривлен, как у человека в припадке ярости… Шея, на которой болталась голова, расчленялась на три сустава, напоминающие ногу краба…
Мы действительно находились теперь на северном полюсе Луны. Странный край! Край вечного света и вечного мрака, где нет ни сторон света, ни восхода, ни заката, ни полдня, ни полночи. Лунная ось почти перпендикулярна к плоскости эклиптики, так что Солнце здесь не уходит за горизонт и не поднимается к зениту, а будто бы вечно катится по краю неба. Если подняться на одну из окрестных гор, то Солнце кажется плазменно-красным шаром, лениво проползающим у самого горизонта. Вершины гор вечно пылают в розовом сиянии, которое льется на них каждый раз с иной стороны; от сотворения мира эти горы не видели ночи. Зато зеленые долины у их подножий никогда не видели Солнца. На них неизменно лежит тень высот, здесь царят вечные сумерки или вечный рассвет. На свежую темную зелень падают лишь отблески нагих, розовеющих от Солнца вершин – словно огромный венок бледных роз, брошенный на траву. Лишь иногда, раз в два земных месяца, Солнце, слегка приподнятое лунной либрацией над горизонтом, сверкнет в расщелине меж скал пламенно рдеющим ликом и застынет так на мгновение в горных вратах, словно златокрылый херувим. Тогда по ущелью струится огромная река огня, каскадами падает со скал и широкой золотисто-багровой полоской ложится на сумрачные низины. Проходит несколько часов, Солнце прячется за горы, и мягкий полумрак снова заливает тихую долину. 14
«Граждане! Нам уже не нужны мудрецы! Нам хватит того, чего мы достигли к настоящему времени. Правительство, имея в виду благо общества, вынуждено положить конец непомерной гордыне и разрушительным тенденциям.
А посему:
1. С сегодняшнего дня распускается объединение ученых, существующее под наименованием «Братство всеведущих».
2. Отменяются все пенсии, до сих пор выплачивавшиеся ученым, и им предоставляется право зарабатывать себе на жизнь физическим трудом.
3. Равно закрываются все заведения, занимающиеся так называемой «чистой наукой» и проводящие бесплодные исследования; остаются функционировать лишь институты, приносящие непосредственную пользу и экономическую выгоду.
4. В дальнейшем самым строгим образом под угрозой сурового наказания запрещается содержание частных лабораторий и издание трудов, которые после рассмотрения рукописей особой цензурой не будут признаны полезными для общества.
5. Сохраняются и содержатся на прежнем уровне ныне существующие профессиональные школы, но раз и навсегда закрываются все высшие школы, так называемые «философские», или «общие», и прежде всего содержавшаяся до сих пор за государственный счет «школа мудрецов».
6. Во избежание любого обхода распоряжения, изложенного в п.5, категорически запрещается частное обучение, под каким бы видом оно ни производилось.
Граждане! Правительство надеется, что вы с благодарностью примете к сведению настоящий указ».
Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет. В мире одного недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание, мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство… Необходимо лишь необходимое – вот девиз земного шара отселе…
Не убоюсь я зла…
РОБЕРТ ХАЙНЛАЙН
Мое знакомство с этим писателем началось еще в детские годы, и тогда я совершенно не был готов понять его книги. Охота за фантастикой только начиналась (современному читателю не понять нас тогдашних, потому что сейчас книг бери – не хочу, а чтобы тогда прочитать заинтересовавшую тебя книгу, нужно было побегать!). Я был охотником неопытным, но таким иногда везет, и в книжном магазине на полке совершенно свободно (!) лежала книжечка с большими буквами НФ на мягкой обложке. Эта аббревиатура была для меня чем-то вроде магического талисмана, и я, разумеется, сразу же выложил требуемую сумму, которой волею случая обладал, и отправился домой, прижимая к печени заветный томик. Так я стал обладателем седьмого выпуска известного всем фэнам альманаха, выпускавшегося издательством «Знание». Ольга Ларионова, Александр и Сергей Абрамовы, Григорий Филановский, Пол Андерсон… 18
И Роберт Хайнлайн с романом «Если это будет продолжаться…».
Вот пример того, как неудачно для возраста выбранная книга держит себя на расстоянии. Я ее просто не понял тогда. Этот томик не потерялся, он существует и сейчас, и только недавно я перечитал роман Хайнлайна, а до этого просто радовался, что у меня есть такая книга – но не трогал ее. Боялся разочароваться.
Продолжение знакомства состоялось незаметно: это был рассказ «Дом, который построил Тил», – но почему-то я не обратил внимания на автора, зато сам рассказ привел меня в восхищение и запомнился надолго. Я учился классе эдак в 8 – 9, рыскал по библиотекам сам и привлекал к поискам товарищей, если обнаруживал, что существуют фонды, вход в которые доступен лишь избранным (я имею в виду ведомственные библиотеки, в которых при посредстве приятелей я нашел значительную часть выпускавшейся тогда фантастики). Это было торопливое чтение, сопровождаемое страхом не успеть перехватить нужную книгу; я впитывал одну и бежал за другой, и при этом умудрялся годы спустя помнить и авторов, и сюжет наиболее ярких произведений. Оттуда, из этих фондов пришел и в них же затерялся рассказ Хайнлайна, как и многие другие, о которых я помнил, но возможности перечитать которые не представилось.
Трудно представить, что оба эти текста принадлежат одному и тому же автору, настолько они различны. Традиционная для Хайнлайна тема чести и долга в романе – и фантазия на тему четвертого измерения в рассказе: захочешь поискать более несхожие темы – не найдешь.
Третье знакомство с писателем состоялось годы спустя, когда я прочитал рассказ «Долгая вахта». И все же эпизодические встречи с Хайнлайном не создавали еще ощущения . Понимание его пришло позже, когда одна за другой, почти водо- или, точнее, книгопадом, обрушились свежеиспеченные и не всегда, к сожалению, грамотные переводы: «Туннель в небе», «Имею скафандр – готов путешествовать», «Свободное владение Фарнхэма»… Хайнлайна упрекали в воинственности, и есть за что. Но в то же время трудно не проникнуться его верой в человека, в то, что справедливость восторжествует, если не наблюдать со стороны, как набирает силу зло – и сокрушаться при этом, что некому зло остановить, – а вмешаться и дать отпор негодяям. автора
Если попробовать одним словом определить главную тему творчества писателя, я выбрал бы слово «долг». Его герои очень серьезно относятся к ответственности, которую налагает на них принадлежность к человеческой расе. Сознанием долга проникнуты и самоубийственные действия лейтенанта Далквиста («Долгая вахта»), который, узнав о попытке захвата власти группой офицеров, спешит на станцию космических ракет и, забаррикадировавшись, разбирает их боеголовки, чтобы и в случае поражения обезопасить Землю (действие происходит на Луне) от безответственной «демонстрации над незначительными городами». В романе «Космический патруль», к которому протягивается ниточка от этого рассказа, курсанты останавливаются перед бронзовым бюстом лейтенанта с надписью: «Лейтенант Далквист, один из тех, кто положил начало славным традициям Патрульной Службы».
Вообще Луна – излюбленная площадка Хайнлайна, исключая те редкие случаи, когда он забрасывает своих героев несравненно дальше, даже в другую галактику, Магелланово Облако. На Луне происходит действие романов «Луна – суровая хозяйка», «Имею скафандр – готов путешествовать», повести «Угроза с Земли», рассказа «Долгая вахта».
«Угроза с Земли»… Сразу представляешь себе нечто в духе «Долгой вахты», бряцанье оружием, милитаристский фон… Ничего подобного! Это история о двух молодых людях, живущих и работающих на Луне. И в их романтически-деловую идиллию неожиданно врывается женщина с Земли, – та самая угроза, которая обозначена в заглавии. Но как здорово изложена эта незамысловатая история! На пространстве всего в два десятка страниц Хайнлайн успевает сделать своих героев настолько живыми, что уже не хочется с ними расставаться: и Холли, и Ариэль, и Джефф остаются с тобой, и каждый раз, открывая книгу, я рад встрече со старыми знакомыми. Глубокого сожаления достойны авторы, которые пишут длинные романы, населенные так и не ожившими куклами, а Хайнлайн этим никогда не грешил!
Откроем роман «Имею скафандр – готов путешествовать» (так и хочется сказать – лучший, но так же хочется сказать и про любую другую его книгу). Куда только не бросает судьба его героев: Клиффорда Рассела, в просторечии Кипа, вчерашнего школьника, – и отважную Крошку лет тринадцати, носящую пышное имя Патриция Уайнант Рейсфелд, – сначала они попадают на Луну, а потом, заглянув по пути сначала на Плутон, а затем – на Вегу, забираются аж в Малое Магелланово Облако, а можно по пальцам пересчитать книги (я имею в виду хорошие книги!), авторы которых рискнули отправить своих героев дальше ближайших окрестностей собственной Галактики, так что я, пожалуй, не удержусь от соблазна бросить беглый взгляд на наш звездный остров со стороны: не часто выпадает такая возможность! Посмотрите и вы:
Наверное, это заветная мечта любого астронома – увидеть нашу Галактику со стороны. Я даже подозреваю, что только ради этого взгляда на небо Хайнлайн отправил Кипа с Крошкой во внегалактическое пространство. А самое страшное из опасений – что мечта эта никогда не осуществится, что человечество вечно будет приковано если не к Земле, то к тому крошечному лоскутку пространства, которое зовется Солнечной системой, что способ преодолеть межзвездные пространства никогда не будет найден и что знаменитые слова Циолковского «Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели» приобретут вместо оптимистического трагический оттенок.
«Имею скафандр – готов путешествовать» – замечательный пример романа приключений. Все начинается просто: главный герой книги, Клиффорд Рассел, школьник, мечтает попасть на Луну. Туда уже летают туристы, там есть база (разумеется, военная). Отец ничего не имеет против, но заниматься благотворительностью не намерен (хотя и мог бы профинансировать мечту, как выяснилось позднее), он считает, что каждый сам должен решать свои проблемы.
Прекрасный образец для подражания! Ты можешь хотеть чего угодно, но при этом не предполагай висеть на шее у родителей, добивайся всего сам.
И Кип доказывает, что у него не ветер в голове. Он участвует в конкурсе на лучшую рекламу мыла и получает за свое усердие космический скафандр (он-то надеялся выиграть главный приз – полет на Луну!). Но скафандр все же лучше, чем ничего, и Кип весь уходит в работу по восстановлению его работоспособности. И тут на него буквально падает с неба пиратский космический корабль. Нет-нет, никакого водевиля, все очень серьезно. Пришельцы, по некоторым приметам – со стороны альфы Центавра, хотят завоевать Землю, для чего построили на Луне свою, скрытую от людей базу и привлекли на службу не очень чистоплотных людишек с темной биографией. Но, как водится в добром приключенческом романе, на их пути встают Кип и Крошка, первоначально вынужденные добросовестно играть роли пленников. И с помощью третьей пленницы, веганки, ухитряются разрушить базу пришельцев на далеком Плутоне. Необыкновенной цепи их удач Хайнлайн находит оправдание: 20
По этому же поводу в романе «Кукловоды» Хайнлайн высказался еще короче: «Удача – это ярлык, который посредственность наклеивает на достижения гениев».
Главный вывод, который делает Кип, возвратившись из затянувшегося вояжа, – зло не должно оставаться безнаказанным. Непротивление и, как следствие, безнаказанность, рождает большее зло. И если в начале пути Кип молча терпит выходки местного Туза, то, пройдя через все перипетии борьбы с пиратами, он принимает вызов.
Переводчик англоязычной фантастики Александр Корженевский утверждает: «Любое произведение Хайнлайна – это яркая, нередко категоричная иллюстрация его убеждений, которые, надо сказать, довольно часто не совпадали с представлениями нашей литературно-переводческой номенклатуры. Теперь этих „критиков“ не вспоминают, а Хайнлайна, к счастью, печатают и читают. Однако мне всегда было немного жаль тех, чье детство и юность прошли без его замечательных книг».
Мне тоже…
Хайнлайн хорошо знает, зачем пишет. Его произведения, даже те, что сюжетно не связаны между собой, духовно общи и в целом представляют хорошо сконструированный мир, продуманный до мелочей, облаченный в плоть и кровь. Идеи Хайнлайна иногда шокируют (прочитайте «Звездную пехоту»! ), но неспроста в одном американском фантастическом романе Хайнлайн представлен президентом: у него есть талант убеждать и зажигать. 21
Откроем «Туннель в небе».
В сравнении с ЕГЭ что-то новое, не правда ли? Что это еще за экзамен – на выживание? И в каком ключе рассматривать последний пункт объявления, вывешенного на всеобщее обозрение? Разве жизнь в будущем станет настолько некомфортной, что от детей снова потребуются первобытные инстинкты?
И да, и нет. На самой-то Земле все устроено, но беда в том, что на ней слишком мало места. А вот новооткрытые миры, находящиеся, благодаря изобретению доктора Рамсботхэма, буквально за дверью, «не далее противоположной стороны улицы», требуют определенных умений, которые не приобретешь в цивилизованном окружении.

