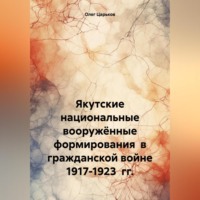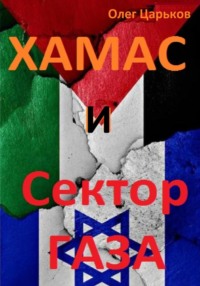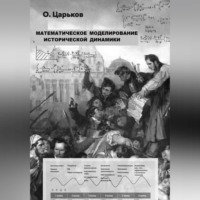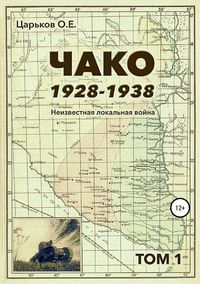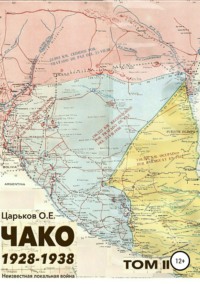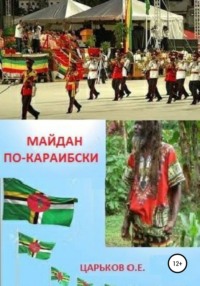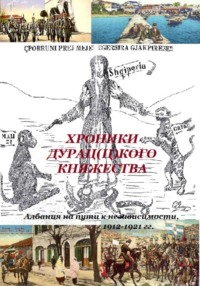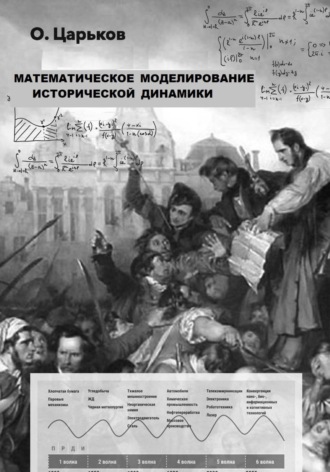 полная версия
полная версияМатематическое моделирование исторической динамики
Не отрицая роль насилия в образовании государств следует отметить, что оно, в значительной мере, связано с экспансией, т.е. овладением ресурсом или продуктом, имеющимся у соперника524. В случаях невозможности поглощения всего ресурса в силу различных причин его способ потребления трансформируется в экзополитическую экономику, известным как полюдье525. Данное социально-политическое явление представляет симбиоз волюнтаристской и силовой моделей управления. Оно представляют собой наиболее раннюю подсистему управления, в которой сильнейший из соперников устанавливает внешнюю синхронизацию над своим окружением. В настоящее время аналогом этого явления являются военно-политические союзы, в то время как взаимную синхронизацию можно наблюдать в экономических союзах. Их взаимодействие наиболее ярко проявляется в феномене национализма, который, несмотря на свои иррациональные корни, играет важную роль в консолидации отдельных элементов с целью обретения определённой выгоды526.
§27. ЛЕГИТИМАЦИЯ
“Власть легче взять, чем удержать” (Н. Маккиавелли)
В процессе своего развития каждая этносоциальная система постоянно делает выбор, предпринимая различные политические, экономические, культурные действия. При этом абсолютное большинство его членов не являются специалистами в вопросах, подлежащих решению. Только немногие из них являются специалистами, которые могут разумно оценить необходимость, пользу и опасность определённых шагов. Такая информационная ограниченность таит в себе угрозу как для индивида, так и сообщества, общества, цивилизации. На протяжении столетий они учатся принимать решения и оценивать мнения, вырабатывая различные критерии доверия. Они формируются из уровня признания (уважения) обществом конкретного индивида и оценки его творчества. Она представляет собой результат принятия решений в новых непознанных и/или неоцененных ситуациях и их последствий. От того, как “уважается” тот или иной лидер и/или специалист часто зависит судьба многих, а иногда всех. Этот “опыт” в условиях перманентных войн и стремлении установить монополию на власть весьма многообразен и чаще всего трагичен.
Централизация полномочий верховной власти всегда приводила и приводит к постепенному урезанию прав отдельных индивидов и их постепенной унификации. В тот момент, когда член сообщества поступает на службу к государю, тот как бы пересаживает его в искусственную почву, где всякая самостоятельность теряется. Даже если власть не контролирует и не управляет производством, но самостоятельно определяет размеры ресурса, изымаемого для общественных нужд, а затем по собственному усмотрению распределяет его, она представляет собой иерархию труда. Это связано с тем, что сам акт изъятия, определение его норм и распределение продукта не находится под общественным контролем, вследствие чего этносоциальная система находится под контролем своей подсистемой управления, принимающей форму государства. Её стремление, так или иначе, обосновать свою легитимность – прочное, продолжительное узаконенное право на верховную власть – стало важным условием для всякой власти, начиная династий древности527 и заканчивая выборными институтами современности.
Универсальной готовности к подчинению внутри сложной, а значит многоступенчатой, иерархии труда недостаточно для установления власти. Вследствие этого её внутреннее напряжение, связанное с ростом применения насилия (§12), нарастает. В целях его снижения возникает иной порядок подчинения, выразившийся в формуле „вассал моего вассала – не мой вассал”. Для исключения ситуаций неопределенности в большой структуре и даже вне ее, где знакомство в лицо уже невозможно, руководитель вводит выразительные средства или знаки, позволяющие членам сообщества и даже вне иерархии маркировать статус высших иерархов. В рамках такой системы власть и статус выходят за рамки своих функций в иерархии труда и порождают свои привилегии как добровольное подчинение независимых индивидов и представителей некоторых других социальных структур для последующего извлечения выгод от такого сотрудничества, что нередко является и коррупцией. Все вместе факторы власть, статус и привилегии, отраженные в иррациональном отношении части общества вне иерархий труда вперемешку с завистью к их носителю, формируют престиж528.
Необходимость этического восприятия верховного носителя власти главы (персонифицированного или мнимого) членами общества проистекает из углубления конфликта внутри иерархии труда и/или опасности извне. „Процесс признания социальными субъектами значимости общественно-политической реальности, как в целом, так и в её отдельных проявлениях и составляющих” определяется, как легитимация или признание обществом институтов власти, которые получают право принимать решения от его имени и устанавливать правовые нормы. Реальное действие права соответствует формуле: „закон плох, но это закон”. С установлением законности власть действует именно от его имени, а не от имени общества.
Таким образом, в одном случае легитимация осуществляется путём добровольного согласия, а в другом случае извне путём насилия. „Добровольная легитимация” базируется на трёх основных принципах: харизме лидера, традиции и рациональной практике управления. С системной точки зрения она представляет собой процесс взаимной синхронизации элементов системы, часть из которых начинают выполнять функции блоков управления. „Насильственная” легитимация представляет собой внешнюю синхронизацию и проводится уже существующей подсистемой управления на основе существующих правовых норм.
История кризисных ситуаций, среди которых главную часть несут внутренние конфликты и войны, нарушающие потребность в безопасности, выделяет важную, хотя и неоднозначную роль исторических личностей, возглавлявших различные социальные движения, властные и чисто военные структуры. Хорошая документированность фактического материала создало у первых классических историков представление о „свободе выбора”. Известная вариабельность форм поведения и практического мышления исторических личностей особенно заметна в античном мире, феодальной Европе, где сохранились многочисленные записи о разнообразии их решений и поступков.
Повышение роли личности в историческом процессе отражает развитие социальных структур, их количественный и качественный рост. В условиях неустойчивого состояния этносоциальной системы творческая активность одного или сообщества индивидов может повлиять и даже изменить направление его развития. Так появляется дилемма: если некая личность нашла решение острой проблемы для сообщества, и оно пошло за ним, то является ли это заслугой конкретного человека или результатом работы всего коллектива? Тут же возникает другой вопрос, который можно сформулировать следующим образом: возможно ли, что при отсутствии лидера, сообщество возглавит другой кандидат?
Почти все „великие” личности характеризуются высоким уровнем метапотребностей, в первую очередь, уважения, близкого к нарциссизму и известного как „мания величия”. Когда представитель правящей династии или другая харизматическая личность достигают определённого уровня власти, они имеют больше свободы по отношению к обществу, чем общество в целом и по отдельности. Даже ошибки, которые они совершают, рассматриваются, как „свобода ошибки”. Это понятие существует до сих пор и рассматривается, как неотъемлимая часть свободы выбора, что позволяет политическим деятелям избегать наказания за явные провалы своей политики. Исторический процесс, как мультипликатор деятельности множества людей, „отрабатывает”, корректирует в соответствии с общественными потребностями эти ошибки. В этом смысле он представляет собой ООС, в форме системы социального регулирования.
Механизм легитимации529, соединяющий верховного правителя с вождями подвластных ему иерархий труда530, состоит из двух элементов. Первый из них является пережитком родового строя и заключается в установления кровнородственных связи семьи правителя с подвластными ему вождями. Установление кровнородственных связей с правителем империи выполняет похожую функцию и представляет собой своеобразную систему заложничества. С одной стороны, отдавая свою дочь в гарем сюзерена, вассал мог рассчитывать, что его внук станет правителем империи. Сын субвождя, поступая на службу к владыке, мог сделаться его приближённым помощником или даже зятем531. В свою очередь, глава империи мог надеятся, что субвождь искренне привязан к своим детям и не станет рисковать их жизнями ради призрачной независимости.
На практике отношения сюзерена с вассалами были более сложными, но общая тенденция династических браков, в принципе, привела к интеграции верхушки родовой знати в состав правящих династий, которые, в свою очередь, установили контроль над территориями. Для семей, в которых наследственность определяет порядок передачи власти этот принцип не соблюдается: на передний план выходят политические или другие неромантические причины, и во внимание принимается соотношение власти и богатства потенциальных супругов. Брак по политическим, экономическим или дипломатическим причинам был привычным явлением для элит на протяжении многих веков532.
Вторым элементом легитимизации является институт раздела военной добычи и/или дани, а также периодическое распределение престижных товаров533. Как правило, трофеи делили «на пропорциональные части между высшими и низшими» разрядами воинов, причем известная часть трофеев доставалась верхушке знати, хотя бы они и не участвовали в походе. Раздавая подарки и почётные титулы своим соратникам и вассальным вождям, глава державы увеличивал свое политическое влияние и престиж, обретая образ „щедрого правителя”. Вместе с тем, он привязывал своих реципиентов „обязаностью” отдаривания, которое может осуществляться в виде дополнительных дани и/или обязательств, в частности посылке воинских контингентов. Получатели подарков, в зависимости от своих склонностей, могли поступать двояко: удовлетворять личные потребности или повышать свой статус. Как правило, авторитет укрепляется тремя путями: непосредственной раздачей и/или временной передачей подарков, посредством организации церемониальных праздников и трансгрессии харизмы правителя во время их демонстрации.
Процесс насильственного установления власти описывает модель Ханнемана534, которая связывает престиж власти, её легитимность и внешний конфликт. Она предполагает, что стремление правителей развязать войну прямо пропорционально разности между желаемым уровнем легитимности и ее текущим значением. Для любого заданного уровня конфликта степень успеха пропорциональна мощи субъекта в сравнении с суммарной мощью его соперников. Его престиж пропорционален доле захваченного ресурса : , а легитимность с некоторой задержкой определяется приобретённым престижем и колеблется в пределах от 0 до 1.
Военная мощь может быть определена, как соотношение стратегий соперников, т.е. , а уровень конфликта пропорционален количеству соперников и опыту , накопленному за предыдущие этапы соперничества. Таким образом, в рамках модели коллективного поведения получаем систему уравнений для модели Ханнемана на шаге m+1:
, , и ,
Повторив предыдущие рассуждения, для состояния имеем:= и . Откуда следует, что .
Для упрощения анализа введём суммарную характеристику опыта = . Её область определения множество положительных чисел (). Вследствие этого итерационная процедура Ханнемана для базовой модели имеет вид . Из , имеем или
(21).
Используя модель Ханнемана, можно определить пределы, в которых происходит легитимизация верховной власти при наличии хотя бы одного соперника535. Уравнение (21) устанавливает зависимость между допустимой легитимностью и социальным имиджем каждого из соперников, а также их количеством. Из анализа, проведённого в §§24-25, получаем, что с истечением некоторого времени, согласно условию (19) останутся только два претендента в борьбе на власть. Победа одного из них будет предрешена, если его характеристики не будут удовлетворять условиям (17) или хотя бы (18). Обозначим отношение В этом случае равенство (21) принимает следующую форму:
Для оно справедливо всегда, когда выполняется условие (22.1).
Определим для состояния равновесия условие, которому должен удовлетворять имидж второго претендента: .
Из (17) следует, что для полной устойчивости должно выполняться неравенство
(22.2).
Для асимптотической устойчивости оно имеет следующий вид
536 (22.3).
Таким образом, обязательным условием для продолжения противостояния агента с более низким институциональным престижем является более высокая отдача ресурса. В противном случае при имется перспектива установления диархии или автократии. Кроме того, при определённых обстоятельствах может возникнуть эффект качелей, отбражённый на рис. 6. Оба случая можно избежать в случае искусственного ограничения срока соперничества. Эмпирическое осознание этого факта цивилизацией привело к появлению коллективной формы власти, которая гарантироваровала выборность лидера. Положение „первого среди равных” в зависимости от личных качеств его реальная власть могла быть как номинальной, так и подлинной.
В процессе легитимации конечным объектом узурпации верховной власти становится область традиций и права, а прямым следствием – присвоение фискально-полицейских функций. В качестве типичного примера такого процесса можно привести историю правителей Ашшура, возвысивших её до уровня «первой мировой державы», создав Pax Assyriaca. Первоначально ассирийское государство537 именовалось „а́лум А́шшур”538 и представляло собой укреплённый торговый город с прилегавшей сельской округой. Правитель носил титулы „ишшиа́ккум”539 и „шангу”540. В мирное время он руководил культовыми и строительными мероприятиями, а в военное – командовал войском. Его власть ограничивало народное собрание и совет старейшин, роль которого со временем стала ведущей541. В среднеассирийский период542 значительно возросла роль ишшиаккума, который стал выполнять и функции укуллума. На должность лимму он всё чаще назначал членов своей семьи, а затем узурпировал сам. Получив доступ к финансам, ассирийские владетели создали постоянную армию, с помощью которой приступили к расширению своей территории. Усиление правителей Ашшура проявилось в периодическом использования аккадского царского титула «шару». Становление царской власти происходило в борьбе с аристократией и закончилось компромиссом543.
В начале первого тысячелетия до Р.Х, арамейско-ахламейские племена прорвались из-за Евфрата в Верхнюю Месопотамию, поставив Ассирию на грань гибели544. В отличие от своих соседей царство пережило бронзовый коллапс545 и приспособилось к новым реалиям железного века. В X веке до Р.Х. цари перенесли свою резиденцию в другой город, сохранив за Ашшуром роль культового центра и места погребения умерших царей. В течение двух последующих веков Ассирия восстановила свою мощь и утвердила свою гегемонию в Передней Азии.
Новоассирийское царство – результат высокого уровня развития ассирийского этноса, который знаменует формирование новой технологической платформы, основанной на железной металлургии. Вслед за изменением материальной базы происходит самоорганизация ассирийского общества, которая проявляется в окончании зависимости царя от городского совета Ашшура. Процесс укрепления центральной власти сопровождается формированием собственной культуры, источником которой стал Вавилон, носитель древних традиций. С IX века до Р.Х. обогащённая военной добычей верхушка ассирийского общества поменяла свою ментальность и стала уделять больше внимания искусству, литературе, науке, формируя новый вид духовной культуры и отражая его в идеологии.
§28. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ СОЛИДАРНОСТИ
„Если не я за себя, то кто за меня? А если я только за себя, то зачем я? И если не сейчас, то когда?”(Гиллель Вавилонянин)
Концепт солидарности представляет собой самостоятельный предмет изучения различных областей гуманитарного знания и является одной из характеристик социальной организации. Вместе с тем этот термин является общеупотребимым и подразумевается в интерпретации Дюркгейма как моральное явление. Оно не поддается измерению, а его изучение возможно лишь посредством наблюдения социальных последствий, им порождаемых. Например, если солидарность образованных слоев этноса может быть отражена в письменных источниках, то осознание своей общности в качестве носителей культуры. У других членов сообщества она выражается в совместных действиях, направленных, например, против внешней угрозы546. Философское понимание солидарности коррелирует с теорией “размягчения духа”547, которые пытались сформулировать первые макроисторики548. Попытки построить другие модели, выделив похожие характеристики549, также не увенчались успехом, поскольку не были способны определить причину данного явления. С точки зрения теории управления оно представляет нарастание внутрисистемной энтропии, которая становится причиной гибели системы. Эта перманентная угроза формулирует третью социальную потребность системы – необходимость в её регенерации, аналогичную феномену биологического воспроизводства. Таким образом, солидарность характеризует целостность этносоциальной системы и становится её важнейшим динамическим параметром.
Асабия ибн Халдуна прекрасно вписывается в гипотезу Дюркгейма550 о наличии двух видов солидарности – механической и органической. Механическое сплочение является низшей формой, поскольку она основана на подобии между личностями. Связывая его с асабией в понимании ибн Халдуна можно утверждать, что по мере развития отношений она проходит три этапа: прайд, стаю и касту/сословие. Последняя стадия представляет собой переходный этап от солидарности механической к организованной и представляет собой осознание элитой своего отличия от подвластного населения. Следствием этого является образование корпораций – сообществ, целью которых является удержание монополии на власть или ресурс, который её обеспечивает. Защита общих интересов сопровождается поиском потенциальных союзников. В результате этого процесса происходит возникновение и укрепление горизонтальных связей, которые позволяют приостановить падение уровня асабии стаи. В редистрибутивной иерархии труда этот процесс протекает в форме унификации уровней надстройки. Типичным его примером является создание иерархии европейских феодальных титулов.
Органическая солидарность является прямым следствием дальнейшего разделения труда и представляет взаимозависимость, возникающую вследствие этого процесса. Основным её критерием становится культурная однородность, которая в процессе эволюции формирует целостность индустриального общества на основе промышленной организации труда. Она достигается социальной, лингвистической, религиозной и территоральной унификацией. Вследствие своей природы органическая солидарность является антагонистом асабии, которая распадается при тесном контакте с ней551. При этом сословная солидарность в силу своей большей устойчивости долгое время сохраняется или меняет свои формы.
При товарообмене главным посредником являются деньги, которые представляют собой всеобщий эквивалент стоимости. Обезличено-вещный характер отношений рынка, из которого вырастают экономические классы, является полной противоположностью непосредственно-личностным отношениям присущим реципрокации и редистрибуции. Первоначально они являются сословиями – большими аморфными совокупностями людей, включённых в различные иерархии труда, с объективно существующей, но субъективно не осознанной общностью в системе производственных отношений552. Они возникают в процессе установления горизонтальных корпоративных связей в редистрибутивной иерархии.
С институализацией товарообмена, как основной формы отношений, начинает формироваться гражданское общество – совокупности добровольных, самодеятельных сообществ (иерархий труда) с явно выраженными группами, объединённых горизонтальными связями, возникшими на основе общности частных интересов. Его исходной матрицей являются горизонтальные связи свободных товаровладельцев на рынке, которые в период начального накопления капитала продуцируют органическую солидарность «рынка».
Промышленная революция является следствием дальнейшего углубления общественного разделения труда и порождает второй солидарности – классовый. По мере осознания членами “класса в себе” своих интересов увеличивается их органическая солидарность, превращая сообщества в „класс для себя”. В правовом аспекте индивидуальные связи принимают безличную форму, в которой каждый член общества является субъектом собственности и равен перед законом553. Таким образом, идея гражданского общества представляет парадигму свободы выбора для равных субъектов, обладающих собственной волей.
Позитивное понимание преимуществ гражданского общества и добровольных организаций ассоциируется с демократией. Оно основывано на мнении Токвиля о том, что американцы очень сильно предрасположены к созданию частных обществ и организаций, которые являются школой демократии, так как прививают людям навыки объединения ради общественных целей. Люди сами по себе слабы; и лишь объединившись ради общей цели, они, среди прочего, могут противостоять власти тирании. Предрасположенность к самоорганизации, которая трактуется, как „социальный капитал” полезна для демократии, но в конце ХХ века она подверглась опасности554.
Теории социального капитала и социального доверия оперируют такими понятиями, как взаимная поддержка, сотрудничество, социальное доверие и институциональная эффективность. „Социальный капитал обращается к таким чертам социального устройства, как доверие, нормы и сообщества, которые могут улучшать эффективность общества, облегчая скоординированные действия”555. Следовательно, он может рассматриваться, как один из параметров, определяющих способность социальной системы к коллективному действию, определяя порог синхронизации её отдельных элементов с целью их унификации и упрощения. Подобная „адаптация” системы воспринимается как существенный признак современного общества.
Каждому типу процесса адаптации сообществ соответствует собственная специфическая форма социального капитала, который подчиняется всеобщему закону капиталистического накопления556. С развитием капитализма всё более углубляется противоречие между общественным характером труда и частной формой присвоения. По этой причине социальный капитал, как и асабия557, полезен исключительно для „своих”, вследствие чего он приобретает некоторые черты реципрокации. Вследствие этого эффекты от его использования не всегда позитивны558, как на уровне сообщества, так и общества.
Соединяющий или включительный капитал осуществляет внутреннюю адаптацию страт на основе информационных технологий и/или делает ставку на „мягкую силу”, т.е. идеологическую и культурную притягательность определённой страны или образа жизни. В частности, СССР создал свою форму мягкой силы, которую на Западе условно называли коммунизмом. Она привлекала простоватых коллективистов в Италии и других латинских стран, китайцев, вьетнамцев, сербов, французских рабочих.При этом, "ортодоксальный" коммунизм был абсолютно неприемлем для мира ислама559, общества потребления и лишь частично близок к Конфуцию. Не вызывала красная "мягкая сила" восторга и в Индии, за пределами специфических штатов Западная Бенгалия и Керала, а во многих колониальных странах становилась оправданием этнических чисток.
Связывающий или исключительный капитал – представляет собой форму внешней синхронизации в форме глобализации и унификации сообществ. В ней основной упор делается на «цветные революции» и контроль над мировыми финансами. Распределение обоих видов социального капитала по регионам, странам и континентам различно и определяется многими факторами, а обратная связь реализуется через степень социального доверия, которое определяет параметры экономической эффективности560.
Методологическая база теории социального капитала561 позволяет оценить способность индивидов к солидарному поведению, способность жертвовать индивидуальными преимуществами ради общего блага и склонность к самоорганизации в кризисных ситуациях. Выделив элиту в качестве сообщества, можно оценить её сплочённость и сравнить с аналогичными характеристиками социума. Сравнение характеристик элиты и социума позволит определить степень допустимого насилия как для конкретного случая, но в силу своего детерминизма не позволяет изучать процесс в динамике.
В той же последовательности, в какой органическая солидарность вырастает из асабии, социальный капитал порождает виртуальную реальность. По мере обособления информатики и её технологий от индустриальных процессов возник новый вид коллективной солидарности. Его условно можно назвать сетевым или виртуальным, а первоисточником следует считать накопление и институализацию связывающего капитала на глобальном уровне. Его концептуальной основой является общество потребления, а господствующей идеологией – принципы „либеральной демократии”. Вследствие этого на уровне социума утверждается курс на отмену национального государства и замену его надсистемным управлением. Идеологической базой этой трансформации являются идеологеммы „конца истории”562 и „глубинного государства”563, а практическая реализация осуществляется в форме культуры отмены, программ деиндустриализации и глобализации. Продуктами такой политики являются дезинтеграция реальных и потенциальных соперников и унификация элементов социума. Она приводит к всеобщей обскурации и делению «демократического» общества на две части – демагогов и охлос. Это явление, впервые проявившееся в эллинистических Афинах, периодически имеет место в мировой истории564.