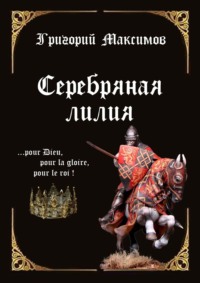Полная версия
Когда ангелы слепы
Каждый год шестого января, в день чествования трёх волхвов, передняя сторона ларя снималась, и взору прихожан открывались хранящиеся в ларе за решёткой три черепа, увенчанные золотыми коронами, благодаря которым их ещё называют головами Трёх королей.
Во время торжественной мессы святое причастие из рук архиепископа приняло около тысячи человек, после чего расступившиеся гвардейцы позволили прихожанам одним за другим подходить к ларю и прикладываться к святым мощам.
Всё шло своим чередом. Несмотря на ледяной холод, царивший в соборе, всеми владело чувство праздника и великого торжества. Ничто не предвещало чего-то дурного или из ряда вон выходящего, как вдруг произошло то, что весьма часто происходит на церковных службах, но чего совершенно не ожидали именно в этот раз. Уже после мессы, когда люди стали подходить и прикладываться к ларю, архиепископ решил сказать ещё пару назидательных слов своей пастве. Но вдруг откуда-то из плотно сбитой толпы заголосила безумная.
– Врёшь, врёшь, тварь, врёшь… – послышался чей-то жуткий голос.
Прозвучал он столь ясно и столь неожиданно, что начавший говорить архиепископ невольно умолк.
– Заткнись, тварь, и молчи, как тебе велено! – повторил тот же голос уже молчащему архиепископу.
Огромная толпа прихожан, будто оцепенев, замолкла вместе с ним. С минуту в соборе царила могильная тишина, слышались лишь порывы зимнего ветра, стенающие в его сводах.
– Ха-ха-ха… Заткнулся! А теперь пошёл прочь отсюда! – нарушив гробовое молчание, сказал тот же голос.
– Бесноватая! – послышалось из толпы.
– Сумасшедшая!
– Ведьма!
– Ха-ха-ха… Сами вы все бесноватые, твари, – ответил им тот же голос.
Опомнившийся архиепископ дал молчаливую команду своим гвардейцам, чтобы они схватили того, кто посмел его оскорбить. Расталкивая толпу, гвардейцы бросились туда, откуда доносился голос. Возмутительницей спокойствия оказалась безумная старуха, одетая в жуткие полуистлевшие лохмотья. Казалось, что справиться с ней не составит труда. Но едва один из гвардейцев попытался её схватить, она вдруг подпрыгнула, словно крылатый кузнечик, и ухватилась за абсолютно гладкую колонну собора. Онемевший гвардеец застыл как вкопанный, и все, кто стояли рядом и видели это, в ужасе отшатнулись. Сама же старуха, словно сороконожка, вскарабкалась по совершенно гладкой колонне и засела на её резной капители.
За этим невероятным зрелищем наблюдали все прихожане собора. Толпу охватило смятение, а нескольким особо эмоциональным женщинам стало дурно.
– Ведьма! Будь ты проклята, ведьма! – стали кричать из толпы.
– Это же Дурная Ута, сумасшедшая из Роденкирхена. У нас в Роденкирхене все её знают, – громко сказал кто-то из прихожан, так, чтобы все могли его слышать.
– И что, у вас в Роденкирхене, все безумцы такие? – едва сдерживая гнев, спросил у него другой прихожанин.
– Да ею же владеет нечистая. По-другому и быть не может, – сказал кто-то ещё из толпы.
– Да, да, нечистая! Нечистая! – стали повторять люди.
Сама же Дурная Ута, зацепившись за каменный узор капители, снова принялась за своё.
– Ха-ха-ха… Сами вы все бесноватые. Это всеми вами владеет нечистая, – прокричала она, взирая сверху на гневающийся народ.
– Заткнись, ведьма, заткнись! – кричали ей снизу.
– Я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь. И звёзды упали с неба на землю. Близится, близится Страшный Суд! Все вы будете погребены заживо… – словно безумная прорицательница, проворчала старуха.
Стоящий в толпе Ларс, услышав строки из Апокалипсиса, тут же вспомнил голос, некогда напугавший его посреди ночной улицы.
Не желая больше терпеть оскорбления, Герман фон Вид развернулся и быстрым шагом покинул собор через подсобный выход. За ним ушла и большая часть присутствовавшего в соборе духовенства. Оставшиеся монахи и служки стали закрывать и убирать прочь ларь с мощами. Людям же сказали, что праздник окончен, и все могут расходиться.
Но возбуждённой толпе уже давно было не до святых мощей. Все взгляды были прикованы к Дурной Уте, сидящей на капители колонны. А та и рада была стараться сыпать на их головы проклятия и угрозы, держась левой рукой за капитель, а правой размахивая во все стороны.
Наконец к колонне, по которой карабкалась сумасшедшая, подоспел бравый солдат с огромной шестиметровой пикой и стал пытаться достать ею сидящую на капители. Но в момент, когда ему это почти удалось, старуха вдруг на мгновение сжалась, как кошка, и тут же, оттолкнувшись от этой же капители, прыгнула в застеклённое витражное окно. Вдребезги разбитый витраж разлетелся на сотни осколков, а дурная старуха, по-кошачьи приземлившись на землю, унеслась восвояси.
Поднятая на ноги городская стража немедленно бросилась на поимку возмутительницы общественного спокойствия. Вслед за ними последовали гвардейцы архиепископа и многие из присутствовавших в соборе прихожан.
Буквально вылетев из собора, и точно кошка, приземлившись на землю, Dumme Uta, как ни в чём ни бывало, направилась домой в Роденкирхен. Там её и схватили проходящей через ворота святого Северина, ведущие в её родной пригород. Пойманную крепко связали, чтобы она не смогла ничего выкинуть, и, усадив в телегу, повезли в городскую темницу, расположенную в башнях Петушиных ворот. В тот же день, в поднятом на уши Роденкирхене, схватили и единственную дочь Дурной Уты, промышлявшую проституцией на постоялом дворе, а заодно и двух её малых детей, коих она прижила от своих случайных клиентов. Их ветхий домишко на самом отшибе опечатали и наглухо заколотили досками.
Слухи о случившемся в соборе на день Трёх королей мигом разлетелись по округе, причём далеко за пределы кёльнского архиепископства. И если в самом Кёльне всё пересказывали примерно так, как и было на самом деле, то уже в соседних Бонне, Дюссельдорфе и Ахене говорили, что некая злая колдунья носилась по святому собору, поражая всех камнями и градом, а его святость архиепископа Кёльнского чуть было не схватила и не унесла с собой, но святые волхвы, чей праздник был в этот день, за него заступились. А в ещё более отдалённых Мюнстере, Касселе и Висбадене говорили уже, что эта колдунья летала по всему городу верхом на дохлом чёрном козле, извергая пламя и молнии, сжигая дома и церкви, и сотнями поражая ни в чём неповинных людей.
Но самым главным из всего этого вышло то, что вся западная Германия, от Ольденбурга до Штутгарта, а заодно и прилегающие к ней Нидерланды, твёрдо и окончательно уверовали в существование ведьм и их дьявольского колдовства, а главное, в необходимости бороться с ними со всей бескомпромиссностью и беспощадностью.
Уже на следующий день после произошедших событий в Кёльне собралась коллегия судей, чтобы определить, каким же судом судить безумную старуху за все её выходки. Ей вменили оскорбление его высочайшей святости, злостную и преднамеренную порчу дорогого церковного имущества и, главное, явную связь с нечистью. Уже за каждый этот пункт в отдельности могла грозить самая суровая кара, а что и говорить о совокупности всех обвинений.
Но сначала специальная коллегия священников должна была определить, действительно ли старуха из Роденкирхена является ведьмой или же она попросту одержима злым духом. Разобраться в этом повелел сам архиепископ Кёльнский Герман фон Вид. Именно от того, каким будет решение коллегии, и зависела дальнейшая судьба Дурной Уты и её семьи.
В течение нескольких дней её подвергали допросам и разного рода испытаниям, пытаясь выяснить её действительное состояние. И подавляющее число людей, сведущих в данном вопросе, почти единодушно сходилось в том, что старуха, устроившая переполох на день Трёх королей, именно одержима и не может в полной мере отвечать за свои преступления. Уже само по себе безумие и постоянно произносимый бред прямо говорили об одержимости. В пользу того, что она всё же является ведьмой, аргументов практически не было. Ведьмы, напротив, почти всегда сохраняют здравый рассудок, открыто не заявляют о себе и идут на все уловки и ухищрения, чтобы выдать себя за достойных и порядочных женщин.
Спустя неделю после случившегося, в аббатстве святого Пантелеймона собралось последнее заседание коллегии священников, должных объявить своё окончательное решение. Коллегия признала Дурную Уту одержимой злым духом, и прямо здесь же, в аббатстве, планировала передать её в руки палача Ганса Фольтера, чтобы тот посредством пытки изгнал из неё злые силы. В помощь ему были назначены двое бенедиктинских монахов из того же аббатства, прекрасно сведущих в экзорцизме. Дальнейшую судьбу старухи и её родных решено было определить потом, после того как её тело и разум будут освобождены от владеющей ими нечисти.
Но всё в одночасье изменила воля простых жителей Кёльна. Неделю, минувшую с праздника Трёх королей, горожане пристально наблюдали за тем, как повернётся дело и каким образом поступят со старухой из Роденкирхена. Все считали, что осквернив святой праздник, она оскорбила не только самого архиепископа Кёльнского, но и буквально каждого из них, опозорив Кёльн на весь христианский мир. Но самым главным оказалось то, что народ и слышать ничего не хотел об её одержимости, считая злосчастную старуху сущей ведьмой, и требуя суда над ней именно как над ведьмой.
В день, когда коллегия священников готовилась объявить об одержимости Дурной Уты и передать её в руки экзорцистов, к аббатству Святого Пантелеймона подступила огромнейшая толпа народа из нескольких тысяч человек, собравшихся как из самого города, так и из земель архиепископства. Люди были злы, и решительно настроены навязать священникам свою волю. Многие были вооружены вилами и остро отточенными кольями. Все опасались, что после того, как из старухи изгонят нечистого, архиепископ просто помилует её, и та избежит заслуженного наказания. Народ требовал признать её ведьмой и судить самым строгим образом.
Аббатство оказалось буквально осаждено, и находившееся в нём духовенство всерьёз опасалось народного гнева. Телеге Ганса Фольтера даже не дали подъехать к воротам монастыря. Не зная, как поступить, члены коллегии решили послать своих делегатов к самому архиепископу, чтобы тот сам разрешил поставленный перед ними вопрос. Вслед за монахами отправилась и шумная делегация от простонародья. Благо для всех, его святость в это время как раз пребывал в Кёльне, в своей старой резиденции недалеко от собора. Выслушав аргументы обеих сторон, светский и духовный владыка уступил воле народа. И согласно ей, полоумную старуху должен был судить специальный ведьмовской трибунал, занимавшийся разбором дел, связанных с колдовством.
Для ведьмовских процессов назначался особый трибунал со специальным составом судей, так называемых «комиссаров ведьм» – hexen kommissar. Это были самые опытные и уважаемые судьи города, в остальное время ведущие гражданские и уголовные процессы. Но так как в делах, связанных с колдовством, необходимо было экспертное знание многих богословских вопросов, то в составе каждого трибунала по делам ведьм обязательно присутствовали и духовные лица. Именно они давали окончательную оценку связи подсудимого с дьяволом и его силами. Изначально преступления, связанные с колдовством, рассматривались духовными судами, но затем, с началом Реформации и ослаблением духовной власти, эти процессы перешли в ведение особых судов.
Трибунал по делам ведьм города Кёльна состоял из четверых судей. Главой трибунала был Ганс Рихтер – один из наиболее знаменитых и уважаемых светских судей города и всего архиепископства. Помогал ему Герман Присс – такой же опытный и знатный светский судья. Главным от духовенства был священник церкви Святой Марии Капитолийской доминиканец отец Якоб, очень уважаемый в народе, и весьма сведущий во всех богословских делах. Помогал ему отец Вертер, также доминиканец и сведущий богослов.
Одеяние двух мирских судей состояло из тёплых объёмных шаубе чёрного цвета с серым меховым отороком. На головах у них были береты с низким затылочным козырьком и выпуклой передней частью. Берет такого покроя могли носить только судьи, учёные, священники и некоторые весьма почтенные бюргеры. Духовные судьи были облачены в своё обычное доминиканское одеяние из белой рясы и чёрного плаща с капюшоном.
Старуха Ута предстала перед этим особым судом спустя два дня после событий у аббатства Святого Пантелеймона и последовавшего за ним решения архиепископа Кёльнского. Заседания трибунала проходили в одном из залов городской ратуши, при усиленной вооружённой охране и большом скоплении зрителей.
Доставленная в ратушу, подсудимая была руками и ногами закована в кандалы, на голове у неё была «ведьмина сбруя» – специальная стальная конструкция, похожая на намордник. Главной деталью этой «сбруи» был кляп, плотно вставленный в рот и мешающий издавать хоть какие-то звуки. На затылке сбруя запиралась на небольшой, но прочный навесной замок, сбоку к ней была припаяна цепь, обычно находящаяся в руках тюремщика или палача, а в остальное время прикованная к стене камеры. Как и предполагал старинный обычай, в залу суда ведьму вводили спиной вперёд, и точно также ставили спиной к судьям. Возможно, делалось это из-за того, что ведьмы, как предполагалось, могли взглядом воздействовать на членов трибунала. Для того, чтобы та могла отвечать на вопросы, стоящий рядом тюремщик снял с её головы сбрую.
В начале судебного заседания главный судья должен был задать подсудимой несколько предварительных вопросов, а именно: узнать её имя, сословие, к которому та принадлежит, а также её нынешнее место жительства. Но в случае с Дурной Утой всё это оказалось пустой тратой времени. Сколько главный судья ни пытался получить от неё хоть какие-то вразумительные ответы, старуха так и не назвала ни своего имени, ни сословия, ни места жительства. Впрочем, всё это было уже известно судьям заранее, и Ганс Рихтер вполне резонно приступил к дальнейшей части судебного заседания.
Повторив все пункты обвинения, главный судья спросил, признаёт ли подсудимая себя виновной во всём этом.
– Ута Франц, признаёте ли вы себя виновной в том, в чём вас обвиняют? – громким и резким голосом спросил Ганс Рихтер.
– Вон отсюда, горбоносый! Вон отсюда, я говорю! – прохрипела в ответ старуха.
Бросившийся к ней тюремщик хотел было снова заковать её в намордник, но судья подал знак, чтобы он пока этого не делал.
– Ута Франц, признаёте ли вы себя виновной в том, в чём вас обвиняет суд? – также громко и резко повторил судья.
– Пошёл вон отсюда! Будь ты проклят, горбоносый червь! – и не думая отвечать по существу, повторила безумная.
– Оскорбление суда не только усугубляет вину, но и является её прямым доказательством, – спокойно и холодно сказал Ганс Рихтер. И, тут же, повернувшись к писарю-протоколисту, сказал, чтобы тот отметил положительный ответ подсудимой на заданный ей вопрос, по сути означающий её признание.
Далее судья продолжил согласно interrogatorium- особому вопроснику, бывшему у каждого трибунала, судившего за колдовство. Вопросы interrogatorium вырабатывались судами в виде инструкций к руководству допросов и предлагались однообразно всякой привлечённой к суду ведьме.
– Признаёте ли вы, Ута Франц, то, что являетесь ведьмой? – задал он первый стандартный вопрос, прочитав его по вопроснику.
– Да, да, дьявол бы вас всех забрал! – неожиданно ответила старуха, подняв ропот в зале, в котором было много прихожан из собора, своими глазами видевших её подвиги.
Писарь-протоколист, аккуратно макнув перо в чернильницу, поставил «Ja» напротив строки с вопросом.
– Как давно вы занимаетесь колдовством, находясь под властью злых сил? – зачитал второй вопрос главный судья.
– Ха-ха-ха! Твоя поганая матушка была ещё в утробе у твоей бабки, кривоносый ты поганец! – во весь голос, ехидно смеясь, ответила подсудимая.
По залу прокатился сдавленный смех. Но Ганс Рихтер, флегматичный и глубоко уверенный в своей правоте, оставлял все оскорбления Дурной Уты незамеченными, хладнокровно и педантично продолжая допрос. Повернувшись к протоколисту, он приказал ему напротив второго вопроса поставить срок семидесятилетней давности, а именно- 1473 год, бывший годом рождения его матери.
– Что вас побудило к занятию колдовством? – задал судья третий вопрос из вопросника.
Дурная Ута молчала, то ли не понимая вопроса, то ли не зная, что на него ответить, и судье пришлось дважды его повторить.
– Все вы будете погребены заживо, – наконец сдавленным голосом прошептала старуха.
Приняв эти слова за ответ на вопрос, протоколист записал: «Желание приводить людей к смерти».
– В каком образе вам впервые явился дьявол и в какое время – утром, днём, вечером или ночью? – задал очередной вопрос главный судья.
– В образе твоей бабки, в 1473 году, – в очередной раз проявив остроумие, ответила Дурная Ута.
По залу вновь прокатился сдавленный смех, а писарь-протоколист слово в слово записал ответ подсудимой.
– Что он с вами делал? О чём говорил, и о чём договорился? – последовал следующий вопрос из вопросника
– Пообещал, что родит матушку поганого судьи этого поганого города, – в той же манере ответила Дурная Ута, и тут же зашлась жутким ехидным смехом.
На этот раз зал молчал, а по хладнокровному лицу судьи стало видно, что сие хладнокровие даётся ему нелегко. Тем не менее, и этот ответ был занесён в протокол.
– Что он от вас потребовал? Дал ли он что-то вам или, наоборот, взял что-то у вас? – задал судья следующий вопрос из interrogatorium.
Дурная Ута не отвечала. Несколько раз повторённый вопрос так и не побудил её говорить. Убедившись в тщетности своих ожиданий, судья разрешил протоколисту поставить «nichts» напротив шестого вопроса.
Получив достаточно положительных ответов для вынесения приговора, Ганс Рихтер решил прекратить допрос, не желая, к тому же, выслушивать дальнейшие оскорбления. Обратившись к отцу Якобу, он разрешил продолжить допрос ему.
Немного приспустив с головы капюшон, доминиканец начал задавать свои собственные вопросы, не всегда совпадающие с interrogatorium.
– Какую награду обещал тебе дьявол за то, что ты будешь осквернять церкви и портить церковное имущество? – спросил священник.
С минуту Дурная Ута молчала, а потом стала повторять свою любимую выдержку из Апокалипсиса.
– Я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь. И звёзды упали с неба на землю, – жутким утробным голосом произнесла она.
Слышавшие это судьи сдержанно молчали, злобно взирая на свою подсудимую.
– Была ли ты на Блоксберге, или в каких-нибудь других местах, где ведьмы обычно устраивают свои сборища? – так и не получив ответа на первый, задал следующий вопрос отец Якоб.
– Все вы будете погребены заживо, – повторила старуха свою излюбленную угрозу.
– Случалось ли тебе по указке дьявола выкапывать из могил детей, умерших некрещёными? – продолжил задавать свои вопросы священник.
Но старуха промолчала, лишь что-то шепча под собственный нос.
– Довольно! – громогласно заявил Ганс Рихтер, что есть сил стукнув по столу кулаком. – Довольно, – повторил он. – Суд располагает достаточными основаниями для вынесения приговора. В дальнейшем допросе подсудимой нет никакой необходимости.
Немного посовещавшись с Германом Приссом, Ганс Рихтер велел снова надеть на подсудимую ведьмину сбрую, и сразу же после этого решил объявить приговор.
Приговор гласил: «За осквернение церкви и порчу церковного имущества жительница кёльнского пригорода Роденкирхена Ута Франц приговорена к прижиганию раскалённым железом. Нанесённые ею материальные убытки надлежит компенсировать за счёт продажи конфискованного у неё имущества. За злостное оскорбление, нанесённое его святости герцогу Вестфальскому, архиепископу Кёльна, князю-епископу Падерборна, его высочайшей святости Герману фон Виду, у подсудимой надлежит отнять язык, впредь лишив её возможности говорить. За колдовство и связь с дьявольской силой подсудимая приговорена к приведению от жизни к смерти посредством огня, без каких-либо послаблений.»
Привести приговор в исполнение следовало завтра, в это же время дня.
Едва разобравшись с главной преступницей, чьей казни ожидал весь город, трибунал решил сразу же разобраться и с её дочерью, которая также непременно должна была оказаться ведьмой.
Тридцатилетняя Магда Франц, известная на весь Роденкирхен «жрица Венеры», предстала перед ведьмовским трибуналом, будучи, как и её мать, закованной в кандалы, но без ведьминой сбруи на голове, кою не сочли нужным надевать по причине её спокойного поведения.
В отличие от своей матери, Магда ясно ответила на предварительные вопросы, назвав своё имя, сословие и место жительства.
На заданный ей вопрос: «Является ли она ведьмой?», она ответила, что не знает. На вопрос: «Учила ли её мать колдовству?», она ответила, что матушка в детстве многому её учила и, может быть, научила и колдовству. «Значит, вы признаёте то, что являетесь ведьмой?» – делая железный вывод, спросил Ганс Рихтер. На что Магда ответила, что признаёт. На вопрос: «Случалось ли тебе использовать свои навыки колдовства для вреда людям?», она также ответила, что не знает, но призналась, что когда-то давно от всей души желала смерти одному человеку, который учинил над ней насилие, и он в самом деле скоро скончался от какой-то страшной и непонятной болезни.
Для судей этого было достаточно. Магду Франц приговорили к смерти от огня, но, в качестве особой милости, перед сожжением повелели отсечь ей голову. Двоих детей, оставшихся без матери, приказали отдать в сиротский приют при одном из кёльнских монастырей.
На следующий день, ровно в обозначенное судом время, Дурную Уту вывели на эшафот, стоящий посреди площади на Старом рынке, под сенью Большого Святого Мартина. Несмотря на лютый мороз, собравшаяся толпа была куда более многочисленной, чем обычно. Тысячи обозлённых глаз, словно когтями, впились в жалкую фигурку сумасшедшей старухи.
На краю помоста, поближе к глазеющей толпе, стоял высоченный стул, на который и усадили ведьму, вдобавок пристегнув её к нему железными скобами. Позади этого «трона» горела жаровня, на которой палач накалял стальной брус и щипцы, коими он и должен был исполнить назначенные судом наказания. Его уродливый подмастерье, с грязными от копоти лицом и руками, что есть силы работал ручным мехом, раздувая пламя жаровни. Снедаемая нетерпением толпа начинала роптать, требуя скорейшего начала, любимого ею зрелища. Начатый кем-то одним и тут же подхваченный остальными, клич мигом охватил всю площадь. «Brennen, brennen, brennen,» – неслось с площади и слышалось во всех уголках Кёльна. Даже когда вышедший на помост глашатай зачитывал приговор, громогласный призыв не стихал ни на секунду.
Наконец, удостоверившись, что металл достаточно раскалился, палач решил браться за дело.
Первым из назначенных наказаний было прижигание раскалённым железом, положенное за осквернение церкви и порчу церковного имущества. Огромными клещами, взяв из жаровни нагретый докрасна брус, он в спешке подошёл к наказуемой, торопясь, чтобы на сильном морозе железо раньше времени не остыло. Урод-подмастерье, бросив ручной мех, ножом распорол лохмотья на груди жертвы, обнажив старую истощённую плоть. Приложенный к телу раскалённый металл заставил её содрогнуться, но крики тут же заглушил забитый в рот кляп. Утробный сдавленный хрип заставил толпу ликовать. От резкого запаха жжёной плоти многие стали закрывать лица. Исполнив первую часть наказания, палач забрал уже остывший железный брус от тела наказуемой и бросил его на стоящую рядом с жаровней решётку.
Во время второй части экзекуции у осуждённой полагалось вырвать язык. Это было произведено с помощью острых, раскалённых на огне, клещей. На доски эшафота и на самого палача потоком хлынула кровь, оставшаяся почти незаметной на его красной одежде. Не выдержав сильной и резкой боли, наказуемая лишилась чувств. Голова её сникла, а из разорванной глотки продолжила истекать кровь. Разогретая зрелищем толпа продолжила гудеть от восторга.
Едва исполнив второй пункт наказания, сразу же приступили к исполнению третьего. Поднятую со стула старуху снесли с помоста и стали привязывать к телеге. Но к Мелатену поволокли уже истёкшее кровью мёртвое тело. Лишившись языка, она не вынесла сильной кровопотери, и спустя считанные минуты скончалась. Господь избавил её от страданий раньше, чем это сделало бы пламя костра. Следом за уже умершей матерью к телеге привязали и её дочь, также осуждённую на костёр.
Крепко осаженная плетью лошадь покорно потянулась по уже привычному маршруту от Старого рынка к пустырю Мелатен, волоча за собой пустую телегу и привязанных к ней двух несчастных. За телегой последовал отряд вооружённых стражей, а за ними группа священников и монахов. Замыкала процессию всё та же зрительская толпа, жаждущая увидеть финал представления.