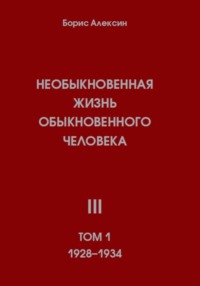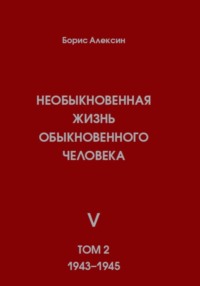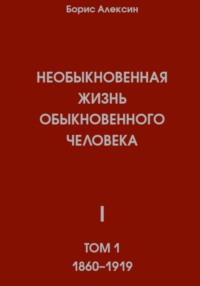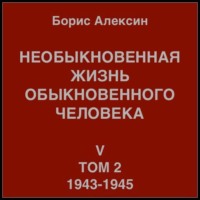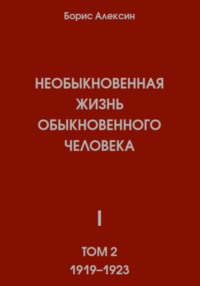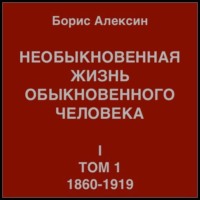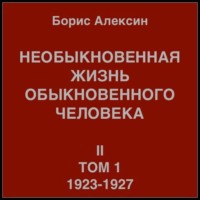полная версия
полная версияПолная версия
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 2, том 1
– Ну конечно. Что я, маленький, что ли?
– Ну вот видишь, Яша, как хорошо всё устраивается, а два месяца мы как-нибудь перебьёмся. Да у нас ещё и из его денег кое-что осталось.
Таким образом согласие родителей было получено. Теперь оставалось главное: суметь уговорить работников Дальлеса в своей пригодности.
В имевшейся у него бумажке было сказано, что он должен явиться к заведующему отделом кадров товарищу И. И. Дронову. Войдя в здание, занимаемое конторой Дальлеса, Борис у мальчишки такого же возраста, как и он, сидевшего около входа на лестницу за маленьким столиком, над которым висела на небольшой картонке надпись «Курьер», узнал, что кабинет товарища Дронова находится на втором этаже, и что над ним есть вывеска: «Отдел кадров».
Подымаясь по лестнице, Борис подумал: «Вот если бы я согласился с предложением папы, это и я так должен бы был целый день сидеть, да тут с тоски пропадёшь!»
В конце коридора он увидел дверь с нужной табличкой и уже собирался войти в неё, но, подойдя, заметил направо такую же дверь с надписью:
«Начальник отдела кадров И. И. Дронов», Борис вспомнил, что на его направлении тоже упоминается эта фамилия, и решил зайти сюда. Он попытался повернуть ручку двери, как вдруг почувствовал, что на его плечо легла чья-то мягкая рука, и приятный тенорок спросил:
– А ты, паренёк, к кому?
– К товарищу Дронову, – ответил Боря, – у меня к нему направление.
При этом он обернулся и увидел двух мужчин, стоявших около него. Один, державший руку на его плече, – старик с длинной седой бородой, одетый в какой-то старый мундир, очень похожий на тот, который до революции носил Стасевич, держа его за плечо, улыбался и, лукаво поглядев на стоявшего рядом с ним высокого грузного нахмуренного человека, спросил:
– А зачем тебе этот самый Дронов нужен-то?
– У меня к нему направление на курсы…
При этих словах грузный протянул руку и произнёс густым хрипящим басом:
– Направление? Давай сюда…
Пробежав бумажку глазами, он отпер ключом дверь и прошёл в свой кабинет, следом за ним зашли и Боря со стариком, продолжавшим улыбаться.
– Ну вот, Иван Иванович, а вы утверждали, что из моей затеи с курсами ничего не получится, что мы таких кандидатов не наберём, а вот их уже, пожалуй, с избытком имеется!
– Действительно, «с избытком»: этот уже тридцатый, а нам нужно 25!
– А если все подойдут, так мы и тридцать возьмём, дел хватит, не бойтесь, – заметил старик, усаживаясь в кресло, стоявшее около письменного стола, за которым умостился Дронов.
– Так ведь в том-то и дело, что больше половины из присланных не соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем. То образования нет, то не комсомолец.
– Ну, в отношении комсомольцев, это уж вы, Иван Иванович, сами разбирайтесь, это ваша идея была, чтобы все обязательно комсомольцы были, а вот в отношении образования я буду беспощаден. Неграмотных и малограмотных десятников у нас хоть отбавляй, нам нужно обучить молодых и грамотных. Ну а как у вас, молодой человек, с этим делом?
Борис в ответ протянул предусмотрительно захваченную справку об окончании школы II ступени, где было написано, что он во время учения и на выпускных экзаменах показал по всем предметам отличные знания.
– Ну вот, этот молодой человек нам подойдёт, – заметил старик, прочитав справку и ласково взглянув на Борю.
– А сколько тебе лет? – внезапно спросил Дронов. – Ты комсомолец?
– Да, – ответил Борис и немного замялся.
Ведь ты, дорогой читатель, наверно, помнишь, что никаких паспортов не было, единственным документом, удостоверяющим личность, мог быть и профсоюзный билет, и комсомольский, и даже просто какая-нибудь справка. У нашего героя в связи с его поездкой через всю Россию имелась справка, выданная Темниковском уисполкомом, которая удостоверяла, что он действительно Борис Яковлевич Алёшкин, родившийся в городе Темникове 16 августа 1907 года (письмоводитель, выдававший эту справку, был не очень силён в арифметике, и при переводе из церковной книги Напольной церкви, служившей ему основанием для выдачи, старого стиля, которым там был обозначен день рождения Бори, на новый перепутал немного и вместо 13 прибавил 14 дней; но, так или иначе, эта дата в последующем фигурировала во всех документах парня). По этой справке выходило, что ему только-только исполнилось 17 лет, а он помнил, что одним из условий приёма на курсы был 18-летний возраст.
Он хотел было соврать, но потом всё-таки протянул свою справку. Дронов взглянул на неё и сердито сказал:
– Ну вот, пожалуйста, и этот не годится! Ему ещё восемнадцати нет. Что они там только думают на бирже? Нет, я сегодня же к заведующему схожу, поругаюсь как следует. Что они, не могут у посылаемого все вопросы выяснить? Зря у нас только время отнимают!
Боря понял, что его дело прогорело. И теперь ему стало жаль ту девушку, которую он уговорил выдать направление. Он покраснел и, смущаясь, произнёс:
– Пожалуйста, не ругайте заведующего биржей, он ни при чём, это я виноват. Мне уж очень хотелось попасть на эти курсы, я там неправильно свой возраст назвал…
– Ну вот, он ещё и обманом занимается, куда же такого брать?
– Погодите, Иван Иванович, мне малец нравится. А почему тебе так хотелось на курсы попасть? Что, надоело на бирже околачиваться? – вмешался старик.
– Нет, совсем нет! – воскликнул возмущённо Борис. – Я и на бирже-то всего двадцать дней. Я раньше жил у лесничего долго и очень люблю лес. Вот мне и захотелось работать в лесу.
– Ну вот видите, товарищ Дронов, а вы такому пареньку отказать хотели! Да нам за таких хвататься нужно: он не от нужды идёт, а по призванию, можно сказать! Нет, его обязательно возьмём.
– Да как же мы можем взять, ведь десятник – материально ответственное лицо, а таким может быть только совершеннолетний человек!
– Ах, какой вы, право, чуть не сказал, бюрократ, – засмеялся старик, – пошлём его сперва помощником десятника, без материальной ответственности, а затем в десятники переведём. Всё равно большую часть наших курсантов сразу десятниками посылать будет нельзя, ведь у них практических-то навыков нет, им надо будет ещё их приобрести, а это никакими курсами сделать нельзя. Нет, этого мы берём, обязательно!
– Хорошо-хорошо, Александр Александрович, раз вы требуете, возьмём, ведь, в конце концов, вы заведуете этими курсами, вы за них и за курсантов отвечать будете. Пожалуйста. Пусть на экзамены приходит.
Старик, видимо, немного уязвлённый словами Дронова, сердито сказал:
– Я ознакомился с его свидетельством об окончании школы, таких мы будем без экзамена принимать, записывайте его сразу в число слушателей, и других с отличным окончанием школы II ступени сразу зачисляйте. На экзамены 25 августа присылайте только тех, кто окончил школу посредственно, ну, да если их не хватит, то можно прислать и тех, кто недоучился один или два года. Я пойду, надо ещё с директором треста о пособиях договориться. До свидания, – обернулся он к Борису и, протянув руку Дронову, продолжал:
– Список курсантов и претендентов на курсы пришлите мне завтра.
– Хорошо, товарищ Василевский, – ответил Дронов, пожимая протянутую руку и встав из-за стола.
Когда старик вышел, Дронов повернулся к Борису:
– Повезло тебе, парень. Понравился ты нашему старику, а он разборчивый. Зачислим тебя на курсы. Начало занятий 1 сентября, явиться нужно будет к 9 часам утра в здание Лесного института при ДВГУ. Приказ о твоём зачислении завтра будет отдан, а послезавтра можешь прийти в бухгалтерию на первом этаже и получить за месяц вперёд стипендию: вам на курсах определена стипендия по 18 рублей в месяц. Можешь идти.
Не помня себя от радости, кое-как пробормотав слова благодарности, Боря выскочил из кабинета Дронова и чуть не галопом помчался домой.
Впоследствии он узнал, что в его зачислении на курсы был повинен не только авторитет Василевского, профессора ГДУ, заведовавшего лесным факультетом этого университета, вскоре переименованного в Лесной институт, а ещё и другие обстоятельства.
Дело в том, что среди присланных с биржи труда ребят комсомольцами были далеко не все. Заведующий биржей сразу предупредил, что такого количества комсомольцев в одно учреждение он дать не сможет, вмешается уком комсомола, который, стремясь обеспечить необходимую прослойку комсомольцев, часто сам направлял их в те или иные учреждения. Помог, следовательно, комсомольский билет. Уже впоследствии Борис узнал и то, что если бы он раньше обратился не на биржу, а в уком РЛКСМ, то уже получил бы работу в каком-нибудь из владивостокских учреждений. Но он был слишком неискушённым в житейских делах. Не знали о таком преимуществе и его родители.
Но в этот вечер в семье Алёшкиных был праздник: Боря-большой поступал на курсы без экзаменов, и, следовательно, теперь превращался в работающего члена семьи. И даже то, что Анна Николаевна, уже окончательно получившая отказ в службе в городе и взявшая назначение в Шкотово, должна будет через несколько дней выехать вместе с младшими детьми из Владивостока, пока не омрачало их радости.
Конечно, больше всех был рад сам Борис: он уже мысленно представлял себя в глухой тайге руководителем большой группы рабочих, заготавливающих лес, и ему казалось, что интереснее этой работы просто невозможно придумать.
Анна Николаевна сказала:
– Ну, Борис, раз ты теперь становишься самостоятельным человеком, то я тебе устрою награду. Завтра у нас на курсах выпускной вечер, папа со мной идти не может, пойдёшь ты.
Вечером, как всегда, он подбежал к дому Жени, вызвал его на улицу и радостно сообщил ему о своём зачислении на курсы. К его удивлению, тот отнёсся к Бориной радости довольно скептически.
– Подумаешь, десятник по лесозаготовкам! Тот же рабочий, чуть постарше. Вот я окончу ГДУ, инженером буду – другое дело.
– А что же, я инженером стать не могу? Поработаю немного и тоже в институт поступлю, в Лесной.
Женя в последнее время с Борисом виделся нечасто, во-первых, потому что был занят подготовкой и самими экзаменами, а во-вторых, потому что его встречи с Асей отнимали все вечера. Женю это немного обижало, и он часто насмехался над ними. В этот раз он решил выяснить этот вопрос:
– Ты что, опять к Аське на свидание пришёл? Дурак ты, она с тобой играет! У неё были и постарше тебя ухажёры, а с тобой она встречается просто так, от скуки.
– А я с ней тоже только время провожу, совсем и не собирался ухаживать, очень мне нужно! – довольно зло сказал Боря и рассерженно повернул к дому.
Напрасно Женя пытался его остановить: Борис, не обращая внимания на его зов, быстрыми шагами удалялся по своей Бородинской улице. Он сердито думал: «Ишь ты, играет! Ну и пусть! Доиграется!».
Вечером следующего дня, нарядившись в свой новый костюм, Борис вместе с Анной Николаевной появился в здании бывшего военного училища, расположенного в самом центре Владивостока, на Светланской улице. Они вошли в зал и уселись на свободные места недалеко от невысокой эстрады, на которой должен был состояться концерт. Борис не успел опомниться, как около них оказались все его Шкотовские знакомые: тут была и Милка Пашкевич, и Поля Медведь, и Харитина Сачёк, и даже Нина Черненко, уже оправившаяся после своего потрясения и побоев, полученных при захвате бандитами. Она уже, конечно, успела рассказать своим подругам про страшное приключение, которое пережила, успела также сказать, что одним из её спасителей был Борис Алёшкин. Теперь все они наперебой восхищались его храбростью и с увлечением рассказывали о происшедшем его мачехе. Сам Борис об этом дома не говорил.
Конечно, все они уселись вместе и с азартом обсуждали каждый номер концерта, который был очень хорошо подготовлен. Выступали певцы и певицы, декламаторы и танцоры, – и всё это были молодые учителя и учительницы. В программе было много песен и стихов, никогда ранее Борисом не слышанных, и многие из них ему очень понравились, особенно запомнился один учитель, читавший стихи и басни пролетарского поэта Демьяна Бедного. До сих пор Алёшкин даже и не знал о существовании такого поэта. Из всего прочитанного этим артистом ему особенно запомнился «Манифест барона Врангеля к красноармейцам», он начинался так:
Их фанге ан! Я нашинаю…
Ес ист, для всех совейстких мест…
Это произведение Бедного с того времени стало, благодаря своей острой сатире, одним из самых любимых у Бориса, и он его впоследствии часто декламировал сам.
Весь вечер Боря находился в окружении своих шкотовских приятельниц. Мужчин, особенно молодых, на курсах было немного, и эти девицы, хотя и были старше Бори на несколько лет, всё-таки с удовольствием использовали его как кавалера, играя с ним в разные игры, которые начались после концерта, и танцуя многочисленные танцы, от участия в которых он, хотя и отказывался, но всё же почти всегда вынужден был уступать и вертеться с той или иной из этих боевых девчат.
Но он всё же время от времени окидывал взглядом зал, пытаясь кого-то отыскать – конечно, он искал Асю. Наконец, увидел её. Заметила и она его взгляд. Видя, какой плеядой молодых учительниц окружён Борис, Ася состроила презрительную гримаску, но глазами показала ему на боковую дверь зала, выходящую на запасную лестницу.
Заметив, что она направилась к этой двери, Борис, под каким-то предлогом увильнув от очередного танца, шмыгнул за нею. Через несколько мгновений он очутился на тёмной лестничной площадке, и едва закрыл за собой дверь, как почувствовал на своей шее мягкие нежные руки, а к его губам прильнули горячие, чуть влажные губы. Он так растерялся, что даже не ответил на поцелуй, а когда собрался, то те же руки, которые его только что обнимали, властно и энергично оттолкнули его, и он услышал громкий шёпот:
– Я тебе говорила, что, когда захочу, то сама тебя поцелую, вот и поцеловала, а ты совсем не умеешь целоваться!
И когда Борис ринулся к ней, чтобы доказать обратное, она продолжала тем же шёпотом:
– Теперь уж поздно! Иди в зал и не смей ко мне подходить. Не вздумай меня провожать! Завтра встретимся у «Художественного», до завтра! – и кокетка, чуть приоткрыв дверь, выскользнула в зал.
Вслед за ней вошёл и Борис. Он думал, что вряд ли кто-нибудь заметил кратковременное отсутствие двух молодых людей, но один человек всё-таки заметил, это была его мать.
– Ты всё-таки с ней встречаешься? Смотри, не сломай себе голову! Ты, конечно, пойдешь её провожать?
– Нет, я пойду с тобой.
– Поссорились? Так скоро…
– Да нет, мама, просто так нужно.
– Ну что же, тогда пойдём сейчас, время уже около двенадцати, мне завтра надо готовиться к отъезду, кое-чего пошить, починить и себе, и ребятам, да и устала я…
И распрощавшись с остававшимися учительницами из Шкотовского района, которые уже знали, что Анна Николаевна Алёшкина опять возвращается в сельскую школу, и что, следовательно, они скоро встретятся вновь, Алёшкина и её сын отправились домой.
Кстати, нужно сказать, большинство шкотовских знакомых Алёшкиных не знали, что Борис – не родной сын Анны Николаевны. Все считали, что во время Гражданской войны он потерялся, а теперь нашёлся и живёт с родителями.
Часов в семь вечера следующего дня Борис нетерпеливо прохаживался около кинотеатра и поглядывал на Светланскую и на трамвайную остановку. Но вот, наконец, появилась и Ася. На первый вечерний сеанс они уже опоздали, а идти на последний, кончавшийся около двенадцати ночи, девушка не захотела. Борис предложил ей погулять по Корабельной набережной – так называлась улица, проходившая по самому краю бухты Золотой Рог, ограниченная с одной стороны маленькими домишками, всевозможными складами с железнодорожными ветками и подъездами, а с другой песчаным берегом бухты, к которому приткнулись многочисленные китайские шаланды самых разнообразных размеров, служившие для перевоза пассажиров на мыс Чуркин и плавающие вдоль побережья Приморья, Кореи и Китая.
Улица эта была слабо освещена и, как правило, почти совершенно пустынна.
Ася согласилась с предложением, и они часа два бродили по полутёмным закоулкам, болтая о разных разностях. Наконец, также пешком они тронулись домой.
У крыльца дома Аси Борис вновь сделал попытку поцеловать девушку и, хотя ему теперь это удалось, но ответного поцелуя он не получил, и Ася сказала:
– Ты опять нарушил наш уговор. Ну да ладно, на этот раз я тебя прощаю. Это твой прощальный поцелуй, ведь завтра я уезжаю, и когда мы с тобой снова увидимся, не знаю.
– Как это уезжаешь? Куда?
– Чудак, ты же вчера сам был на прощальном вечере курсантов-учителей, а теперь мы все разъезжаемся по своим местам. Я уезжаю к своим шахтёрам на Сучан. 3ахочешь, приезжай в гости, буду рада.
Домой Борис возвращался с чувством утраты чего-то дорогого, неповторимого, и в то же время с чувством какого-то освобождения. Он не понимал, почему ему одновременно было и жаль расставаться с Асей, и как будто радостно, что, наконец, это знакомство так просто закончилось. Так он никогда и не понял, какое чувство испытывал к Асе.
В этот же период времени, кроме свиданий с Асей, Борис пережил и ещё одно приключение, оно показывает, каким мальчишкой был, в сущности, наш герой.
Однажды, после купания, группа ребят собралась гулять на Сапёрную сопку. Они говорили, что на этой сопке много интересного. К ним присоединились и Борис с Женей.
Прежде, чем рассказать об этом путешествии, о котором, кстати, Борис никогда впоследствии не жалел, попробуем объяснить, что же это за сопка была. Для этого нам необходимо представить себе, как выглядел в то время Владивосток. Этот город располагался по окружности бухты Золотой Рог, являющейся частью залива Петра Великого, с другой стороны город граничил с Амурским заливом. Берега этих заливов, занимаемые городом, состояли из ряда небольших гор, называемых на Дальнем Востоке сопками. Сопки эти когда-то покрывала густая дальневосточная тайга, а к описываемому нами времени на отдельных местах находились её жалкие остатки в виде мелких деревьев и кустов. В настоящее время все эти сопки застроены большими многоэтажными домами, тогда же по их склонам двух- или трёхэтажные дома были редкостью, основная масса их – одноэтажные, часто деревянные, домишки.
Центральная часть города, расположенная по южным склонам сопок Голубиной и Куперовской, упиралась в бухту Золотой Рог, ограниченную от остальной части залива Петра довольно узким и высоким мысом, носящим название мыса Чуркина. На этом мысе находились многочисленные склады, имелось и несколько домишек. Большая часть его пустовала. С восточной стороны бухты Золотой Рог находился ещё один мыс, отделяющий эту бухту от Амурского залива, он назывался мыс Эгершельда и состоял из нескольких довольно высоких и совершенно голых сопок, на которых там и сям были разбросаны казармы, небольшие жилые дома и находились какие-то старые военные сооружения. По берегу бухты вдоль этого мыса проходила основная линия железной дороги, это был конец так называемой Транссибирской железнодорожной магистрали.
Ещё в начале двадцатого столетия, и даже в конце девятнадцатого, на мысе Эгершельда, как и на Русском острове, замыкавшем вход в бухту Золотой Рог с юго-востока, было начато царским правительством строительство мощных артиллерийских батарей, с огромными крепостными орудиями, державшими под своим прицелом все морские подходы к городу.
Основным местом размещения этих батарей явились возвышавшиеся на берегу сопки, каждая из них в своё время получила специальное название. Одна, привлекавшая наибольшее внимание владивостокских подростков, называлась Сапёрной. Она пользовалась большим вниманием потому, что хозяйничавшие во время интервенции на этих укреплениях японцы и американцы не успели её окончательно разорить.
Дело в том, что сразу же после высадки своих войск во Владивостоке эти державы наперегонки фотографировали все фортификационные сооружения, защищавшие Владивосток с моря, а затем с не меньшим усердием и торопливостью принялись за их разрушение. Американские и японские солдаты по команде своих начальников взрывали орудия, остатки вывозили в свои страны, одновременно взрывали и разрушали подземные бетонные казематы, имевшиеся у каждой батареи и служившие для размещения боеприпасов и обслуживающего орудия персонала, подъездные пути и казармы, стоявшие на поверхности.
По счастливой случайности, а вернее, благодаря успешному и быстрому наступлению Красной армии, Сапёрная сопка оказалась наименее пострадавшей: на ней сохранились на своих местах орудия (у которых интервенты успели вынуть только замки и снять прицельные приспособления), казематы, пустовавшие казармы и склады от боеприпасов.
Командование Красной армии в то время важности этим батареям не придавало, военными объектами их не считало, и поэтому никакой специальной охраны не было, к большому удовольствию владивостокских ребят.
Забравшись на сопку и спустившись по лестнице в форт, Борис и его спутники увидели много интересного. Вся сторона сопки, обращённая к морю, представляла собой глыбу бетона толщиною в несколько саженей. Такую бетонную стену не мог, по мнению всех ребят, пробить ни один снаряд. На круглой площадке форта, по краям которой были проложены рельсы, находилось огромное орудие, незнакомое Боре. Оно, конечно, не могло идти ни в какое сравнение с теми так называемыми полевыми пушками, которые ему приходилось видеть: калибр этого орудия (18 дюймов) позволял забраться внутрь ствола любому из мальчишек. Длина ствола также поражала своими размерами, она равнялась почти четырём саженям. С площадки, по рельсам которой казённая часть орудия довольно легко передвигалась, поворачивая ствол почти на 90° в обе стороны, можно было проникнуть внутрь форта, что ребята и не замедлили сделать.
Спустившись вниз сажени на две, они очутились в большом бетонном сарае с нарами по стенам. Это, как рассказал один из наиболее опытных исследователей, была казарма, где жили обслуживающие пушку солдаты. С другой стороны колодца, по которому спускались ребята, находился большой бетонный склад, этажом ниже – такой же склад боеприпасов и ещё ниже – несколько ходов, идущих в разные стороны. На полу каждого из этих ходов была проложена узкоколейная железная дорога, тут же стояло и несколько пустых вагонеток.
Тот парень, который взял на себя обязанности гида и который бывал на Сапёрной уже не один раз, в отличие от своих товарищей (многие из которых, как и Боря с Женей, были здесь впервые), объяснил, что некоторые из этих ходов связывали форт с соседними, разрушенными японцами, а один вёл прямо на железнодорожную станцию Первая речка, находящуюся на окраине города, пo ней и доставлялись снаряды с железной дороги. Этот же парень заблаговременно запасся несколькими свечками, при свете которых его спутники и осматривали все эти довольно-таки грандиозные сооружения.
Борису и Жене путешествие доставило огромное удовольствие, и они, вернувшись, решили, что в армии будут служить только в крепостной артиллерии.
В это лето Борис стал свидетелем и ещё двух запомнившихся ему надолго событий.
Однажды Яков Матвеевич после получки показал в семье новые деньги, которыми ему выплатили жалование. Это были советские деньги, выпущенные в 1924 году, получившие название «червонцы». Такие банковые билеты начали выпускаться правительством СССР ещё с 1922 года, но практически на Дальнем Востоке появились в обращении спустя два года. Они обеспечивались золотом республики и явились первой после революции устойчивой валютой. Один червонец стоил 10 рублей золотом. Он представлял собой купюру размером примерно в половину тетрадного листа белого цвета из плотной бумаги с водяным знаком, изображавшим крестьянина, сеявшего зерно из лукошка; такое же изображение, только более мелкого размера, имелось на левой стороне купюры, напечатанное тёмно-серой краской, рядом с ней была надпись «Червонец», далее цифра 1, а внизу подписи и печать. Были купюры достоинством в 2, З, 5, 10, 25 и 50 червонцев. Правда, Борису купюр более 10 червонцев видеть не приходилось.
Одновременно с введением этих новых денег в обращении на Дальнем Востоке продолжали ходить и японские иены, и серебряные деньги царской чеканки рублёвого достоинства, и так называемое мелкое серебро.
Интересен курс всех этих денег, причинявший немало хлопот и продавцам, и покупателям. За 1 червонец давали: 12 иен и 50 сен; 11 банковских, то есть серебряных рублей, или 32 рубля мелким серебром. Такое неустойчивое соотношение всех ходивших на Дальнем Востоке денег создавало немалые трудности при расчётах.
Первое время новые деньги китайские лавочники, а за ними и крестьяне, брать боялись, считая, что они могут упасть в цене, как и прежние советские деньги. Но вскоре, убедившись в том, что червонцы охотно берут за границей, стали их тоже принимать, и даже охотнее, чем японские иены.
Второй декрет, введённый для РСФСР ещё 14 сентября 1918 года и дошедший, как обязательный, до Дальнего Востока только к концу 1924 года и окончательно узаконенный для СССР 21 июля 1925 года, – о метрической системе мер, привёл в полное недоумение и растерянность не только частных лавочников и торговцев кооперативных магазинов, но и большинство покупателей. Слишком крепко въелись в обиход старые меры длины и веса, применявшиеся в царской России.