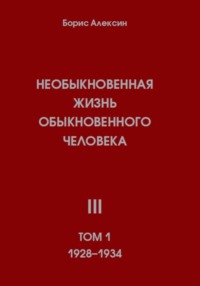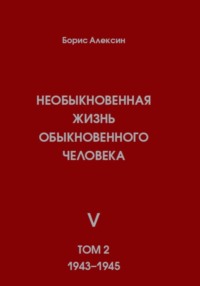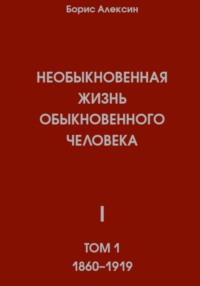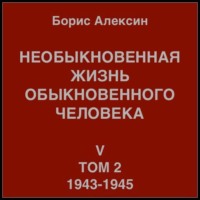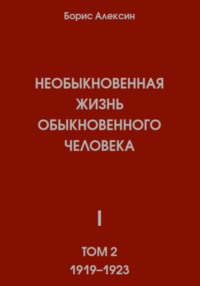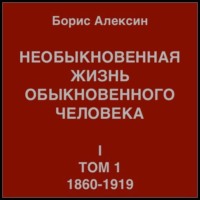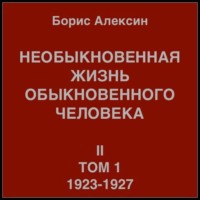полная версия
полная версияПолная версия
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 2, том 1
Несмотря на то, что в большинстве европейских стран уже давно господствовала метрическая система мер (консервативной в этом отношении оставалась ещё долгое время только Англия), и на то, что, по учебникам, почти все, и уж, во всяком случае, люди, имевшие среднее образование, о ней знали, введение её в обиход первое время многих затрудняло. Часто покупая килограмм чего-нибудь, невольно и покупатель, и продавец рассчитывали, сколько это будет в фунтах; точно также было и с мерами длины: 5 километров – а сколько же это будет вёрст, или 3 метра ситца – а сколько это аршин? Конечно, не обошлось и без многих курьёзных случаев.
Я прошу прощения у своих читателей, но уверен, что очень многие из них, явившихся на свет гораздо позднее этого декрета, и понятия не имеют о тех мерах, которые существовали до этого, и которые нам в школах приходилось с таким трудом заучивать. Я хочу их привести. Кому это покажется неинтересным, пропустите эти строчки.
Меры длины:
1 аршин = 16 вершков = 71 см
3 аршина = 1 сажень = 2 м 13см = 7 футов
1 фут = 12 дюймов = 30,2 см
1 дюйм = 12 линий = 2,75 см
1 верста = 500 саженей = 1 км 65 м
Меры веса:
1 фунт = 32 лота = 96 золотников = 409 г
1 пуд = 40 фунтов = 16 кг
Меры объёма:
1 ведро = 4 четверти = 16 бутылок = 8 л
Меры площади:
1 десятина = 1000 квадр. саженей = 1,2 га
Я позволил себе привести только те меры, с которыми в основном пришлось иметь дело нашему герою в будущей работе.
Глава восьмая
Первого сентября начались занятия на курсах десятников по лесозаготовкам. Курсантам предстояло ознакомиться (мы не берёмся сказать изучить, потому что за такой короткий срок, который отводился этим курсам, по-настоящему ничего изучить было нельзя) со множеством предметов, большинство из которых для всех, или почти для всех, были совершенно незнакомы.
Основным из них, касающимся лесоводства, лесоразработки и лесообработки руководил сам заведующий курсами, профессор Василевский. Этот невысокий приветливый старик, влюблённый в своё дело, обладал отличными педагогическими способностями и своими лекциями сумел заинтересовать всех слушателей, а таких увлекающихся юнцов, каким был Борис, просто покорить. Парень слушал преподавателя, открыв рот, и вечером мог пересказать услышанное утром почти слово в слово.
Практические занятия по этому предмету вёл один из ассистентов Василевского, тоже отлично знавший своё дело и показывавший на практике приёмы лесоповала, для чего группа выезжала на станцию Седанка, где в то время по сопкам стояла густая тайга с многовековыми кедрами и пихтами. Он показывал, как надо правильно подпилить и подрубать дерево, чтобы оно упало в точно заданном направлении, это в условиях гористой местности Приморья было немаловажно. Кроме того, он научил ребят распознавать по срезам и по доскам разнообразные породы деревьев, а их на Дальнем Востоке имелось гораздо больше сотни.
Бориса всё это заинтересовало, а мы уже знаем, что стоило ему чем-нибудь увлечься, как он становился горячим поклонником этого дела и осваивал его самым лучшим образом. Так было и тут: он был первым и при ответах на теоретические вопросы, и при выполнении практических работ. Кроме его способностей и желания, помогло ему и то, что всё-таки он оказался в числе тех немногих, кто имел среднее образование.
Время для открытия курсов пришло, а отдел кадров Дальлеса так и не сумел подобрать желающих в соответствии с условиями. Пришлось уже добирать не только образованных, но и тех, кто окончил только сельскую школу.
Конечно, не вышло дело и с комсомольской прослойкой: комсомольцев оказалось меньше половины, их было 12 человек. А всего курсантов набрали 32.
На второй день занятий на курсы явился секретарь укома РЛКСМ Волька Барон, он собрал всех комсомольцев и рекомендовал на время занятий курсов организовать комсомольскую группу. Заметив среди курсантов Бориса, Волька предложил его в качестве секретаря этой группы, ведь он знал Алёшкина ещё по Шкотову. Таким образом, у Бориса добавилась ещё одна работа – кстати сказать, не особенно лёгкая: одним из заданий для комсомольцев было добиться того, чтобы все курсанты закончили курсы успешно. Борису и ещё нескольким наиболее грамотным ребятам пришлось взять на себя роль репетиторов, а времени для этого не хватало, ведь занятия на курсах продолжались в день по 9 часов – 5 утром и 4 после обеда. Так что для самостоятельных занятий и подтягивания отстающих оставалась только ночь.
Однако, вернёмся к программе курсов, нам её хочется привести всю, так как она показывает, как в то время даже на краткосрочных курсах старались дать слушателям максимум знаний.
Итак, следующим по важности и интересности предметом было изучение механического оборудования лесопильных заводов. Преподаватель этого дела, инженер Сатонов, объяснял принесённые им чертежи и действия моделей лесопильных рам, лущильных станков, фанерных заводов, действия циркулярных пил, строгальных, фрезерных и множества других станков, действовавших на лесопильном заводе. Одновременно он рассказывал и то, где такие заводы в то время в Приморье находились. А на фанерный завод, расположенный недалеко от станции Седанка, он даже сводил курсантов на экскурсию, где они воочию увидели, как работает лущильный станок, и как под прессами клеятся огромные листы фанеры.
В программе курсов отводилось несколько часов и для делопроизводства, его читал заведующий общим отделом Дальлеса, большевик Гусев. Прослушав и записав его лекции и ознакомившись с основными формами документов, применяемыми в учреждениях Дальлеса, Борис понял, каким же неучем и несмышлёнышем в этом вопросе он был во время своей недолгой работы в конторе Госстраха и сколько же ляпсусов он наделал в составлении тех или иных бумаг и ответах на запросы губернского отдела, и только удивлялся, как это его начальник Сахаров тогда ничего этого не замечал.
Главный бухгалтер Дальлеса ознакомил слушателей с основами бухгалтерии, и эти знания, хотя и очень скудные, в дальнейшем помогли Алёшкину, и не только в работе на поприще десятника Дальлеса, но и гораздо позже, когда ему пришлось занимать значительно более высокие должности.
Послушали курсанты лекцию юрисконсульта, давшего им, кроме того, образцы договоров, которые они должны были заключать с различными артелями. Ведь в то время разработка леса в основном производилась частными артелями, заключавшими договора с представителями Дальлеса. Последние оформляли разрешение на вырубку и передавали практическое исполнение этого дела старосте артели, который сам подбирал рабочих и сам производил с ними расчёт. Десятник заключал договор с этим старостой, с ним и рассчитывался. Получение образцов таких договоров сослужило и Борису, и многим другим, попавшим на периферию, большую службу.
Одно занятие провёл таксатор, он объяснил курсантам, что заготавливаемый ими лес идёт в основном на экспорт в Японию, Англию, Америку и Китай. Эти страны при заключении договоров с Дальлесом пользуются не нашей метрической системой, а применяют свою: Америка и западноевропейские страны – фут, а при объёме – кубофут, а японцы – шаку или, соответственно, кубошаку; десятникам надо было уметь перевести одно измерение в другое, а, следовательно, и пользоваться имеющимися для этого таблицами. Кроме того, при погрузке на железную дорогу и в трюм парохода считалось не количество брёвен, а их объем в соответствующих мерах, а договора с лесорубами и возчиками заключались на штуки. На складах тоже следовало знать количество заготовленного леса не только в количестве досок или брёвен, но и его объём в кубометрах или в кубофутах, а для этого нужно было уметь высчитать объём бревна или доски.
Делать это было непросто даже имевшим среднее образование: вычислить площадь нижнего отреза бревна и площадь верхнего отреза, помножить это на длину, а затем, сложив, разделить пополам, и таким образом, получить средний объём бревна.
Всё это осложнялось ещё и тем, что почти все нанимаемые десятником люди мерили брёвна каждый по-своему: китайцы-рубщики мерили толщину бревна дюймами, а длину футами, крестьяне-возчики мерили толщину вершками, а длину аршинами, и никаких других мер пока не признавали, приёмщики, чаще всего японцы, мерили всё своими шаку, а железная дорога и конторы Дальлеса требовали измерения в кубометрах. Но таксатор и здесь выручил, снабдив курсантов соответствующими таблицами.
Кстати сказать, и пользование этими таблицами, да ещё при наличии такой «счётной машины», как канцелярские счёты, было делом нелегким. И Борису, и его товарищам пришлось немало попотеть, пока они разобрались в таблицах и научились по-настоящему пользоваться счётами. Впрочем, некоторым это так освоить и не удалось.
Мы уже несколько раз упоминали слово «десятник», теперь такого термина не существует, и я даже не знаю, с чем, или вернее с какой должностью, его можно было бы сравнить. Если староста артели мог бы сойти за бригадира, то, вероятно, десятник – это кто-нибудь вроде прораба или мастера участка. Как известно, сейчас эти должности часто занимают инженеры, ну а тогда даже и среднее общее образование считалось верхом образованности.
Хотя за время своего блуждания по сопкам в отряде ГПУ Борис немного отвык от усидчивого труда, он быстро восстановил утраченное и по всем предметам на курсах числился первым.
Время летело очень быстро, и отведённые полтора месяца для теоретических занятий пролетели, как один день. Наступило время экзаменов.
Помимо общих вопросов, касавшихся охраны леса, правильной его вырубки, очистки от сучьев, распиловки на брёвна и выявления имевшихся в дереве болезней, задаваемых Василевским, на экзаменах имелось ещё одно каверзное дело. На столе, в стороне от экзаменаторов, лежали срезы десятков двух деревьев и доски из них. Нужно было, по заданию преподавателя, найти названное им дерево, его срез и доску из него, или наоборот, самому выбрать любой срез и доску и назвать, какому дереву они принадлежат. Вся трудность заключалась в том, что со срезов была удалена кора, их поверхность гладко отполирована, а доски гладко выструганы. На этом каверзном вопросе многие потерпели поражение, но Борис справился с заданием. Дело в том, что эти срезы и доски всё время лежали на полках шкафа, стоявшего в той аудитории, где занимались курсанты, и большинство на них не обращало никакого внимания, хотя около каждого из предметов имелись таблички с надписями, какому дереву принадлежит тот или иной срез или доска. Борис со свойственной ему любознательностью внимательно рассмотрел эту коллекцию – предмет гордости Василевского, а обладая очень хорошей зрительной памятью, почти всё запомнил. Поэтому, увидев на экзамене знакомые предметы, отвечал без запинки, за что снискал похвалу Василевского и удивление его помощников.
Вполне благополучно сдал Борис экзамены и по бухгалтерии, и по делопроизводству, сумел правильно разобраться и в чертеже пилорамы, который достался ему при ответе на вопрос Сатонова.
После теоретических наступили практические экзамены, они заключались в умении правильно срубить дерево, вернее, правильно его свалить. Для этого курсанты выехали в лесную дачу на 26 версте, где как раз проходила рубка леса. Там Василевский, подведя их к какому-нибудь дереву, иногда искривлённому и извитому сильными и частыми Приморскими ветрами, говорил:
– Вот я вбиваю колышек, и ваше дерево должно упасть так, чтобы забить этот колышек до конца. Если вы это сумеете сделать, то, значит, сумеете научить этому и лесорубов, а вам их придётся иногда учить. Приступайте.
Для такой показательной рубки выделялась группа в три человека – два пильщика и один рубщик. Надо было топором подрубить с соответствующей стороны дерево, а затем с другой подпилить ствол на нужной высоте (пенёк не должен был превышать полуметра), и, не прикасаясь к падающему стволу, ждать, упадёт ли он в заданном направлении.
Большинству и эта задача оказалась не под силу, но тем не менее даже падение ствола на полметра в ту или другую сторону от колышка считалось удовлетворительным.
Подобрав себе в товарищи двух комсомольцев, участвовавших в рубке леса дома, хотя и без таких строгих требований, как здесь, Борис, вспомнив свою работу у Стасевича, где и с топором, и с пилой ему приходилось иметь немало дела, приложил всё старание, чтобы выполнить задание как можно точнее. К счастью, дерево им попалось не очень кривое, но оно стояло на довольно крутом склоне, и его надо было, по заданию Василевского, положить так, чтобы комель (нижняя часть срубленного ствола) находился внизу, а крона – наверху ската.
Подумав и поспорив несколько минут между собой, наконец, все договорились. Борис начал подруб с той стороны, с которой он считал нужным, затем двое других подпилили дерево, и вот оно с треском начало крениться на сторону. Ребята отбежали на несколько шагов и присоединились к зрителям. Дерево стало падать, но совсем не в ту сторону, куда было намечено, ребята начали перешёптываться, а Борис грустно опустил голову, чтобы не видеть своего поражения, ведь и подруб, и подпил сделали по его совету. Но вдруг раздался общий вскрик, Борис поднял голову и увидел, что дерево, точно под влиянием какой-то внутренней силы, сделало неожиданный поворот и упало точно на колышек, закрыв его своим стволом.
Это было так неожиданно и красиво, что все захлопали в ладоши. Кроме Бориной группы, с заданием справились на отлично ещё несколько человек.
На этом основные занятия закончились. Осталось каждому пройти практику на каком-нибудь предприятии. Борису досталась работа десятником на ящичном заводе на станции Бикин. Его назначили в сборочный цех. В этом цехе собирали поступающие по конвейеру щитки, сбитые из узеньких дощечек. На особой болванке – деревянном чурбаке – будущие стенки, дно и крышка собирались в готовый ящик; двумя гвоздями прикрепляли будущую крышку и складировали готовые ящики на тележки, которые другие рабочие отвозили для разгрузки на склад. Рабочих было восемь человек. В обязанности Бориса входило наблюдение за тем, чтобы каждый из рабочих забил при сколачивании ящика определённое количество гвоздей, чтобы стенки между собой и у дна прикреплялись аккуратно, без зазоров и выступов. Для этого ему следовало бы осматривать каждый изготавливаемый ящик.
Практически это сделать было невозможно, ведь рабочих восемь, а он один, естественно, что он мог осматривать качество ящиков только выборочно. Ящики шли под экспортную продукцию, и приёмщики при погрузке их в вагоны основательно придирались. На складе все ящики перемешивались, и определить, кто допустил брак, было невозможно. Вся ответственность за качество ящиков лежала на Борисе. Кроме того, он же должен был подсчитывать, сколько ящиков сделал тот или иной рабочий, так как оплата у них была сдельной.
К каждому рабочему прикреплялся свой перевозчик, и Борис вскоре нашёл правильный способ контроля: он перестал бегать по цеху и смотреть, как сбивает ящик рабочий, а встал у выхода и внимательно просматривал тележку с вывозимыми ящиками, подсчитывал их и безжалостно снимал с тележки тот, который, по его мнению, был сбит неправильно.
Вначале рабочие ворчали, они не привыкли к такому контролю, до этого за ними никто не наблюдал, и завод имел немало неприятностей при сдаче продукции заказчикам. Уже через неделю после прихода Алёшкина на завод брак снизился почти до нуля, и все ящики со склада были успешно сданы. Такое случилось в первый раз за много лет работы завода. Его директор, когда доложили об этом случае, остался очень доволен тем, что ввели такую должность, до этого её просто не было. Когда появился новый десятник, которого просто некуда было воткнуть, так как все места на заводе были заняты, эту должность придумал главный инженер – с одной стороны, чтобы занять присланного человека, а с другой, чтобы ввести более действенный контроль за сборкой ящиков, часто бракуемых приёмщиками.
До сих пор в сборочный цех кто-нибудь из начальства показывался редко, каждый из сборщиков был предоставлен сам себе. Конечно, делать явный брак никто не решался, ведь такого бракодела немедленно бы уволили, а в то время увольнение, а, следовательно, и перспектива пребывания на бирже труда никого не устраивала, тем более, если при увольнении давалась характеристика, что уволен за недобросовестную работу. Но так как оплата труда была сдельной, то, торопясь побольше сделать, некоторые из рабочих могли в спешке допустить немало огрехов, что в последующем и снижало качество товара.
С появлением должности десятника в сборочном цехе, да ещё с таким серьёзным отношением к этому делу, которое проявил этот юный паренёк, дело улучшилось. Именно поэтому уже через десять дней пребывания Бориса на заводе директор его вызвал и предложил ему остаться на этом заводе навсегда.
Конечно, Борис, проработав эти десять дней и ничего, кроме своего сборочного, не увидев, был недоволен такой практикой и, хотя ему предлагали довольно приличный по тем временам оклад, от предложения директора отказался. Его влекла более самостоятельная работа, хотя, очевидно, и эта была нужной.
Как мы теперь понимаем, его должность можно было назвать должностью контролёра ОТК, она теперь имеется на каждом предприятии. Тогда это было новшеством.
Буквально через день после разговора директора с Борисом из Владивостока пришла телеграмма с предписанием о срочном его откомандировании в распоряжение Дальневосточной конторы.
Получив расчёт, что-то около 25 рублей, Борис уехал во Владивосток. Там он узнал о причине такого срочного вызова. Дело в том, что совсем недавно в Приморье прошёл сильный шторм. Он разбил плоты, выведенные в устья рек побережья, приготовленные для погрузки на японские пароходы, которые из-за шторма задержались с прибытием, а разбитые плоты по брёвнышку раскидало по многочисленным мелким бухточкам залива Петра Великого. Грузить на прибывающие пароходы было нечего: то, что удалось собрать местным конторам Дальлеса, не хватило бы и на половину судов. Председатель правления Дальлеса решил мобилизовать работников своей конторы, всех служащих из ближних районных контор, конечно, вспомнили и про курсантов.
Алёшкин с группой курсантов под руководством одного из старых опытных десятников направлялся в бухты Патрокл и Диомид, где им предлагалось в течение 10 дней собирать лес, раскиданный по побережью этих бухт, соединить его в небольшие плоты и подготовить к буксировке катерами к борту судна, которое обычно становилось перед этими бухтами, как, впрочем, и в Шкотово на рейде, милях в пяти от берега.
Когда Борис вернулся из Бикина, то дома он застал только одного отца, мать с младшими ребятами уже жила и работала в Шкотове. Ей дали двухкомнатную квартиру в доме, принадлежавшем школе, находившемся в самом центре села, почти рядом с братской могилой. Этот дом раньше принадлежал церковно-приходской школе, затем там была школа I ступени, а сейчас, когда отремонтировали одну из больших двухэтажных казарм, и все школы соединили в одну, создав по нескольку параллельных групп, часть помещения освободилась, и его отвели под квартиры учителей, одну из этих квартир получила и Анна Николаевна. Одна из комнат этой половины дома была занята седьмым классом средней школы, помещение для которого ещё не было отремонтировано.
Вскоре вторую половину дома заняла недавно созданная организация – КОМВНЕЗАМ, что это была за организация, и какую роль она сыграла в жизни семьи Алёшкиных, мы расскажем впоследствии.
Вернёмся к Борису. Он продолжал бивачную жизнь на берегах бухт Патрокл и Диомид: старательно вылавливал огромные брёвна, качающиеся на волнах у берегов различных мелких заливчиков, или совместно с группой товарищей спихивал такие же брёвна в воду, если волнами они были уже выброшены на камни. Собранные по два-три десятка, брёвна при помощи скоб, иногда имевшихся в них, а иногда забиваемых снова, и крепких стальных тросов или кусков манильских канатов скреплялись в небольшие плотики, которые буксировались кунгасами (большими лодками), имевшимися в каждой группе, в более удобное и защищённое от волн и ветра место. Там их уже специалисты – рабочие-китайцы связывали в плоты, подготавливаемые к буксировке на рейд.
Такая работа проводилась с восхода и до захода солнца. Вечером все укладывались в небольшой брезентовой палатке, освещаемой огнём костра, горевшего снаружи. После сытного ужина, состоявшего обычно из похлёбки, сваренной из мясных консервов, и жареной камбалы или кеты с китайскими пампушками вместо хлеба, все лежали и болтали о самых разных вещах. Очень часто слушали рассказы Бориса, а ему было о чём рассказать. Мы знаем, что рассказчик он был хороший.
Дело в том, что ещё в период занятий на курсах с ним произошло следующее. Во Владивосток приехала откуда-то из центра оперетта. Театр этот был наполовину частный – наполовину кооперативный, но так как в городе своей оперетты не было, то он пользовался большим успехом. О том, что оперетта – замечательное зрелище, Боре рассказал встреченный им Женя.
С последним у него дружба как-то разладилась, оба они были заняты своими делами. Аси, из-за которой Борис забегал к ним часто, уже не было, поэтому встречались они редко. А тут, идя по Светланке, Борис с ним столкнулся лицом к лицу. Женя был в таком возбуждённом состоянии, что Борис даже удивился, а тот объяснил, что вчера ходил в оперетту и сегодня идёт опять, и что это такое замечательное зрелище, никакое кино с ним не сравнится!
Бориса это сообщение заинтересовало, и так как он был недалеко от театра «Золотой Рог», в котором, как извещали афиши, обосновалась труппа, то он зашёл в кассы и, конечно, был разочарован: даже самый дешёвый билет на оперетту стоил 50 копеек. В кино стоимость билета была 20 копеек – конечно, посещение оперетты ему было не по карману.
Он всё-таки захотел рискнуть и подошёл к открытому окошечку кассы. Когда он спросил, есть ли билет за 50 копеек, кассирша, седая строгая женщина, довольно презрительно ответила:
– Да ты что, мальчик! За такую цену у нас билеты чуть ли не за две недели уже раскупили. Сейчас у меня остались билеты только в ложу, стоят они 3 рубля.
Борис как ошпаренный отскочил от окошечка и направился, опустив голову, к выходу. Но его остановила чья-то рука, осторожно взявшая его за рукав. Когда он обернулся, то увидел, что его задержал старый высокий рябой китаец:
– Э, мальчика, тебе чего, театл смотли хочу? Да? – спросил он басовитым хрипловатым голосом. – Ходи со мной, я тебе покажу, куда сидеть нада, всё смотли будешь.
И китаец увлёк Борю к маленькой боковой дверке, совсем незаметной от входа. Там они поднялись по узенькой витой лестнице, затем прошли по какому-то коридору и, наконец, очутились на площадке, где стояли стулья и лавки, заполненные зрителями.
Представление началось. Боря уставился на сцену, а китаец, куда-то уходивший, вернулся через несколько минут и принёс маленький стульчик, на который и усадил паренька.
– Тебе сиди, боиса не нада! Моя сдесь лаботай мала-мала: пыль вытилай, пол мети. Теперь, когда тебе хочу, ходи ко мне, я тебя пловоди сюда всегда. Моя сейчас хозяина говоли, что мая знакомая, его говоли: «знакомая можна». Так что не боиса.
В этот вечер шла оперетта «Король веселится». До сих пор Борис ещё никогда не видел такого красочного, весёлого и интересного зрелища. Герои оперетты покорили его; не трудная для восприятия музыка, яркие костюмы, смешные положения, в которые попадали персонажи, весёлые арии и диалоги между отдельными героями сразу запоминались.
Возвращаясь после представления домой, Борис раздумывал, почему этот китаец так добросердечно отнёсся к нему и не только провёл на представление, но по окончании, когда парень уходил из театра, приглашал его приходить, хоть каждый день. До сих пор он сталкивался с китайцами-владельцами таёжных заимок, встречавших каждого русского настороженно и неприязненно, с чернорабочими-грузчиками, безразлично выполнявшими порученную работу, с китайцами-лавочниками, стремившимися чаще всего как-нибудь обмануть покупателя, или с хунхузами, с которыми приходилось иметь дело с оружием в руках. А этот – какой-то особенный, непонятный. Чен, как он себя назвал, удивлял и немного пугал.
«Ведь не будет же он так даром пускать меня в театр, наверно, что-нибудь взамен потребует, а что? Деньги – он знает, что их у меня нет. Нет, надо знакомство с этим китайцем прекратить», – решил Борис. Но от принятого решения до его исполнения расстояние довольно большое, так было и здесь.
Решить-то он решил, а в оперетту продолжал ходить всё время, пока эта, как оказалось, хабаровская труппа находилась во Владивостоке. Он успел посмотреть полтора десятка оперетт, а некоторые даже два раза. Боря впервые в жизни услышал и увидел такие спектакли, как «Сильва», «Весёлая вдова», «Продавец птиц», «Прекрасная Елена», «Баядерка» и другие, и основательно их запомнил.