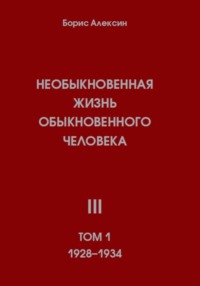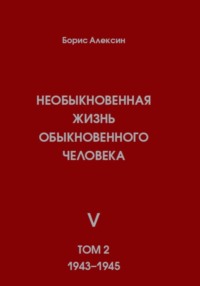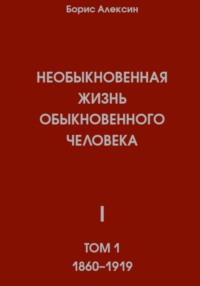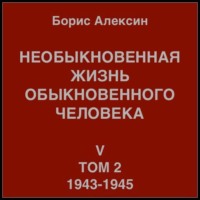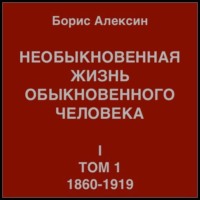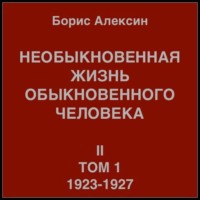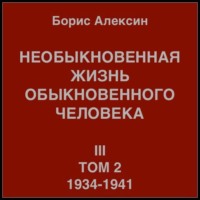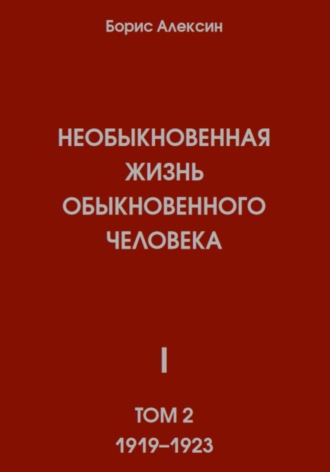 полная версия
полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2
С этими словами он достал из внутреннего кармана пиджака один из конвертов, которые ему дал брат при расставании, и протянул его начальнику станции. Тот недовольно оглянулся по сторонам. Затем произнёс:
– Вот как? Господин Алёшкин теперь со своими грузами сопровождающих командирует, не доверяет нам? Ну что ж, пойдёмте ко мне, поговорим.
Войдя вслед за начальником станции в небольшую комнатку, служившую кабинетом, Яков, всё ещё державший вынутый им конверт, присел на указанный стул.
Тем временем начальник станции сел на другой, достал из стола коробку с папиросами, не торопясь вынул одну из них и, закуривая, заметил:
– Что же господин Алёшкин такого неловкого помощника себе выбрал? Разве эти дела так делаются? Хорошо ещё, что в комнате никого постороннего не было, а то мало ли что могли подумать: может, вы мне взятку предлагаете. У нас ведь за такие дела, знаете, как строго! Ну, давайте, что там господин Алёшкин пишет.
Взяв, наконец, из рук Якова конверт, он осторожно вскрыл его и заглянул внутрь. Видимо, содержимое его удовлетворило, он стал гораздо приветливее:
– Ну да ладно… Для такого обходительного господина, как Пётр Сергеевич, чего не сделаешь! Сейчас распоряжусь, чтобы ваши вагоны прицепили к первому же пассажирскому поезду. Идите к себе, ни о чём не беспокойтесь.
Забежав на маленький базарчик, находившийся сразу же за станционным зданием, Яков купил кое-какие продукты и направился к вагонам. По дороге, ругая себя за неловкость, он вспоминал наставления, полученные им вместе с этими злосчастными конвертами, от брата. Никогда до сих пор ему не приходилось давать никому взяток, и теперь, поняв, что в этих конвертах находятся деньги, и, судя по довольному лицу начальника и его быстрой реакции, немаленькие, чувствовал себя неловко.
Конверт сделал своё дело. Через час вагоны прицепили к другому составу, правда, товарному, и они снова затряслись на стыках и стрелках.
Постоянная тряска, пережитые волнения подействовали на Анну Николаевну, она стала чувствовать себя всё хуже и хуже. Когда до станции Гродеково оставалось несколько десятков вёрст, она сказала мужу:
– Ты знаешь, Яша, я скоро рожу.
Он растерялся: как быть, кто может помочь здесь, в вагоне? Сам он не справится, да и ребятишки здесь, от них даже отгородиться нечем. Он вспомнил, что Щукин при прощании посоветовал ему при любом затруднении в Гродеково обратиться к багажному кассиру и попросить его помочь. Конечно, Щукин имел в виду другие затруднения, но Яков всё-таки решил воспользоваться помощью этого человека.
Лишь только поезд подошёл к станции Гродеково, Яков выскочил на перрон и помчался искать этого не известного ему человека. На объяснение о происходящем ему потребовалось не более пяти минут. Старик, а кассир был стариком, оказался очень понятливым. Немного подумав, он сказал:
– Вот что, молодой человек, забирайте своих детей и идите погуляйте на станции, да похлопочите у начальника, чтобы ваши вагоны хотя бы на сутки задержали здесь, поставив куда-нибудь в тупик. Всё остальное я сделаю без вас.
Узнав от Якова номера вагонов, он запер свою кладовую и быстро ушёл в направлении посёлка.
Зайдя к начальнику станции Гродеково, Яков на этот раз был уже осмотрительнее, он отозвал его в сторонку и, вручая ему конверт, попросил задержать сопровождаемые им вагоны на сутки. Тот удивился такой просьбе, но и здесь конверт сделал своё дело.
Уладив дело с начальником станции, Яков вернулся в свои вагоны. Состав, к которому они были прицеплены, стоял ещё на том же пути. Успокоив жену, он взял на руки Борю, позвал Люсю и, заявив, что им надо погулять, отправился в посёлок.
Перед этим он сказал, что вагоны переведут в тупик и что к Анне Николаевне придёт акушерка. Она чувствовала себя уже настолько плохо, что лежа на нарах, даже не обратила внимания на слова мужа.
К вечеру Яков с детьми после прогулки по посёлку, хорошего обеда в китайской харчевне и приобретения белья для маленького возвращался на станцию. С трудом разыскал он свои вагоны, стоявшие на одном из самых отдалённых тупиков. Там уже всё кончилось: спокойная, уставшая жена дремала на чистом белье, заботливо принесённом пришедшей к ней женщиной, а рядом с ней, завёрнутый в пелёнки и одеяльце, лежал новорождённый. Топилась печка, на ней грелся чайник, а на скамеечке сидела пожилая женщина, встретившая Якова поздравлением:
– Ну, поздравляю, папаша, Бог дал сына! Роды прошли благополучно, волноваться нечего. Следовало бы ей полежать где-нибудь в покое, ну да время такое, что не всем это удаётся. Денька два не давайте ей вставать, я думаю, все обойдётся.
Засунув руку в карман, Яков вытащил конверт и протянул его женщине, но та замахала руками и заявила, что никаких денег не возьмёт.
– Вам деньги теперь нужнее, а я это не из-за денег делала, а по своей обязанности…
На следующий день Алёшкины снова тронулись в путь и к вечеру уже находились в Никольск-Уссурийске, где их ждал Пётр Сергеевич, обеспокоенный задержкой.
Дальнейший путь на лодках и китайской шаланде произошёл без каких-либо приключений, и через шесть дней с начала своего путешествия семья Алёшкиных, успев увеличиться ещё на одного человека, благополучно перенеся речное и морское путешествие, прибыла на заимку брата.
Сам хозяин груза, руководивший его выгрузкой из вагонов и перегрузкой на шаланду, ехал на заимку сухопутным путём: поездом до Угольной и Шкотово, а далее на лошадях через Петровку, Речицу (их население составляли выходцы из Украины, Лифляндии и Эстляндии), затем через заимку, принадлежавшую Румянцевым, и, преодолев небольшой перевал, заросший мелким дубняком и орешником, спустившись в распадок, в котором росли огромные кедры, он наконец подъехал к своему дому.
По прямой заимка находилась от Владивостока не более чем в ста верстах, а по существующим дорогам расстояние увеличивалось вдвое. Морской транспорт, на котором плыла семья Алёшкина, был настолько несовершенен, что хозяин успел прибыть на заимку раньше их.
Выгрузку товара производили какие-то бородатые люди в ватниках и шапках, с нашитыми красными полосами. Лица их огрубели и обветрились. У многих из них на поясах находились подсумки и патронташи. Прислонённые к вековым кедрам, росшим почти на самом берегу бухты, винтовки, очевидно, тоже принадлежали им. Как успел заметить Яков, это были самые разнообразные винтовки: от американских маузеров и японских карабинов до старых русских берданок.
Впрочем, разглядывать всё это ему было некогда, нужно было спешить с разгрузкой своих вещей, детей и больной жены. Заметив затруднения прибывшего, к нему подошли два работника, которые помогли перенести Анну Николаевну на берег. Она присела около своих узлов, держа на руках младенца. Испуганные ребятишки прижались к ней.
Признаться, и сам Алёшкин немного удивился и испугался такой быстрой и торопливой выгрузке. Все были заняты только одним: как можно скорее спровадить шаланду от берега. Не прошло и получаса, как на берегу не осталось и следов выгрузки, а шаланда ещё чуть виднелась на горизонте, и только Яков Матвеевич с семьёй всё ещё сидел около своих пожиток, не зная, что делать дальше.
Такое одиночество длилось недолго. Отправив груз, Пётр Сергеевич рассказал матери и жене о найденных родственниках, те выбежали из дома и в сопровождении двух ребятишек возраста Люси и Бори подбежали к новоприбывшим. Одна из встречавших, уже совсем старуха, двигалась ещё быстро и энергично, другая – молодая, смуглянка, с очевидной примесью восточной крови, такого же возраста, как и Анна Николаевна, взяла у неё ребёнка и направилась к дому. Старшая обняла Анну Николаевну и осторожно повела её туда же. Ребятишки последовали за ними. У вещей остался Яков, ожидавший, пока ему скажут, куда он их должен будет перенести.
Ещё в дороге, при перегрузке товара из вагона в лодки и шаланду, он понял, что сопровождает не только и даже не столько рыболовные снасти, сколько оружие, боеприпасы и снаряжение, необходимое не рыбакам, а солдатам. Вид грузчиков на заимке подтвердил его догадки о том, что грузы предназначались какому-то войску, очевидно, тем самым красным партизанам, о «зверствах» которых в Харбине ходили самые несуразные слухи, распространяемые при участии колчаковской контрразведки. Партизаны, будем теперь называть их так, вначале занятые своим делом, торопливо унося выгружаемые ящики, коробки и бочки куда-то в глубину бухты, теперь обратили внимание на одиноко стоявшего человека и стали поглядывать на него подозрительно. Между тем Пётр Сергеевич не появлялся.
Дело в том, что, хотя заимка Алёшкина и не была настоящей партизанской базой, она являлась важным перевалочным пунктом, связывающим отряды морским путём.
Заимка была расположена в таком месте, что отряд из нескольких человек мог надолго задержать на единственной проезжей дороге, пролегавшей между двумя отвесными скалами, большое войсковое подразделение.
Другие пути, связывавшие заимку с внешним миром, представляли собой труднопроходимые тропы, известные только местным жителям. Бухта была мелководная, и потому оказывалась недоступной даже для небольших военных судов. Она надёжно укрывалась от ветра и посторонних глаз выступающими из воды скалами, о которые разбивались волны Тихого океана. Со стороны моря даже было трудно и предположить, что за грудой этих скал, постоянно покрытых пеной и брызгами, находится маленькая, но спокойная и тихая бухточка. Может быть, именно поэтому на заимку Алёшкиных ни военные суда царского флота, ни белогвардейцы, ни, в последствии, японцы не наведывались.
Основным занятием первого хозяина заимки являлась контрабанда, она-то и помогла ему быстро разбогатеть. Алёшкины занимались только рыболовством. Впрочем, чем, кроме того, занимался Пётр Сергеевич, мы уже знаем.
Площадь заимки вмещала только небольшой дом, хозяйственные постройки, крошечный сад (яблони и сливы завезли от эстонцев) и огород, занимавший самый конец распадка и соприкасавшийся с тайгой. На его границе находилось небольшое зимовье.
Немудрено, что командир партизанского отряда, занимавшийся сложным делом сухопутной доставки привозимых Алёшкиным грузов из бухты на базы отрядов, обеспокоился появлением на ней нового человека. В это время он строго расспрашивал Петра Сергеевича о его новом родственнике, но тот и сам о нём знал не очень много. Он смог рассказать только то, что ему в своё время рассказал сам Яков и Щукин.
– Не мог же я бросить в безвыходном положении своего самого ближайшего родственника, тем более что его хорошо знает Щукин, – говорил Пётр Сергеевич, – а перевозить его куда-либо в другое место мне казалось рискованным, и не только для него, но и для всех нас. Здесь же он будет и в безопасности, и под надёжным контролем.
– Ну, хорошо – согласился командир, – я доложу о нём в штабе, как решат, так и поступим, а пока вы своего братца во все наши дела не посвящайте…
Только после этого разговора Пётр Сергеевич смог выйти к Якову, который уже начал терять терпение. Брат извинился за то, что заставил себя ждать, сослался на необходимость отдачи срочных распоряжений о привезённом грузе и о делах заимки, пригласил родственника в дом и провёл его в ту комнату, в которой уже находились его жена и дети. Это была небольшая комнатка, имевшая, помимо сообщения с домом, отдельный выход на улицу.
Вскоре новые Алёшкины, как стали их называть работники и женская прислуга дома, поселившись в отведённой им комнате, зажили на заимке так, как будто никогда ничего иного и не делали.
Яков, не умевший и не любивший сидеть без дела, немедленно занялся приведением в порядок имевшегося сельхозинвентаря и рыболовных снастей. Начался февраль, менее чем через месяц можно было начинать работать на огороде, да и весенняя путина на носу. Уже подходила мартовская сельдь, следовало подготовиться к её лову.
До этого Якову Матвеевичу никогда не приходилось заниматься рыболовством, и он, как человек, любивший всякое новое дело, с увлечением принялся за изучение этого ремесла. Вскоре он чинил сети не хуже заправских рыбаков. Особенно пригодились его знания по бондарному делу, полученные им в ранней юности, когда он работал вместе с отцом на тарном заводе в Брянске. Бочки в хозяйстве имелись, но большинство из них требовало ремонта, этим он и занялся.
Пётр отдавал много времени частым и длительным разъездам: в Шкотово, во Владивосток и другие города Дальнего Востока, как по своим делам, ведь он всё-таки, как торговец-рыбопромышленник, должен был совершать сделки и доставлять закупленный у него товар, так и по делам, связанным с коммерцией для партизан. Вероятно, добыча необходимого партизанам оружия и снаряжения производилась им не только в Харбине.
Очень скоро ведение всего хозяйства заимки легло на плечи Якова Матвеевича, как-никак он был ближайшим родственником хозяина. Радуясь тому, что находится вместе с семьёй, что наконец-то избавился от постоянной угрозы обнаружения, как дезертира, что он и его семья вполне сыты и при помощи хозяев сумели приобрести кое-какую одежду, Яков старался работать так, чтобы родственник не мог упрекнуть его в неблагодарности.
Обладая порядочными организаторскими способностями и умением хорошо приспосабливаться к любой обстановке, Алёшкин быстро разобрался в несложном хозяйстве заимки и умело руководил деятельностью своих, а также присылаемых партизанами на лов морской рыбы, людей. А в то время у берегов Приморья имелось её огромное количество. Начавшись с лова сельди, которую ловили у берега ставными неводами, путина продолжалась всё лето: ловили крабов, креветок, а затем лосося, горбушу, cёмгу и кету. Лососевые породы с конца июля месяца устремлялись на нерест в маленькую горную речушку, впадавшую в море в самом углу бухты, тут их и ловили.
Присутствие Якова принесло большую пользу заимке не только тем, что он участвовал, а иногда и организовывал лов, но ещё и тем, что он сумел наладить более совершенную обработку рыбы. Среди людей, находившихся на заимке и прибывавших на помощь, не было никого, кто бы хорошо знал бондарное дело. Красную рыбу солили таким способом, как это делали прежние аборигены этих мест: выкапывали на берегу яму и укладывали туда, пересыпая солью, распластанную и выпотрошенную рыбу. Бочек, привозимых Петром, хватало только для засолки сельди и икры.
Яков, изготовив себе в маленькой кузнице несложные инструменты, вместе с рабочими напилил кедровых чурок, переколол их на клёпки и после просушки смастерил, кроме бочек, два засольных чана, чем помог увеличить количество засоленной рыбы и значительно улучшить её качество.
Конечно, всё это было сделано не сразу, и прошло не менее года, прежде чем эти новшества появились на заимке.
Кроме рыбы, расходуемой на питание семьи и продажу, Петру приходилось большую часть её передавать партизанам. Положение последних к этому времени значительно усложнилось. В апреле 1921 года японцы выступили открыто, как оккупанты Дальнего Востока. Они вероломно напали на партизанские отряды, до сих пор стоявшие с ними рядом в одних селениях, расстреляли попавших в их руки партизан, арестовали многих большевиков Приморья, в том числе и Сергея Лазо, а вскоре и зверски расправились с арестованными.
Всё это заставило уцелевшие отряды партизан уйти глубже в тайгу, потерять ряд своих продовольственных баз, и продуктовая помощь, поступавшая с заимки Алёшкина, была очень кстати. Впрочем, повторяем, всё это произошло гораздо позже.
Вернёмся немного назад. Через два или три месяца после приезда Якова Алёшкина на заимку, партизаны стали относиться к нему с полным доверием. Произошло это после того, как на заимке побывал один из партизанских командиров. Кто именно это был, Яков Матвеевич так никогда и не узнал: расспрашивать было неудобно, а фамилию и имя этого человека никто не называл. Все обращались к нему «товарищ командир».
Яков помнил, что это был смуглый человек с курчавыми чёрными волосами, большим горбатым носом, на котором каким-то чудом, постоянно покачиваясь, держалось пенсне. Его чёрные усы слега опускались книзу. На нём была одета кожаная тужурка и такая же фуражка. Его правая рука находилась на перевязи. Один из прибывших с ним партизан, очевидно, фельдшер, ежедневно делал ему перевязки. Прибывшие с командиром партизаны разместились в зимовье. Сам командир жил в кабинете Петра Сергеевича, так громко называлась одна из комнат дома. Он пробыл около двух недель, уехав так же внезапно, как и приехал.
В первый же вечер по прибытии на заимку он вызвал Якова и заставил его снова рассказать свою историю. Кроме того, он ознакомился с содержимым того конверта, который Щукин вернул Алёшкину при расставании. В пакете находился послужной список Алёшкина. Кроме перечисления мест его службы до и в период войны, записей о его подвигах и наградах, в конце были и такие:
«5/VI –1918 г. Зачислен командиром полуроты запасного полка Верхнеудинского гарнизона с предоставлением двухмесячного отпуска по ранению. Распоряжение воинского начальника г. Верхнеудинска.
3/VШ–1918 г. Произведён в подпоручики, со старшинством с I/VП–1918г. Приказ нач. гарн. г. В/Удинска №0018.
5/VШ–1918 г. Откомандирован для прохождения дальнейшей службы при штабе адмирала Колчака в г. Харбин. Распор. н-ка Упр. кадров п-ка Васильева».
Дальнейшие страницы послужного списка были чистыми, впрочем, нет: на одном из них через всю страницу корявым щукинским почерком была сделана карандашная надпись: «Вместо штаба Колчака явился к нам. Щукин».
Внимательно выслушав рассказ Алёшкина и прочитав его послужной список, командир, по возрасту бывший примерно одних лет с Яковом, сказал:
– Значит, вы всё-таки колчаковский офицер, хотя вроде бы у него и не служили. Вот уж не знал, что на этой заимке прячется белый офицер, что же с вами делать? Может быть, пойдёте ко мне в отряд? Понимаю, что ещё не окрепли после ранения и тяжёлой жизни в Харбине, а также и то, что вам, пробыв на Германском фронте четыре года, порядком надоела война. Наша жизнь тоже нелёгкая… Ладно, подержим пока вас в резерве, поработайте здесь на заимке в качестве помощника нашего нелегального интенданта. Ну да и связным вас попытаемся иногда использовать. Да, вот вам мой совет: если здесь поблизости окажутся какие-нибудь белые, укрывайтесь немедленно, вам придётся плохо. Кстати, вы о судьбе Колчака осведомлены, нет? Ну так знайте, Красная армия разбила его наголову, а самого расстреляла в Иркутске. Правда, пока это положения не улучшило, особенно у нас на Дальнем Востоке. Тут теперь захватывают власть разные мелкие диктаторы, они утверждают её с ещё большей жестокостью. Кроме того, японцы и американцы практически захватили власть во всех крупных городах и селениях Приморья. Такие базы, как эта заимка, для нас очень ценны.
Мы уже знаем, что Яков Алёшкин работал на этой базе не за страх, а за совесть, за пределы заимки он в течение первого года выезжал, а чаще выходил только по специальному приказу. Знали о его пребывании там лишь отдельные партизаны и люди, жившие на заимке.
С середины 1921 года работу связника ему пришлось расширить, и он побывал и в Находке, и на Сучане, а один раз на шаланде даже в Шкотово.
Во время путины Якову приходилось выходить в море. На заимке имелся небольшой кунгасик, снабжённый стареньким японским мотором. Он служил для постановки невода, для заброски крабовых сетей и для сбора брёвен, раскиданных по побережью. Плоты шкотовских лесопромышленников штормами нередко разбивались, лес разносился волнами по всему заливу Петра Великого. Кое-что собирали рабочие, нанятые хозяевами плотов, а большая часть доставалась береговым жителям, которые использовали выловленные брёвна в хозяйстве.
Капитаном этого своеобразного корабля был один из работников заимки – старый китаец. Дело своё он знал очень хорошо: помнил все, даже самые крошечные, бухточки побережья и в любую погоду без всякого компаса мог найти дорогу домой. Говорили, что в прошлом он был контрабандистом. В одном из своих путешествий, раненный царскими пограничниками, он еле-еле успел спастись на заимке. Здесь его вылечили, и он остался навсегда.
Осенью 1919 года моторист этого судёнышка простудился, заболел, да так и не поправился, а китаец с мотором обращаться не умел. Попытки Петра Сергеевича найти моториста были безуспешными. Пришлось Якову осваивать и эту специальность. Изучить стоявший на кунгасе несложный мотор Якову труда не составило. На некоторых сельскохозяйственных машинах применялись бензиновые двигатели, принцип их работы он знал, не был только уверен в себе как в моряке. Оказалось, что и это не проблема – качка на него не действовала.
Не осталась без дела и Анна Николаевна. Помимо своих способностей портнихи, которые пришлось проявить и на заимке, вскоре она смогла работать и по своей любимой специальности. Её дочка Люся уже подросла, ей исполнилось семь лет. Необходимо было начинать учить её грамоте. Школ поблизости не было, да и, по вполне понятным причинам, ими невозможно было бы воспользоваться. Она решила начать учить дочь сама, тем более что в числе вывезенных из Верхнеудинска вещей имелись необходимые учебники.
Узнав о её намерениях, хозяева заимки решили этим воспользоваться. Их сыну Серёже – ровеснику Люси тоже следовало начинать учение, и Пётр Сергеевич собирался отвезти его для этого во Владивосток. Конечно, тогда бы и их матери, и младшему ребёнку пришлось жить в городе. Это, помимо неудобств, связанных с жизнью на два дома, мешало бы действиям самого Алёшкина, поэтому он и откладывал отправку семьи во Владивосток. Ему очень не хотелось поселять жену и детей в этом неспокойном городе. Когда Анна Николаевна согласилась заниматься с Серёжей, он обрадовался.
Так, с осени 1920 года на заимке Алёшкиных открылась собственная школа. Кроме Люси и Серёжи, в ней обучались ещё двое детей русских рабочих – получился настоящий маленький класс.
Анна Николаевна была очень довольна тем, что может своим трудом отблагодарить за приют, оказанный её семье родственниками мужа, а также и тем, что она снова занимается любимым делом.
Так, в трудах и заботах, прошло более двух с половиной лет. Всё это время Яков и его жена по существу были полностью оторваны от общественной жизни. Связующим звеном с внешним миром в основном являлся Пётр Сергеевич, продолжавший свои разнообразные коммерческие операции. Но то ли по собственному почину, то ли по заданию, о том, что творилось за пределами этого укромного уголка, он почти ничего не говорил. Молчали, как правило, и приезжавшие партизаны, а Якову, отправлявшемуся с тем или иным поручением в какой-нибудь отряд, было не до разговоров. Передав то, что ему было поручено, он торопился покинуть отряд. Немногое можно было узнать и от китайской команды с шаланды, заезжавшей за рыбой или привозившей очередную партию товара. Обычно при появлении шаланды все старались принять посильное участие в выгрузке или погрузке с тем, чтобы поскорее выпроводить её из бухты. Мачты шаланды могли привлечь чьё-нибудь ненужное внимание к заимке: на горизонте временами виднелись русские и японские корабли.
Нужно сказать, что оба супруга Алёшкины, увлечённые постоянными делами, отдавшись относительному покою и своему семейному благополучию, как-то и не интересовались тем, что происходит вокруг. А в этот период на Дальнем Востоке события происходили самые бурные: при поддержке японских и американских интервентов белогвардейские правительства плодились как грибы, и как грибы же бывали недолговечны. Сменяя один другого, эти верховные правители под непрерывным натиском Народно-революционной армии Дальневосточной Республики (НРА ДВР – прим. ред.), созданной в своё время в Чите, а также под ударами партизанских отрядов Приморья, трещали и лопались как мыльные пузыри, сокращая границы своей неделимой России так, что последнему из этих белобандитов – генералу Дидериксу и его Земской рати досталась «страна», состоящая из Владивостока и дачных мест вплоть до станции Угольной, находящейся в тридцати километрах от города. Но и здесь он сумел продержаться лишь чуть больше двух месяцев.
В распоряжении белых, наконец, не осталось и этого клочка русской земли, и они вместе со своими хозяевами – японцами и американцами, штурмуя пассажирские и грузовые пароходы, прихватив всё, что удалось запихать в чемоданы, бросая своих солдат и мелких прихлебателей, уплывали в неизвестность с тем, чтобы исчезнуть с горизонта родины навсегда.
Некоторые из них, зная Петра Сергеевича Алёшкина, недоумевали, почему он не бежит вместе с ними; другие же считали, что семья его за границей, там же и состояние, а что сам он хочет продержаться в Приморье подольше для того, чтобы в последней мутной водичке ещё половить рыбку.
Мы знаем, что дело было не в этом. Однако повторяем, эти события на заимке Алёшкина никакого отражения не находили, и все её обитатели, занятые домашними хлопотами продолжали обычную жизнь.
Но вдруг в начале ноября 1922 года, вернувшись из Владивостока, Пётр Сергеевич объявил, что в Приморье так же, как и во всей России, установлена советская власть, что бухту Золотой Рог покинул последний японский пароход, что 22 октября в город вошли войска НРА и Красной армии, партизаны вышли из лесов и на Дальнем Востоке наступил мир.