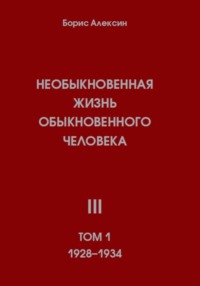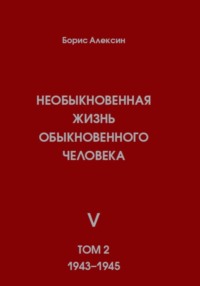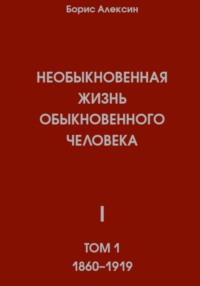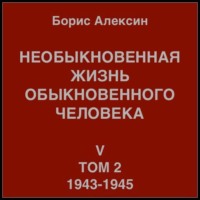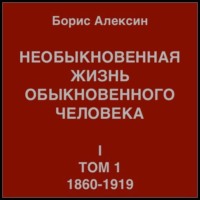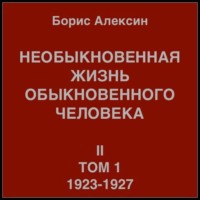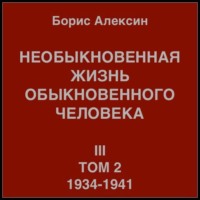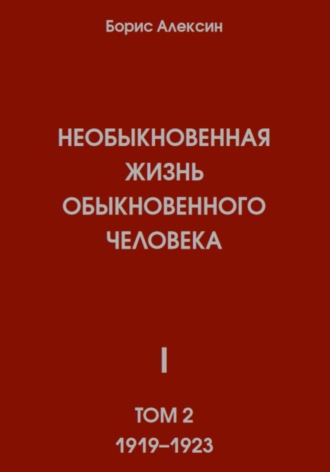 полная версия
полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2
Глава пятая
С приходом на Дальний Восток советской власти началась ломка и переустройство всего административного и хозяйственного аппарата края, нужно было произвести и реорганизацию военной службы.
К этому времени в Советской России уже существовала оформившаяся Красная армия, в которую уже проводились очередные призывы пополнения. В Приморье это нужно было организовать как можно быстрее. В ряде мест уже были созданы уездные военные комиссариаты, но кадров для работы в них не хватало. Если на должность военкома можно было назначить кого-либо из бывших партизанских командиров, то для правильной организации работы комиссариата этим командирам были нужны квалифицированные помощники, знающие военное дело и его организацию. Таких почти не было. Из Центральной России ждать поступлений людей не приходилось, там эти кадры тоже были нужны.
Вот как раз в это время кто-то из партизанских командиров и вспомнил про находившегося на заимке бывшего офицера Якова Алёшкина. В начале декабря 1922 года под вечер на заимку прискакал верховой красноармеец с бумагой, в которой было написано, что бывшему подпоручику Я. М. Алёшкину предписывается немедленно явиться в село Шкотово, в Ольгинский уездный военный комиссариат.
Постоянно находясь на свежем морском воздухе, хорошо питаясь, Яков Матвеевич за время жизни на заимке окреп, поздоровел: раны его закрылись, молодость взяла своё, и он чувствовал себя отлично.
За последнее время жизнью у родственников он уже стал даже немного тяготиться. Раньше, когда Пётр Сергеевич был занят различными делами, связанными с постоянными разъездами, Яков, организуя всю работу на заимке, по существу превратился если не в хозяина, то как бы в его полномочного представителя. В последние месяцы существования на Дальнем Востоке белогвардейцев Пётр старался в городе показываться реже. А с установлением советской власти надобность в частых поездках у него отпала и вовсе. Он стал всё больше и больше сам вникать во все дела заимки. Кое-что из того, что делал или намечал Яков, ему пришлось не по вкусу, и он отменял распоряжения своего брата, сводя, в конце концов, работу последнего к роли простого исполнителя. Это, конечно, не могло не задеть самолюбивого Якова Матвеевича, и он стал задумываться о том, чтобы покинуть гостеприимную заимку, вернуться в Верхнеудинск и снова заняться своим любимым делом на складе сельскохозяйственных орудий и машин. Его желание разделяла и жена: Анну Николаевну роль полугувернантки тоже не удовлетворяла, ей хотелось настоящей работы в школе. Вызов Алёшкина в Шкотово, как видим, совпадал с его желанием, поэтому на следующий день, взяв у Петра лошадь, он верхом отправился в путь.
Недоумевал он только, откуда органам советской власти стало так быстро известно его местопребывание и для чего его вызывают. Он предполагал, что, очевидно, в Приморской губернии происходит регистрация всех бывших офицеров, а так как партизаны знали о его существовании, то, по их сообщению, для этой цели вызывают и его. Яков надеялся, что после этой регистрации, может быть, и не сразу, ему будет дано разрешение на возвращение в Верхнеудинск.
Часа в два этого же дня Яков Матвеевич уже стоял перед дежурным военного комиссариата, здание которого разыскал с трудом. В селе пока ещё никто не знал, где находится это учреждение. Все предполагали, что оно, как и многие другие, начавшие открываться с приходом советской власти, разместилось где-то в казармах гарнизона. Однако, в какой именно, никто сказать не мог, а казарм этих в Шкотово было несколько десятков.
Узнав фамилию прибывшего, дежурный попросил его подождать, а сам отправился к военкому. Через несколько минут Алёшкин вошёл в кабинет военкома, если так можно было назвать огромную комнату казармы, из которой совсем недавно выбросили нары и в которой, кроме большого простого деревянного стола, стула, занятого военкомом, и скамейки, стоявшей перед столом, куда он предложил сесть Якову Матвеевичу, больше ничего не было.
Комиссаром оказался один из виденных ранее Алёшкиным партизанских командиров, некто Плещеев. Он был одет в новенькую красноармейскую форму: длинную светло-зелёную гимнастёрку с отложным воротником, с четырьмя красными суконными галунами, застёжками, пересекавшими грудь гимнастёрки, и с большими карманами, находившимися на её подоле. На широком ремне, опоясывавшем комиссара, висела кобура с револьвером, на ногах у него были хромовые сапоги, в которые заправлялись синие суконные брюки-галифе. На столе лежала странная шапка, немного походившая на суконную покрышку, надевавшуюся немцами поверх касок, и в то же время – на какой-то старинный богатырский шлем. Над суконным козырьком шлема (так он и назывался) была пришита большая красная звезда. На левом рукаве гимнастёрки комиссара, недалеко от обшлага, имелась нашивка, напоминавшая наконечник копья, по краям она была отделана красным кантом. В верхнем углу нашивки находилась небольшая красная звездочка, а ниже – её четыре красных квадратика.
Мы описали эту красноармейскую форму так подробно потому, что Яков Матвеевич видел её впервые, и она произвела на него большое впечатление. До сих пор у красных партизан он видел такие же гимнастерки, как и у царских солдат, такие же папахи и фуражки, с единственным отличием – красными ленточками на них. Многие же вообще были одеты кто во что горазд, в том числе даже в японскую военную форму.
Да, откровенно говоря, нам кажется, что и современные читатели плохо себе представляют ту военную форму, которую носили их прадеды.
Плещеев встал и подошёл к прибывшему, поздоровался с ним за руку и сказал:
– Ну, вот и хорошо, что не задержался, теперь послужим вместе. Ты в каком последнем чине был? Подпоручик? Ну, у нас будешь комроты, три кубика носить будешь, а в военкомате – начальником штаба комиссариата и начальником моботделения. Дело тебе знакомое: я читал в твоём послужном списке, что ты батальонным адъютантом на фронте был, а это тот же начальник штаба. Работы, брат, непочатый край! Надо провести мобилизацию: призыв 1901–1902 годов, отправить их по назначению, организовать волостные приписные пункты. Уезд-то у нас побольше иной губернии, так что спать не придётся. Сейчас пойдёшь, обмундирование получишь, закусишь и отдохнёшь, а завтра поедем во Владивосток, представимся товарищу Уборевичу, не слышал о таком? Это бывший командарм 5-й армии, он один из тех, кто руководил освобождением Приморья, сейчас назначен на должность начальника Приморского военного округа. Всех уездных военкомов и начальников штабов он утверждает лично, так что держись! Ну да я думаю, что он тебя утвердит, послужной список твой там, у них… Семёнов! – крикнул военком, приоткрывая дверь. – Проведите начальника штаба в каптёрку, пусть его обмундируют. Затем проводите его на квартиру, мы ведь ему, кажется, у Писновых две комнаты приготовили. Ну, вот, пока всё, завтра ещё поговорим. Пока до свидания, иди, товарищ Алёшкин.
Ошеломлённый этим потоком слов, своим неожиданным назначением и вообще таким непредвиденным новым поворотом в своей судьбе, Яков Матвеевич, не успевший вымолвить ни слова, последовал за появившимся в дверях красноармейцем, одетым в такую же форму, как и у Плещеева, только без нашивок на рукаве, обутым в простые юфтовые сапоги и брюки из хлопчатобумажной материи.
Следуя за Семёновым, Алёшкин успел рассмотреть здание военкомата. Это была большая одноэтажная казарма, ранее предназначавшаяся для размещения семейных офицеров. Во время пребывания в Шкотово интервентов и партизанов она использовалась как обыкновенная казарма. Военком занял её потому, что она была одной из наименее повреждённых, имела целые окна и двери. Пробив в одной из внутренних стен дополнительную дверь, он соединил две квартиры вместе, получив таким образом помещение, позволявшее разместить все отделы комиссариата и охранявшую его команду из нескольких десятков красноармейцев в одном месте. Вторая половина казармы пустовала. Начальствующий состав военкомата жил на квартирах у местных жителей. К этому времени переоборудование казармы ещё не закончилось, в помещении и на улице находилось много мусора и обломков.
Каптёрка военкомата помещалась рядом с казармой в небольшом кирпичном сарае, окна которого вместо решёток были оплетены колючей проволокой.
Каптенармус, пожилой красноармеец, узнав от Семёнова, что приведённый им товарищ – будущий начальник штаба военкомата, а следовательно, и его непосредственное начальство, проявил максимум старания, чтобы подобрать Алёшкину соответствующее по размеру и росту обмундирование – шинель и сапоги. Выдал он также ему и кубики из красного сукна, которые нужно было пришить на рукава шинели и гимнастёрки. Вместе с поясом выдал только что полученное новое снаряжение, то есть переплетающиеся на спине и груди ремни, поддерживающие поясной ремень, обычно смещавшийся от тяжести надеваемого на него револьвера. Каптенармус сказал при этом, что это снаряжение Якову Матвеевичу он выдаёт первому, так как только вчера его получил. В этой же каптёрке Алёшкин получил кобуру и новенький револьвер системы Нагана с необходимым количеством патронов.
В то время ещё не практиковали шитьё обмундирования для командиров по мерке, это делалось только для лиц высшего комсостава, поэтому услуга каптенармуса была ощутима.
Через полчаса из двери каптёрки вышел молодой, одетый в ладно сидевшую красноармейскую форму человек, поскрипывающий новым кожаным снаряжением, с удовольствием поглядывавший на свои блестящие хромовые сапоги. Удивляла нового командира шинель: она была длинной, почти до самых пят. Такую шинель раньше носили только в некоторых кавалерийских полках, у пехотинцев она была значительно короче. Кроме того, в отличие от старой царской шинели на обшлагах её имелись длинные, не пришитые к рукавам заострённые концы, как их называли, отвороты, а поперёк груди располагались такие же галуны, как и у гимнастёрки. Сразу же после примерки Яков Матвеевич остался в обмундировании. Из каптёрки он вышел с узлом, в котором была завёрнута его гражданская одежда и запасное бельё.
Пройдя вместе с терпеливо дожидавшимся его Семёновым мимо здания военкомата и следующего, где жили семейные писари, они поравнялись с только что отделанной, почти новой казармой, около которой стоял часовой. Здесь, по рассказу Семёнова, находилось уездное казначейство, охрана которого входила в обязанности военкомата.
Следующим за этой казармой было большое двухэтажное деревянное здание с каменным полуподвальным помещением. У коновязи стояли привязанными несколько верховых лошадей, а по галерее, окружавшей второй этаж дома, то и дело проходили люди, одетые в кожаные тужурки и фуражки. Яков Матвеевич только собрался спросить у своего провожатого, что это за учреждение, как тот объяснил сам.
Семёнов сказал, что здесь помещается уездное ЧК, или, как теперь его стали называть, ГПУ. Сказал он это вполголоса, немного таинственно, как бы опасаясь, что его слова услышат люди, находившиеся на галерее. Шли они в это время как раз напротив этого дома, причём с другой стороны неширокой дороги, почти тропинки, находился высокий деревянный забор, отгораживающий огороды крестьянских дворов, расположенных по склону сопки. Чтобы яснее себе представить положение этих строений, нужно пояснить, что весь Шкотовский гарнизон, все его казармы построились вокруг большой сопки уступами, на соответственно спланированных горизонтальных площадках, село же находилось внизу, в конце долины или пади, спускающейся к морю, между двумя речками – Майхэ и Цемухэ, и лишь ближе к последней часть крестьянских домов взбиралась на противоположную сопку.
Казармы и дом, о котором мы только что говорили, размещались почти на самом верху юго-западного склона сопки, огороды лежали по нижнему её склону. Дом ГПУ занимал господствующее положение: из его окон виднелось всё село, бухта и большая часть казарм гарнизона. Впоследствии Алёшкин узнал, что этот дом принадлежал полковнику инженеру Чечулину – главному архитектору, планировавшему и руководившему строительством гарнизона. Он сбежал из Шкотово в самом начале революции. Строительство казарм и военных складов с 1917 года прекратилось, этим и объяснялось то, что в гарнизоне, кроме целых, имелось много недостроенных казарм и даже только фундаментов от них.
– Сейчас, – рассказывал Семёнов, – этим ребятам из ГПУ здорово достаётся. У них война ещё не окончилась, целыми днями по окрестностям мотаются, беляков вылавливают. Тут их много попряталось, ведь удрать трудно было. Кого допрашивают и отпускают, ну а некоторых в город отправляют, иногда и наши им помогают. У них тут в подвале и своя тюрьма есть.
Нельзя сказать, чтобы этот рассказ пришёлся по душе Алёшкину, он внутренне содрогнулся. В своё время он немало наслушался про свирепость чекистов, а ведь он как-никак «беляк» тоже. «Да, – подумал он, – весёленькое соседство, ничего себе!»
За время жизни в Харбине он успел наслушаться от разных людей, да и прочитать в белогвардейских газетах отзывы о ЧК, как о самом страшном учреждении совдепов. Все они называли чекистов озверевшими садистами, безжалостно пытавшими, стрелявшими чуть ли не подряд, без всякого суда и следствия, всех, кто попадался им под руку из числа зажиточных горожан, интеллигентов и особенно офицеров. Немудрено, что Яков Матвеевич невольно почувствовал себя не в своей тарелке.
Тем временем в одном из заборов Семёнов открыл маленькую калитку и, показывая рукой на тропинку, извивавшуюся между грядок и ягодных кустов, круто спускавшуюся вниз, сказал:
– Ну, вот мы и пришли, товарищ командир. В этом доме у Писновых вам квартиру приготовили. Хозяин ещё до войны полдома офицерам под квартиры сдавал, и сейчас тоже. Тут в одной квартире уже живут, вы рядом с ними будете. Крыльцо у вас общее, а из коридора квартиры в разные стороны. Хозяева в другой половине дома живут, у них совсем отдельный вход. Я вас нарочно самой ближней дорогой провёл, а можно ещё и кругом по проезжей дороге пройти. Вон, навстречу нам, кажется, и сосед ваш идёт.
Яков Матвеевич взглянул вниз и увидел медленно поднимавшегося вверх невысокого черноволосого человека, одетого в кожаную тужурку и фуражку, сбоку у него болтался на длинном ремне очень модный тогда пистолет маузер. Алёшкин без труда определил, что этот человек – чекист. «Час от часу не легче, – вновь подумал он, – и вверху целое ЧК, и сосед чекист. Что же это, нарочно что ли подстроили? Не доверяют мне?»
Тропинка была очень узкой и крутой. Поднимавшийся, заметив идущих навстречу и зная, что разойтись будет трудно, остановился на небольшой площадке, чтобы дождаться спускавшихся и пропустить их мимо себя. Когда они поравнялись, чекист узнал Семёнова, занимавшего в военкомате должность писаря хозяйственной части и выписывавшего обмундирование всем военным, находившимся в Шкотово, в том числе и чекистам. Встречный поздоровался и спросил:
– Что, товарищ Семёнов, нового постояльца ведёте?
– Да, товарищ Надеждин. Это начальник штаба военкомата прибыл.
– Здравствуйте, товарищ, – дружелюбно проговорил чекист, протягивая руку, – меня звать Николай Семёнович Надеждин, ваш сосед по квартире, а по должности – заместитель начальника уездного отдела ГПУ. Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Алёшкин?
Яков Матвеевич машинально ответил на рукопожатие и подумал: «Ну, держись, Яшка, тут, кажется, в ЧК всю твою подноготную знают». Обладая довольно строптивым характером, со свойственной молодости горячностью, немного вызывающе произнёс:
– Так точно, Алёшкин Яков Матвеевич! Бывший подпоручик!
– Ну-ну, это уж теперь неважно, какой вы были бывший, Яков Матвеевич, посмотрим, какой вы настоящий будете. Теперь ведь у вас звание, вероятно, командир роты будет, так что опять вроде офицера будете, только теперь уже красного, – дружелюбно, но немного насмешливо подчеркнул Надеждин. – Ну, а мы в ЧК, простите, оговорился – в ГПУ пока ещё никаких знаков различия не имеем, и что начальник, что рядовой в одинаковых кожанках ходим. Ну да ладно, мы ещё с вами успеем поговорить – соседями будем. Счастливо устраиваться! – и Надеждин медленно зашагал в гору.
Всю остальную часть пути Алёшкин думал о Надеждине. Широкое, скуластое, со следами оспы лицо; чёрные живые глаза, беспрестанно скользившие по собеседнику, как бы ощупывая его со всех сторон; почти сросшиеся у переносицы брови придавали верхней части его лица строгость и какую-то даже свирепость, между тем, эта часть его лица совсем не гармонировала с нижней; рот с полными, почти постоянно улыбающимися губами, с какой-то по-девичьи наивной ямочкой на левой щеке и мягким, хотя и широким, подбородком придавали всему лицу какое-то добродушно-простецкое выражение. Голос у него был высокий и мягкий, и Яков невольно подумал: «Поёт, наверно, хорошо…»
Вскоре Алёшкин со своим провожатым добрался до крыльца дома. Семёнов прошёл за угол к хозяевам и через несколько минут вышел оттуда в сопровождении высокого, черноусого и черноволосого человека, одетого и даже подстриженного так, как были одеты галицийские крестьяне, виденные Яковом во время пребывании его в Галиции.
Представившись, хозяин провёл прибывшего в предназначенную для него квартиру. Поднявшись по невысокой лестнице на крыльцо, они очутились в широком тёмном коридоре, из которого направо и налево вели двери в квартиры. Открыв правую дверь, хозяин пригласил за собой и Якова Матвеевича.
Квартира состояла из двух маленьких смежных комнаток и крошечной кухоньки. Алёшкину, ютившемуся до этого на заимке брата со всей семьёй в одной маленькой комнате, эта квартира показалась вместительной и удобной.
Заканчивая показ, хозяин сказал:
– Вот это и есть та квартира, которая снята для вас военкоматом. У вас семья-то большая? Ах, ещё четверо, ну тогда будет немного тесновато. Но в тесноте, да не в обиде. Вторая квартира ещё меньше будет, там два чекиста должны жить, один – Надеждин – уже въехал. Он пока одинок, его жена на Сучане учительствует, детей у них нет. Он хоть и из ЧК, а, кажется, человек тихий и спокойный, – заметил доверительно Писнов.
Яков Матвеевич, которому слишком разговорчивый хозяин не очень понравился, постарался побыстрее от него отделаться, заявив, что он устал с дороги и должен отдохнуть. Положив ключ от квартиры на столик, стоявший в кухне, Писнов вышел. Вслед за ним ушёл и Семёнов, пообещав прислать красноармейца с матрасом и постельными принадлежностями.
С заимки Алёшкин выехал налегке, он предполагал в этот же день вернуться домой, так как не думал, что его вызывают надолго. Уж конечно, менее всего он предполагал, что вот так сразу превратится в командира Красной армии. Происшедшее так его ошеломило, что он не нашёл в себе сил, да, пожалуй, и желания возражать на предложение Плещеева, тем более что понимал, что отказ его может быть истолкован как угодно, а это могло грозить и неприятностями.
Потом, если говорить откровенно, ему даже польстило это предложение. Как человеку, легко увлекающемуся, ему уже представлялся интересным и характер, и масштаб работы, которая ему предстояла.
Продолжая размышлять таким образом, он ещё раз обошёл своё новое жилище, чтобы осмотреть мебель, находившуюся в квартире. Meбель эта была самой разнокалиберной, очевидно, в большинстве своём просто позаимствованной из чьих-либо опустевших офицерских квартир. В дальней комнатке стояли две солдатские кровати, между ними тумбочка, там же каким-то чудом втиснулся небольшой платяной шкаф, зато свободное пространство комнаты едва позволило бы разойтись двум людям. В первой комнате стоял небольшой обеденный стол, несколько разного фасона стульев, маленький продавленный диван и буфет с оторванной верхней дверцей. В кухне, кроме маленького стола, на котором лежал ключ, имелось две табуретки и большая широкая лавка. У одной из стен кухни находилась плита, от которой отходила стенка, служившая для обогревания комнат. Других печек не было, но это не беспокоило Алёшкина: он уже знал, что в Приморье климат мягкий и зимы несуровые. Ведь даже и сейчас, несмотря на то, что кончался декабрь месяц и кое-где лежал неглубокий снежок, под окнами квартиры стояли ещё не совсем замерзшие хризантемы.
Обойдя ещё раз квартиру, Яков развязал узел с бельём и своей гражданской одеждой и, пожалуй, только сейчас почувствовал, как он проголодался и устал от всех событий сегодняшнего дня и довольно нелёгкой дороги.
Как раз в этот момент в дверь постучали. Получив разрешение, вошли два красноармейца; один из них нёс большой узел с постелью, а другой – котелок, наполненной какой-то горячей едой, от которой шёл вкусный запах, большой жестяной чайник, эмалированную кружку, буханку хлеба и кулёк с сахаром. Положив постель на одну из кроватей и поставив еду на стол, красноармейцы попросили разрешения уйти, предварительно поинтересовавшись, не нужно ли будет чего-нибудь ещё командиру.
Отпустив их, принявшись за еду, Алёшкин подумал, что за это время советская власть сумела хорошо организовать свою Красную армию, если простые солдаты (слово «красноармеец» для него ещё было непривычным) так дисциплинированны и обучены. А это он успел заметить намётанным глазом строевика и по разговору, и по ухваткам, и по тому, как оба красноармейца, получив разрешение выйти, чётко повернулись кругом и одновременно шагнули к двери.
В последние годы войны дисциплина в царской армии упала, особенно на фронте, и такие строевые действия были бы удивительны.
С большим аппетитом поев вкусного густого борща с большим куском мяса, напившись крепкого чая с мягким, ещё тёплым пшеничным хлебом, Яков постелил принесённую постель и, лежа на ней, задумался о своей судьбе: «Какая неожиданная и внезапная перемена в жизни опять происходит! Как это понять, что это – счастье улыбнулось или новое испытание, новый удар судьбы? Только что я был старшим рабочим, может быть, более квалифицированным и более доверенным батраком на заимке своего двоюродного брата. Перед этим ещё хуже – грузчиком, кули, тем, кого в Харбине и за человека-то не считали. И вдруг я опять становлюсь офицером, хоть и красным, но всё-таки офицером, командиром, которому будут подчинены десятки, а может быть, и сотни людей. Должность начальника штаба уездного военного комиссариата – немаленькая должность, моя работа будет заметна в уезде и даже в губернии. Да, скачок… Хотя, может быть, я ещё и рано размечтался, – прервал свои размышления Алёшкин, – ведь меня ещё могут и не утвердить. Кто такой Уборевич? Как он ко мне, бывшему офицеру, отнесётся? Ведь это надо же такому быть: ни одного дня не служил в войсках Колчака, а пятно «колчаковский офицер» так теперь на всю жизнь и останется! Подложил свинью мне Васильев, уж, пожалуй, лучше бы меня под Самару послали, а впрочем, кто его знает, что было бы лучше…».
Утром, умывшись около колодца, стоявшего во дворе, холодной, чуть солоноватой водой и выпив кружку чая, разогретого на плите, Яков Матвеевич пришил полученные кубики на рукава гимнастёрки и шинели, почистил сапоги и отправился в военкомат. Увидев одетого в новую форму Алёшкина в снаряжении и с кобурой у пояса, военком воскликнул:
– Ну вот, это другое дело! Теперь на настоящего командира похож! Поезд во Владивосток идёт через час, пойдёмте на станцию.
Они вышли из казармы, и Яков невольно взглянул вперед. Перед ними открывался чудесный вид. Как мы уже говорили, казарма, в которой помещался военкомат, располагалась почти на самом верху сопки. Справа и сзади казармы сопка была покрыта мелким кустарником, между которым по склонам её концентрическими кругами располагались разнообразные по величине казармы, многие из них стояли с разбитыми окнами и выломанными дверями, многие были построены лишь наполовину, кое-где высился только фундамент. Это разнообразие вносило какую-то странную красоту. Почти все обозреваемые казармы пустовали так же, как окружавшие их площадки.
Если смотреть вниз, виднелись огороды, крыши домов села Шкотово и группы деревьев. Прямо внизу вилась линия железной дороги, пересекавшая широкую долину, возвышались красные железные крыши станции, а за нею и за башней водокачки, вдали – ряд маленьких глинобитных низких корейских домов – фанз. Ещё дальше – спокойные, покрытые у самого берега льдом, воды бухты Шкотта, переходящей в открытое море и где-то далеко-далеко на горизонте сливающейся с небом. Бухту окружали невысокие сопки, она образовывала мыски, мелкие заливчики.
Всё это, освещённое бледными лучами декабрьского солнца, находившегося в этот сравнительно ранний час ещё где-то за сопками справа, представляло красивую картину. Залюбовавшись этим видом, Яков Матвеевич подумал: «Как всё-таки прекрасен мир, такой замечательный вид! Какое чудесное утро! Наверно, всё это сулит мне только хорошее».
Военком, заметив, что его спутник любуется открывшимся видом, сказал:
– Да, брат, здесь красиво, хотя и небезопасно. Недаром царские министры собирались здесь такой мощный гарнизон держать. В этой бухте чёрт знает сколько можно сразу народу высадить. Попробуй-ка удержи их! А царские инженеры, кроме вот этих казарм, ничего построить так и не успели. Если бы на каждой из этих сопок по хорошей батарее разместить, вот тогда бы настоящая крепость получилась. Пока же нас голыми руками взять можно. Так что настоящая оборона – это дело далёкого будущего. Нам же с тобой, товарищ Алёшкин, дано около трёх десятков красноармейцев, да у чекистов столько же, а тут в сопках столько всякой нечисти, может быть, попряталось – раз в десять больше, да и хунхузы начинают появляться, так что нам этой красотой любоваться не придётся.