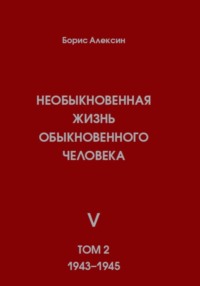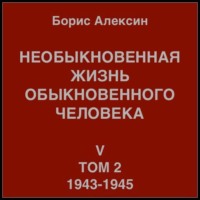полная версия
полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2
Как видите, Дмитрий Болеславович Пигута плохо знал свою жену, если предполагал, что она будет способна на Боре вымещать свою неприязнь к его матери и сестре. Если мы, пользуясь нашим правом – правом автора, правильно прочитали её мысли, а нам думается, что это именно так и есть, она ни на одну минуту даже не задумалась над тем, чтобы хоть как-то отразить свою ненависть к Марии Александровне Пигуте, к Елене Болеславовне и его матери на Боре. Хотя, по совести говоря, эти женщины причинили ей немало горя.
Забегая вперед, пользуясь тем же правом автора, следует сказать, что хотя Боре за время его жизни в семье дяди пришлось многому научиться и основательно поработать, его «злая тётка» никогда не попрекала его ни бабушкой, ни его матерью, хотя и отзывалась о них не очень лестно.
Так в эту ночь снова решалась судьба этого, по существу ещё совсем юного, человека; в ней происходил новый поворот. И странно то, что решали её два самых близких ему человека, причём далеко не в соответствии с теми предположениями, которые высказывались темниковскими Бориными знакомыми и воспитателями. Все они, пользуясь такими «достоверными» источниками, как Елена Болеславовна, считали, что если Анна Николаевна и не выгонит Бориса немедленно, то уж, конечно, потребует от мужа, чтобы он его как можно скорее куда-нибудь спровадил; и что Дмитрий Болеславович будет этому сопротивляться и настаивать на том, чтобы оставить мальчика у себя. Как видим, всё происходило наоборот.
Анна Николаевна вернулась с дежурства рано утром, когда дети ещё спали: Костя в спальне, а Боря в своём уголке за этажеркой.
Дмитрий Болеславович уже встал и, нервничая в ожидании тяжёлого и неприятного разговора, ходил крупными шагами по столовой, то и дело беспокойно поглядывая на кухонную дверь, из которой вот-вот должна была появиться его жена. И лишь только Анна Николаевна переступила порог столовой, Дмитрий Болеславович бросился к ней со словами:
– Поверь, Нюта, я об этом ничего не знал! Это всё случилось для меня совершенно неожиданно. Стасевичи мне давно ничего не писали, и я думал, что Боря так и будет жить у них, пока не отыщется его отец. Но раз уж так случилось, то я его определю в приют, детдом. Я сам был позавчера в одном из них – имени Клары Цеткин, он недалеко от нас, в доме Фокиных, вполне благоустроен. Я сегодня же выясню порядок оформления и не позже, чем завтра, отвезу Бориса туда, если, конечно, оформление не займёт больше времени, – говорил он торопливо и сбивчиво, стараясь заглянуть в глаза жене и ожидая обычного гневного окрика, который последнее время почти всегда сопутствовал их неприятным разговорам.
Анна Николаевна, снимая на ходу косынку и фартук сестры милосердия, прошла в свою спальню, не отвечая мужу ни слова.
– Понимаешь, Анюта, ведь нельзя же его сейчас выгнать на улицу! – взволнованно продолжал Дмитрий Болеславович.
– А кто тебе говорит об этом? – спокойно спросила Анна Николаевна, – делай, как хочешь, а сейчас не мешай мне раздеваться. Я хочу спать, я очень устала после дежурства. Да своими разговорами мы и ребят раньше времени поднимем… – нарочито равнодушно заметила Анна Николаевна, подумав при этом: «Что же, пусть Митя хлопочет о приюте. Если мальчик окажется не таким, каким он показался мне в первый день, мы его туда отдадим. Главное, что инициатива о приюте для Митиного племянника исходит не от меня». Вслух же она сказала:
– Хорошо, Дмитрий. Повторяю, делай так, как считаешь лучшим, а пока пусть Борис поживёт у нас, – после чего укрылась с головой одеялом, всем своим видом показывая, что ни слушать, ни отвечать она больше не намерена.
Между прочим, Боря с приходом Анны Николаевны проснулся и лежал, не шелохнувшись, и почти весь разговор между дядей и тёткой слышал. И хотя и удивлялся, что в приют его собирается отдавать дядя Митя, а не Анна Николаевна, но понял, что если это и случится, то не сегодня и не завтра.
«Ну а там – что Бог даст, – подумал он, – может быть, я и сам с радостью побегу от них куда угодно». С этими мыслями он поднялся со своей довольно-таки уютной постели, закрыл её одеялом и начал одеваться. Как раз в этот момент в кабинет вошёл Дмитрий Болеславович. Увидев одевающегося мальчика, подошёл к нему, поцеловал его в голову и, слегка прижав к себе, шёпотом сказал:
– Ты, пожалуйста, потише, а то тётя только что пришла с работы и легла отдохнуть. Если хочешь, пойдём со мной на двор, мне надо на сегодня дров наколоть, да и в огороде кое-что сделать. Настя погнала коз в стадо, вернётся, приготовит завтрак, а там и Костя проснётся.
Боря вышел на кухню, на ходу ополоснул лицо и руки из кухонного умывальника и быстро выбежал во двор. Там дядя Митя натаскал из сарая довольно большую кучу дров и начал их колоть.
Увидав выбежавшего мальчика, Дмитрий Болеславович прекратил работу и стал расспрашивать Борю, как он был встречен Анной Николаевной, как ему понравился Костя, как вообще ему понравился их дом. Затем он попросил Борю рассказать про его жизнь у Стасевичей, про их отношение к нему, про тётю Лёлю, про её жизнь и жизнь Жени. И был немало удивлён и смущён тем, что про них мальчик почти ничего рассказать не может. Тот с откровенностью, свойственной его возрасту, рассказал только, что за всё время, что он прожил у Стасевичей, относившихся к нему, как к родному, его родная тётя ни разу не пригласила его к себе; хотя и редко, но бывая у Стасевичей, ни разу не захотела его увидеть. А Боря продолжал:
– Я не знаю, почему меня в Темникове все так пугали Анной Николаевной, тётя Лёля хоть сама меня проводить и не пришла, говорила и Стасевичам, и Армашам, что, мол, твоя жена, как только меня увидит, так немедленно выгонит на улицу. Она даже советовала Стасевичам не посылать меня сюда, а лучше отдать в Саровский монастырь, где вновь открылся детдом. А мне здесь понравилось, и Костя – хороший мальчик, и Анна Николаевна нисколечко на меня не ругалась. Давай-ка я дров наколю, а ты иди в огород, делай что тебе надо…
– А ты умеешь?
Боря усмехнулся:
– Конечно, ведь у Стасевичей только мы с Юрой и кололи дрова, – по возможности солиднее ответил он, беря из рук Дмитрия Болеславовича колун и устанавливая полено.
А тот несколько минут смотрел, как ловко его племянник расправляется даже с сучковатыми поленьями, улыбнулся и, убедившись, что это дело для мальчика хорошо знакомо, направился в огород.
Боря прямо с увлечением колол толстые сухие берёзовые чурки, которые, кажется, от одного прикосновения колуна разлетались на ровные тонкие поленья. Было прохладно, воздух чист и прозрачен, как это часто бывает ранней осенью. На душе у Бори стало спокойно, и он работал с удовольствием.
Минут через двадцать во двор вернулась Настя, успевшая не только отогнать в стадо Машку и Зинку, так звали коз, но и сообщить всем соседям о появлении в их доме племянника Дмитрия Болеславовича и обсудить с ними дальнейшую судьбу его. Большинством она определялась как самая несчастная и трудная: все считали, что в самые ближайшие дни мальчика отдадут в приют. Ну а там уже – известно какая жизнь!
К этому времени Борис успел переколоть все вынесенные дядей дрова и начал складывать их возле сарая в аккуратную поленницу.
– Ой, да сколько же ты дров-то успел наколоть! Мне теперь на целую неделю хватит: в комнатах ещё не топим, только для кухни надо, – говорила Настя, помогая собирать дрова.
– Ладно, я сам соберу и уложу, иди завтрак готовь. Дядя Митя на работу скоро пойдёт, – произнёс Боря, стараясь своим немного начальственным тоном скрыть удовольствие от Настиного изумления.

Настя поднялась по лестнице на второй этаж и вскоре с открытой веранды, предшествующей входу в кухню, раздался звонкий голос Кости:
– Папа, Боря, идите завтракать.
Услышав крик сына из-за сарая, где размещался его небольшой огородик, вышел и Дмитрий Болеславович. К этому времени Борис закончил укладку поленницы, и они вместе стали подниматься наверх.
Мы не знаем, о чём думал порядком-таки уставший мальчик, но судя по удовлетворённому взгляду его дяди, которым он окинул Борину работу, и его довольному покрякиванию, когда он ступал со ступеньки на ступеньку, можно было понять, что он доволен и горд племянником.
По всей вероятности, он думал: «Эх, хорошо было бы, если бы Анюта согласилась оставить Борю насовсем, мне бы намного легче было. Больно уж у меня мало времени для домашних дел. Да и для Кости был бы хороший пример…»
Вскоре дядя Митя, Костя и Боря сидели за столом и ели пшённую кашу с постным маслом. Затем Костя пил своё молоко, а остальные – морковный чай с сахарином. Хлеба опять досталось очень мало. Завтракали в кухне, чтобы не беспокоить Анну Николаевну. Но к концу завтрака она вышла в кухню. Заметив ее, Боря поднялся со своего места, чтобы уступить его ей. Видимо, это ей понравилось. Но она усадила его опять, пододвинула к столу свободную табуретку и, примостившись рядом с Костей, попросила Настю налить ей чаю. От каши отказалась, сославшись на то, что перед сдачей дежурства позавтракала в госпитале, не ела она и хлеба.
Дмитрий Болеславович похвастался Бориными успехами в колке дров. На что Анна Николаевна совершенно неожиданно и для него, и в особенности для Бори, сказала:
– Это, конечно, очень хорошо. Я и сама видела, как он ловко с этим делом управляется. Но ты же не собираешься из него дровосека сделать. Пока ты там всякие хлопоты будешь вести (какие – она не сказала, но её муж, да и Боря, невольный свидетель их утреннего разговора, догадался, о чём идёт речь), мальчик не может не учиться. В школе уже несколько дней как начались занятия, нужно и его определить в какую-нибудь школу. Подумай-ка, Дмитрий, об этом.
Она рассказала Дмитрию Болеславовичу о справке, показанной ей вчера Борей, и заметила, что раз у него были такие хорошие успехи, то, несмотря на опоздание, его, наверно, удастся устроить в школу без труда.
Дядя Митя, удивившись предложению жены, обрадовался, но не сказал по этому поводу ни слова, а лишь уходя из дома, попросил Борю отдать ему привезённую справку из школы.
В этот день выяснились две вещи. Во-первых, то, что в детский дом имени Клары Цеткин принимали только детей погибших красноармейцев, не имевших никаких родственников. Поэтому формального права на приём племянника врача Пигуты у заведующего детдомом не было, и для решения вопроса следовало получить специальное постановление уездного исполкома. Заведующий не сомневался, что такое разрешение работнику исполкома будет дано, однако до его получения принять Борю не согласился. Прежде чем подавать соответствующее заявление председателю исполкома, Дмитрий Болеславович решил посоветоваться с женой.
Во-вторых, оказалось, что все школы 2-ой ступени, расположенные поблизости от дома Пигуты, были переполнены, занятия в них уже шли более двух недель, и ни один из заведующих принять нового ученика, да ещё прибывшего из какого-то малоизвестного города, не соглашался.
Если первое известие Борю обрадовало: его отправка в детдом пока откладывалась, то второе огорчило. Учиться он любил, и пропускать учебный год очень не хотелось. В этот же день, сообщая о своём благополучном приезде к дяде, он написал Стасевичам о неудаче с поступлением в школу. Следствием этого явилось письмо Янины Владимировны, которое мы и приводим:
«Уважаемый Дмитрий Болеславович! Сегодня из письма Бориса узнала, что будто бы он не попал в школу. Меня это очень встревожило и огорчило, так как очень больно, если такой развитой и одарённый мальчик, как Боря, потеряет время. Посылаю Вам ещё свидетельство из школы, в которой он учился, может быть, оно поможет, и его примут сверх комплекта.
Нам очень недостаёт Бори, его живости и жизнерадостности; Юра очень уж серьёзен. Жду с большим нетерпением письма от Вас; как Вы его нашли, что он у Вас делает, как себя ведёт. Так долго нет писем от Вас. Мы живём по-старому, понемногу ликвидируем хозяйство. Сестра уже в Польше, и надеюсь, что скоро и мы будем там. М. М. сама Вам собирается писать; Е. Б. давно не видела, но тоже, кажется, перемен нет. Пока всего хорошего, привет Вам и Анне Николаевне.
Уважающая Вас Я. Стасевич, 19 4/Х–21 г.»
Когда это письмо пришло в Кинешму, в положении Бори произошли значительные перемены. Во-первых, Костя так к нему привязался, что без него не хотел оставаться ни на одну минуту, а так как в этом доме многое подчинялось Костиным желаниям и капризам, то Боря превратился в настоящую няньку. И надо отдать ему справедливость – с этой обязанностью он справлялся умело. Мало того, он притом умудрялся выполнять много чёрной домашней работы, а Костя терпеливо сидел рядом, смотрел, как брат работает, и даже пытался помогать ему, лишь бы потом Боря с ним поиграл или почитал ему.
Нечего и говорить, что это привлекло к мальчику симпатии всех членов семьи Пигуты и что, пожалуй, было самым важным, прежде всего, симпатии Анны Николаевны.
Видя, что в лице Бориса она приобрела не только нового нахлебника, но толкового и расторопного помощника, в некоторых делах просто незаменимого, она, как только Дмитрий Болеславович попытался возобновить разговор о детдоме, гневно сказала:
– Ты совсем ничего не соображаешь, Дмитрий! Борис живёт у нас больше двух недель, все знакомые это уже знают. Многие видели его, он всем понравился, Костя от него без ума, и вдруг мы его отдадим в приют! Что о нас скажут? Ты об этом подумал? Нет уж, пусть пока живёт у нас, а там видно будет… Может быть, ещё и отец его отыщется.
В глубине души Дмитрий Болеславович сам думал также и был рад такому категорическому заявлению жены. Больше разговоры о помещении племянника в детдом в семье Пигуты не возобновлялись.
Во-вторых, Анна Николаевна через своих знакомых Степановых узнала, что Бориса можно устроить во вновь открывающуюся школу 2-ой ступени в здании бывшего реального училища. Во время войны в нём находился лазарет, теперь здание освободилось и было передано Наробразу. Однако для поступления в любой класс этой экспериментальной школы требовалось сдать вступительные экзамены, причём в основу их закладывались требования, предъявлявшиеся ранее к ученикам соответствующего класса гимназии, конечно, по тем предметам, которые оставались в программе советской школы.
Алёшкин был переведён во второй класс школы 2-ой ступени и, следовательно, по расчётам, должен был показать знания такие же, как гимназист, окончивший четыре класса гимназии. Привезённая им справка и свидетельство, присланное Стасевич, говорили о его хорошей успеваемости, но экзамен он должен был сдавать всё равно. И дядя Митя, и Анна Николаевна беспокоились об этом. И ещё больше – о том, что мальчик совсем к экзаменам не готовился. Анна Николаевна даже пыталась воздействовать на Костю, чтобы он дал возможность брату позаниматься, но из этого ничего не вышло. Тем более что сам-то Боря отнёсся к предстоящим экзаменам без каких-либо переживаний и почему-то был совершенно уверен в успехе.
То короткое время, которое оставалось до их начала, он продолжал проводить в играх с Костей и выполнении домашних работ.
Между прочим, получилось так, как он думал. Он не только сдал экзамены по всем предметам, но сдал их блестяще, получив одинаковые оценки – «весьма хорошо». Он не посрамил темниковскую гимназию, как и предсказывал её директор Чикунский. И надо сказать, что его успех был не только следствием его довольно-таки незаурядных способностей, но и тем, что в той школе, где он учился последний год, учителя требовали от учеников серьёзной работы и знаний, а почти все поступавшие вместе с Борисом ученики имели подготовку хуже и слабее.
Успешная сдача экзаменов и похвальные отзывы педагогов (с некоторыми из них Анна Николаевна была знакома) ещё более подняли авторитет Бориса в семье Пигуты.
Единственным затруднением, которое предстояло Борису преодолеть, оказалось расстояние. Здание бывшего реального училища находилось на противоположном конце города, и дорога отнимала более получаса, что по кинешемским масштабам считалось много.
Глава четвёртая
Занятия в экспериментальной школе начались первого октября. К этому времени Борис сумел себя так зарекомендовать, что Анна Николаевна, относившаяся первые дни к нему настороженно, убедилась в его умении и желании быстро и толково выполнять всю домашнюю работу, охотно осваивать всё то, что он раньше делать не умел, была им покорена. То же можно сказать и про дядю Митю, с которого спала почти вся тяжесть домашних мужских работ и который в свободное от службы время мог отдавать значительно больше его своему любимому делу – опытам в огороде. Была довольна и Настя – с неё снялась не только такая ненавистная ей работа, как чистка козьего хлева, но почти совершенно отпала необходимость нянчиться с Костей. Ну а последний как с первого дня стал самым ярым поклонником брата, так им и остался до конца пребывания Бориса в этом доме.
Когда начались занятия в школе, Борис убегал из дома в восемь часов, а возвращался в два, а иногда и в три часа. Всё это время Костя только и делал, что ждал своего старшего брата. Больше того, во время приготовления Борей уроков Костя находил в себе достаточно терпения, чтобы, устроившись на полу рядом с письменным столом дяди Мити, за которым обычно занимался брат, ждать, пока тот их закончит.
Вообще, как заметили все в семье, а Настя, не стесняясь, говорила об этом всем соседям, с приездом Бориса Костя преобразился. И хотя капризов у него ещё хватало, особенно в отсутствие брата, сравнивать его поведение с тем, что было до этого, невозможно.
Вскоре произошло событие, ещё более склонившее симпатии Анны Николаевны к племяннику.
Настя болела хронической малярией, а так как в то время единственное лекарство от этой болезни (хинин) практически отсутствовало, а других ещё не изобрели, то всё лечение больной заключалось в том, что она забиралась под громадный тулуп, доставшийся Дмитрию Болеславовичу от отца и служивший ему во всех его зимних путешествиях по уезду, укладывалась на кровать, укрывалась сверху ещё кучей тёплых вещей и, трясясь и клацая зубами под этим ворохом одежды, дожидалась окончания приступа. После него она была так слаба, что в течение суток, а то и двух, ничего делать не могла. Приступы малярии у Насти были не очень частыми и вопреки всем учебникам и теоретическим утверждениям не имели регулярности, а обычно являлись следствием нарушения режима, допущенного девушкой. Особый цикл течения болезни можно было объяснить и бессистемным лечением: Анне Николаевне время от времени удавалось достать несколько порошков хинина, она давала его больной во время приступа, а затем какое-то время Настя находилась без всякого лечения.
После сдачи экзаменов, закончившихся 26 сентября, до начала занятий у Бориса осталось несколько свободных дней, и как раз в это время у Насти произошёл очередной, и притом очень сильный, приступ малярии, после которого она пластом лежала в постели. Кто-то должен был испечь хлеб (в семье Пигуты, как, впрочем, почти во всех других, хлеб тогда пекли сами, получая или покупая муку), кроме того, нужно было приготовить и второе блюдо. Анне Николаевне предстояло дневное дежурство в госпитале, и она просто не знала, как выйти из создавшегося положения, тем более что её сослуживицы, тоже медицинской сестры, обычно её выручавшей, не было в городе. Хозяйке ничего не оставалось, как поручить выполнение этой работы Борису.
К её изумлению, он не только без всяких расспросов согласился всё это исполнить, но сделал, как она потом говорила, наилучшим образом.
Дело в том, что, ещё живя у Стасевичей в лесничестве, Борис не один раз видел, как Арина ставит, а затем месит, разделывает и выпекает хлебы, и даже иногда из любопытства помогал ей в этом деле. Теперь это ему пригодилось: он не только хорошо испёк два обыкновенных каравая, но, отделив немного теста, испёк и два небольших пирога с картошкой и капустой, которые вызвали восторг Кости, да и остальным пришлись по вкусу. Сумел он приготовить и мелекес, это блюдо в то время у многих жителей Кинешмы являлось основным. Боря уже успел присмотреться к нему и, воспользовавшись подсказками больной Насти, приготовил и его.
Дежурство Анны Николаевны заканчивалось в шесть часов вечера, и когда, вернувшись домой, она нашла всех сытыми, на столе под полотенцем – два пышных каравая хлеба, а рядом большие куски пирогов, а в духовке – кастрюлю с мелекесом, она поразилась. До сих пор ей представлялось, что мальчишки Бориного возраста если и могут выполнять какую-нибудь полезную работу, то только во дворе, на огороде, да и то под наблюдением взрослых. Ей не верилось, чтобы Боря мог сделать всё это самостоятельно, и потребовалось настоятельное подтверждение Насти, чтобы убедить её, что всё, что она видела, Боря действительно сделал сам. Она хотя и скупо, но похвалила его, а вечером заметила мужу:
– А твой племянник пошёл, видно, не в твою родню. Или его отлично вышколили Стасевичи, или он унаследовал трудолюбие и сноровистость от отца. Я не ожидала от него такой прыти.
А Боре, если говорить откровенно, помогли не только его прирожденные способности к кулинарии, но и горячее стремление как можно быстрее и надёжнее завоевать расположение тётки. Хотя, кстати сказать, до сих пор он по отношению к себе от неё никаких строгостей и не испытывал. Ну а то, что здесь с него, как и у Стасевичей, спрашивали определённую работу, его не удивляло. За последние годы своей жизни он уже успел хорошо усвоить, что он должен работать: даром его никто кормить не обязан и не будет.
Вообще-то говоря, жизнь у дяди Мити ему всё больше и больше начинала нравиться. Ему приходилось много работать, много возиться с Костей, но всё-таки его положение не могло идти ни в какое сравнение с тем, каким оно было у Стасевичей.
Как-то так получилось, что с первых же дней пребывания здесь он почувствовал себя у своих – родных, в то время как у Стасевичей, особенно в последнее время, когда он уже стал постарше, стал понимать, что все окружающие его – Арина, рабочие и служащие конторы лесничества, знакомые ребята и даже такие друзья, как Ромашкович и Армаш, понимают, что Стасевичи держат его из милости, и если ни Иосиф Альфонсович, ни, тем более, Янина Владимировна никогда ни одним словом или намёком не давали ему этого понять, то Юра при ссорах (а они ведь у мальчишек случаются нередко) иногда ему это говорил.
Ну и, во-вторых, конечно, работа. У Стасевичей Юра и Боря, по существу, заменяя уж если не двух, то, во всяком случае, полутора взрослых рабочих, и то умудрялись выкроить свободное время для развлечений, то здесь, в особенности, когда Настя была здорова, свободного времени у него было больше. Во всяком случае, вполне достаточно для того, чтобы завязать знакомство с соседскими ребятами и принимать участие в их мальчишеских развлечениях.
Его первыми знакомыми, впоследствии друзьями, стали дети священника Афанасьева, жившего в соседнем доме. Эти ребята, Андрей и Евсей, старший из которых был ровесником Бориса, учились в школе 2-ой ступени, отстоящей на несколько улиц от их дома. Вечерами они играли около своего двора в чижика, а когда присоединялись ребята и из других домов, то и в лапту. Костя сидел на крыльце своего дома и следил за игрой, он понимал, что сам участие в этих играх принять не может, и только восторженно кричал, видя успехи брата, когда тот выигрывал.
2-ая Напольная улица находилась на самой окраине города, после дома Афанасьевых стояло ещё три, а затем начиналась дорога, ведущая в темневший большой лес. От дома, где жили Пигуты, до леса было не более двух километров. Одной из первых прогулок, которые Алёшкин совершил по окрестностям Кинешмы, явилось путешествие в этот лес.
Произошло оно через несколько дней после экзаменов, в одно из последних воскресений сентября. В этот день все собрались дома, и просьба Бори о разрешении пойти с Афанасьевыми в лес по грибы особых возражений не встретила, хотя Анна Николаевна и заметила:
– Ну, какие сейчас грибы… Впрочем, Борис, может, ты рябины найдёшь, это было бы хорошо, из неё кисель сварить можно.
Мальчик заверил тётку, что без рябины не вернётся, пообещав также, что грибов тоже принесёт. Настя снабдила его большой корзиной, куском хлеба и малосольным огурцом. Афанасьевы ждали его за воротами, а так как он пообещал Косте принести ему из леса что-нибудь особенное, то и тот отпустил его.
Вскоре трое мальчишек весело бежали по мягкой пыльной дороге, поднимая босыми ногами тучи пыли и махая корзинками так, что лежавшие в них завтраки очень часто оказывались на земле, однако это никого не смущало, а вызывало взрывы весёлого хохота. Как все ребята, они не могли довольствоваться ходьбой по дороге, то и дело сворачивали с неё, чтобы осмотреть какой-нибудь пенёк или кустик, сломать палку или просто попрыгать по начавшей желтеть осенней траве.