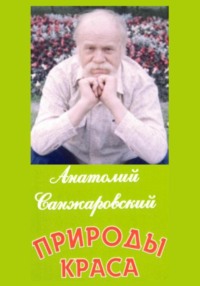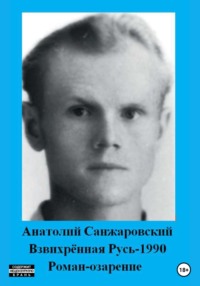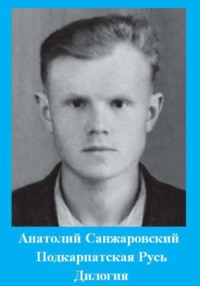полная версия
полная версияДожди над Россией
– Хотя бы это: «На тебе, Глебонька, кренделёк. На, Антошенька, два. С праздничком!»
Нечаянная обида подпекла её.
– И-и!.. Нашёл чем по глазах стебать, – глухо проговорила она. – Из чего тулить твои крендельки-орешки? Пшеничной муки нэма и знаку…
– Ма, да не оправдывайтесь Вы перед этим гориголовкой, – сказал Глеб и выставил мне из-под мышки кулак.
Светлеет мама лицом.
– Спасибо заступничку. На́ тоби твою гарну ложечку…
Глеб важно принял свою ложку, вмельк пробежался глазами по стеблю. Ещё зимой он сам нацарапал на стебле гвоздком: «Найди мясо!»
– Будем искать вместе, – улыбнулся Глеб ложке. – Быстрей найдём.
– Не, Глеба, похоже, не найдёте и вдвох… – Мама основательно роется в кошёлке, конфузливо кривится: – Э-э!.. Стара шкабердюга… Я, хлопцы, мыску забула!
– Значит, так надо, – деловито рубнул Глеб. – Ложечке даём отгул по случаю Первомая. – Он кольнул меня в бок локтем. – Делюсь по-братски. Тебе вершки или корешки?
– Вершки.
Глеб постно протягивает мне затычку от бутылки.
Мотает над собой бутылкой.
– У неё головка не закружится? – переживаю я за бутылку.
Глеб не опускается до ответа мне, смотрит бутылку на солнце.
– Ну и супище!.. Госпожа Перловка… Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. Вижу, гордое мясо в забеге не участвует. Зато луку-у…
– Ну а як же? – спохватывается мама. – Лук пользительный. Одна титка по радиву казала, шо лук по митаминам бежит на первом месте, а потом капуста. На лук мы богатюки… По всяк лето его что грязи. Хоть луковым плетнём огородись!
Глеб развалил кукурузный чурек натрое.
Мама отмахнулась от своей доли.
– Иди ты! Я дома поела… Не ждить, ешьте плотно. Глаза шоб не западали.
– Без Вас мы не начнём, – уважительно поглаживает Глеб бутылку. – Мы не видали, как Вы ели.
– Да. Не видали, – подтянул я Глебову сторону.
Через силу мама взяла свой кусок, и бутылка забегала по кругу.
Рад Глеб, что чурек велик; рад и чурек, что у Глеба рот велик. Эвва, ка-ак он жестоко кусает! Голодный и от камня откусит, не окажись чурека.
В мгновение все остались без дела. Никто не заметил, куда подевались суп и чурек. Только разбежались – стоп!
– Что ещё? – буркнул Глеб с жёстким спокойствием палача – отрубил одному голову, на всякий случай интересуется: кому ещё?
– А супик ничего, – доложил я маме.
– Всё ж не суха вода, – уточнила она.
Я взял бутылку, в которой только что был суп, прижал к груди и, ласково наглаживая её, запел:
– Супчик жиденький,Но питательный…Я наставил палец на Глеба и влюблённо продолжал гудеть:
– Будешь худенький,Но пузатенький.– Эта горя нам не грозит! – постучал он себя по впалому животу. – Ма, вторая серия будет?
– Будэ, будэ, – покивала мама.
На синий стол выскочила кастрюля с мамалыгой и с молоком.
Глеб отпустил ремень на одну дырочку:
– Зарадовалась душа, что видит кашу, разгоню нашу. Такой кашенции ни один король не ел!
– Шо ж то за король, раз ему и мамалыги не дають?.. – загоревала мама. – А Митька, гляди, зараз на демонстрации… Хай сыночку лэгэ-эсенько икнэться…
– Хай! – подкрякнул Глеб дуря.
Я тоже ничего не имел против:
– Хай!
Глеб заведённо утаскивал из кастрюли ложку за ложкой с горой. Я ловчил не отстать.
Вдруг Глеб присвистнул.
– И что то за мода свистеть за столом? – выговорила мама.
– Как не свистеть? – проворчал Глеб. – В каше что-то чёрное. Изюм?.. Муха?.. – Выловил мизинцем. Муха! Торжественно показал всем. Хотел обсосать, но великодушно раздумал и уже сожалеюще метнул за плечо: – Лети, бабаська. Загорай!
– Разбрасываешься мясом! – попрекнул я. – Не пробросаться бы… Бабу с колбасой выкинул!
– Дела! – опечалилась мама. – Совсем закухарилась Полька… Оно… – В её зрачках дрогнула живинка. – То наша печка так варит. Муха… Всего одна муха… Много ль она одна съела? Хлопцы! На первый раз да низзя простить?
– Можно, – в одно гаркнули мы с Глебом. – В наших желудках и долото сгниёт!
– А тут всей-то беды муха! – улыбнулась мама. – Хорошая стряпуха и две запечёт в пирог!
– Выходит, Вы просто плохая стряпуха? – подловил на слове Глеб.
– Какая уж е. Не то шо покойница мама казала: наша стряпня рукава стряхня, а кабы басни хлебать, все бы сыты были!
Вокруг млела разваренная тишина.
Чудилось, солнце выжгло всё живое, оставило одно марево. В дрожи оно густеет, подымается выше. Такое чувство, что накатывается вечер среди дня. Зной не обжигает – давит огнём. Телом почти слышишь тяжесть раскалённых лучей. Передёргивает озноб. Не продохнуть… И ни ветринки… Хоть бы листик шевельнулся над нами на ольхе в плетне.
Ладили мы эту городушку рано весной. Добрые колья рубили в Ерёмином лесу у самого водопада. Набирали по вязанке, сразу тащили, ставили колышки. Пока всадишь, умаслишь тот колышек по локоть в землю, ведро воды ему под ногу в лунку вбухай.
Жизнь в лесинах ещё билась.
Все колья принялись, выкинули листья. Городьба наша ожила. Подмога какая! То колья через два-три года прели, падали. Меняй. А тут – растут! Только и хлопот о хворосте.
Через край Глеб плеснул себе в рот остатки молока, торжественно поставил на фартук кастрюлю вверх дном. Обедня вся!
– Спасибо, чого щэ? – Мама заискала глазами свою тоху.
– На речку бы… На Супсу… – Глеб жмурится на меня, как кот на сливки.
– Иди ты! – Мама обеими руками махнула на него. – Время какое!
– Хорошее. Самая пора искупаться, – держу я Глебов интерес. – А дело не волк, в лес не убежит.
– Нет, не убежит, – авторитетно заверил Глеб.
– Так чего тогда в такое пекло выпрыгивать из кожи? – дёргает меня свербёж за язык. – Чего пот в три ручья проливать?
– Весной не вспотеешь, зимой не согреешься… – сухо, чужевато мама подняла свою тоху.
Обиделась, как есть обиделась.
Мы с Глебом бросили ломать речную комедию. Затеяли ж так. Со скуки. Нам ли разжёвывать, что весна днём красна?
Не к месту откуда-то из недр извилин в насмешку выползла непрошеная думка про то, что за жизнь человек умолачивает шесть-де-сят тонн еды. Ну и пускай мнёт, ты-то тут при чём?.. Да при всём при том, что и ты вроде человек? Твои шестьдесят разве дядя тебе поднесёт, не потопай ты сам? Может, у тебя дырка в горле ýже? Или вовсе залатана? Вряд ли. Всё летит, что под зуб ни упади…
Вскакивать ванькой-встанькой всё равно неохота.
Пальцы сами лениво разворачивают бутылочную газетную затычку, мой вершок. Липкие глаза сами впиваются в бахромистые строчки.
– Слушайте! – гаркнул я. – Про нас пиш-шут! Читаю… «Недавно на книжный рынок Англии поступил справочник, моментально ставший бестселлером. Предназначен он для руководителей фирм и учреждений и содержит ряд ценных указаний по части подбора сотрудников. Вместо заполнения многочисленных анкет авторы справочника рекомендуют просто-напросто приглашать кандидатов в ближайшее кафе. Если человек жадно глотает пищу, это явный признак скрываемой вспыльчивости, – указывается в справочнике».
– Это не про нас, – разомлело оборвал меня Глеб. – Разве мы что-нибудь скрывали?
– Дай дочитаю… «Тот, кто ест быстро, но с толком – быстро работает».
– Это мы! – бухнул Глеб костьми пальцев по кастрюлиной закоптелой звонкой заднюшке. – Да, мам?
– Мы… мы… – отходчиво кивнула мама. В одальке она поправляла на себе белую косынку.
– «Люди, заботящиеся о наличии в пище витаминов, обычно уделяют в работе слишком много внимания незначительным деталям. Медленные, аккуратные едоки – хорошие организаторы. Если человек явно наслаждается едой, значит, он уверен в своих силах. Кандидат, делающий во время еды регулярные паузы, – человек действия. Люди же, лишенные аппетита, и к работе будут относиться равнодушно…»
Оттараторил я, сияю на все боки начищенным пятаком.
– Шо ото ты за юрунду начитал? – укорно покачала мне мама головой. – Где ты встречал людей без аппетита? Вот нас троя… Целый день подноси – будем за себя кидать без перерывки на обед. И всё одно голодными останемся. Аппетит же, как у вовцюг!..[56] И на работу злые, как те остолопы… Видно, сколько ни ишачь, а до куска до вольного нам не добежать…
Глеб наложил палец на губы.
– Ма, тс-с-с… Вас заберут. Праздник! Май! Слышите, что Москва поёт? Послушайте!
Мы все наставили уши к дальнему бугру, к центру совхоза. Репродуктор оттуда орал наразлад со столба:
– Я другой такой страны не знаю,Где так вольно дышит человек!Песню то и дело отбрасывало куда-то в сторону, глушило громовым шумом, криками ура.
Передавали парад с Красной площади.
– Мы с чудесным конём,Все поля обойдём,Соберём, и посеем, и вспашем!..– Ой да Господи! – плеснула мама руками. – Что они такое там себе поють? Шо ото за глупости бегуть из самой из Москвы? Ну где ото видано, шоб сначала собирали, потом сеяли, а уж потом пахали? Не наоборот ли треба? Можь, всё ж таки спервушки вспахай, потом посей, а уж посля собирай, если шо там наросло?
– Ма! Да за такущие речуги!.. – Глеб сложил по два раздвинутых пальца крест-накрест.
– А шо я сказала? Я саме главно не сказала… Где ото чёртяка мотае их с той конякой? Чем драть козла по радиву, лучше б прибежали с той конишкой к нам да подмогли посеять кукурузу…
– О-о! Чего захоте-ели, – в укоре зашатал Глеб головой. – Тут строгое разделение… Кто-то пашет, а кто-то с мавзолея ручкой машет… Так что им махать, а нам пахать-сеять…
А между тем столбовая кричалка в центре распалилась вовсю, мстительно драла глотку:
– Это е-есть наш после-еднийИ реши-ительный бо-ой!– Боже, – обмякло припечалилась мама, – когда ж кончится эта бесконечная войнища? Сплошняком бои, бои, бои… Бой за вывозку навоза… Бой за раннюю пахоту… Бой за сев… Бой за прополку… Бой за уборку… Бой за вывозку хлеба… Бой за чай… Бой за молоко… Бой за мясо… Бой за картошку… Бои, бои, бои… Неместные бои… Когда ж мы начнем жить миром?.. Раньше, я ещё дивчинка була, не знали никаких боёв. Робылы, гарно жили миром… Не сидели голодом… А посля как пошло, как пошло, когда голозадники полезли царювать. Робыть не хотят, с песенками да с плакатиками мотаються по хутору Собацкому, как те на цвету прибитые. С плакатиков хлеба не нарежешь… Вот ига нам попалась… Есть ли где в державе хоть одна сыта людына? Покажить мне такую. Я б пошла посмотрела…
– Никуда Вам не надо ходить. Вот, – Глеб ткнул пальцем в меня, – вечно прохлаждался по курортам!
– Ой, – возразила мама. – Да он самый голодный сытый. Из нашей семьи Антоха один был на курортах. Двичи був. В Бахмаро и в Сурами. Это под Тибилисом. Всей площадкой выезжали… То ли кончалась война, то ли уже сразу посля войны… Едешь, не знаешь, что и взять в гостинец. Наваришь картох в шинелях, позычишь по суседям кусок-два хлеба. Приедешь – картохи уже кислые от жары… Хлеб в мент сжуёт… Жуёт у меня на коленках, а сам плачет-жалится: «Воспитательница уложит нас вечером, говорит, делайте так вот, так вот. – Мама плотно закрыла глаза. – Мы изо всех силов делаем, делаем, а глазики не закрываются, хлебушка хочется…» Где ж он сытый?
– Да он сам мне хвалился, что на тот хлеб ещё амурничал с Танькой Чижовой.
– Не плети чего здря! – прикрикнула мама. – В детском саде какие ещё твои муры?
– Обыкновенные! – подкрикнул Глеб. – Помните карточку с курорта? На карточке они сидят на земле рядом. Танька пристроила ему на плечо свою головку. О чём это говорит? Ну-ка, Антониони, пошарь по мозгам, вспомни да доложи по всей форме суду.
– Спешу и падаю! – отрезал я.
Ишь, доложи! Ну нравилось мне бегать за нею. Ей нравилось убегать от меня. К ней почти никогда не приезжали. Как-то нас собрали снимать. Таня и говорит: «Чего сел рядома? Я всё равно уйду от тебя!» Я сказал: «Не уходи, что тебе сто́ит? Тебе не всё равно, кто рядом? Не уходи. За это я буду отдавать тебе весь мамкин хлебушек и всейные картошики!» Она не ушла. Засмеялась и положила ко мне на плечо свою головку… Хлеб и картошки всё равно не брала, всё равно всегда от меня бегала. А я бегал за нею…
– Глебка, так как увидеть живого сытого человека? Пешки босяком учесала б зараз хоть на берег земли… Абы одним глазком глянуть…
– Э нет! – подпустил пару Глеб. – Это Вы, ма, горите убежать пешей курой от работы? Не пройдёть!
– От работы, сынок, я бегать не умею… И жить гарно не умею… Ежли б всё получалось, как хочешь, высоко-о б мы вылезли. А то ты на гору, а оно тебя за ногу.
Глеб потягивается, показывает всем видом, надоели ему умненькие разговоры.
– По закону Архимеда, – бормочет нарочно тихо, – после вкусного обеда – два часа поспать!
– Какой сон в жару? – недоумевает мама. – Одно мученье.
– А сеять – курорт?
– Так то дело. Нам его за нас никто не стулит. Шо оставим сёдни, к тому прибежим взавтре… Оно можно всей семейкой завалиться под ольхой. Так на что было скакать сюда? Лучше уж дома. А то получится, плыли, плыли да на берегу затонули…
– Ма! – кричу. – Не переживайте. Утопленников не ожидается. Культпобег на речку отменяется!
– Так оно вернее, – теплеет её голос. Она обстоятельно, не спеша повязывает линялую косынку узлом на затылке.
Я закидал зерном просторный клок. Снизу, от ручья, всей троицей подступились его засевать.
– Ну, Господи, допоможи! – просяще проговорила мама, поплевала на руки.
– Вы уверены, что он Вам поможет? – повело меня навести справку.
– Верёвка крепка повивкою, – глухо молвила она, – а человек помочью.
– Людской!
– И е г о… Бог в помочь! – говорят стари люди.
– Только скажи и поможет?
– Поможет.
– Проверим… Бог в помочь, – как можно жалостней проскрипел я и подал тоху невидимому помогайчику. Но никто её у меня брать не спешил. – Где же ты? Милый Боженька?..
– Во-от он я! – Глеб круто, как щипцами, схватил меня за ухо и поволок в сторонку.
– Больно же!
– А ты, муходав, не балагань! – Он заговорил тише, пускай мама не слышит. – Чего ты издеваешься над матерью?
– И не думал.
– То-то и оно. Не думая!
– Да что я такое сделал? Ты б послушал, как она мне… На той неделе прибегаю из школы. С порога: «Ма! Я в комсомол вступил! Поздравьте!» Повела так в растерянности плечиком и: «Эха-а, сыноче… Ну зачем ты полез в могильщики?.. Вечно тебе везёт, як куцему на перелазе… То в говно вступишь, то в кансамол той…» Да не лез, говорю, я своей волей. Понимаете, я последним в классе вступил… Не хотел. А комсоргик и подсуропь: у нас класс сплошной комсомолизации, ты всю картину портишь! «Какие-то у вас игрушки непонятные, – говорит мама. – Удумали… Класс какой-то сплошной…» – «Что ж непонятного? Только и слышишь кругом: всем классом – на ферму! Всем классом – на завод! А тут – всем классом в комсомол!.. У вас в молодости были игрушки ещё непонятней… В колхозы загоняли всех подряд. Сплошная коллективизация!. Хочешь не хочешь – всех стадом гнали в это колхозное болото. Согнали всех в колхозы, вот теперь навалились в школе чудить. Классы сплошной комсомолизации…» – «А если не вступать?» – «Можешь не вступать. Только может тебе всё боком выскочить. – И комсорг шепнул по большому секрету: – Своей волей не вступишь, кто надо покопается в тряпочках семьи и найдут, за что и из школы турнуть, и из газеты. Какой же ты юнкор комсомольской газеты, если сам не в комсомоле? Какой-то получаешься несознательный» – «О-о, куда они ниточку тянут… И ладно, что вступил. Сиди да мовчи… до своего часа. Отсидись в затишке… Ещё вернется всё на прежние дорожки…» Странно. Как-то она кругами говорит…
– Значит, напрямую говорить рано, – сказал Глеб. – Может, мама не разобрала, куда ты вступил?
– Ну-у… Наша мамычка ту-уго ловит всё, что ей в руку. Хлопни гром – скоренько крестится. Пронеси покойничка – крестится. Дело какое начинать – помогай нам Бог! В каждый след Бог, Бог, Бог! А мы, молодые, слушай и молчи?..
– А-а… Вон об чём твоя лебединая песенка… Ну, раз свербёж на язык напал, донеси на мать, как донёс на родителя примерно вумный пионерчик Павлюня Морозов. Так и так, мать у нас боговерка, в пожарном порядке перевоспитайте, пожалуйста, нам её в духе новейших веяний.
– Бу спокоен, доносить не побегу. Как-нибудь сами не разберёмся с её Боженькой?
– Уж лучше как-нибудь, ваньзя, заткнись! Чего разбираться? У каждого свой Бог. У тебя свой. У ней… На разных орбитах крутитесь, в стычках нету нужды. И не лезь к ней с присмешками, голова твоя с затылком. Не суйся с суконным рыльцем в калашный ряд.
Во мне всё схватилось за штыки.
– Ка-ак не суйся?! Ка-ак не суйся?! Иконы в доме нет. На «Сикстинскую мадонну» молится! Сам видал в грозу… А не дай Бог – фу ты! – на ту минуту кто из лёгкой антирелигиозной кавалерии нагрянет? Увидят упёртые комсомолюры-петлюры эту гражданку Сикстинскую, пришьют по темноте политическую незрелость? Ну, к чему нам кошачьи хлопоты? Будут на каждом углу трепать мамино имя. Бегай тогда доказывай, что ты прилежно-устойчивый атеист. Нас с тобой затаскают по комитетам.
– Может быть. Но картину кто приплавил?
– Кто… Не из церкви… Митечка из книжного притащил. В нагрузку пихнули… На кнопках присандалили в углу. Чем не малая Третьяковка? Думаю, будем теперь жить в культуриш. Будем всем семейством приобщаться к высокому искусству. Приобщились…
Глеб засмеялся одними глазами.
– А признайся, штаники полные? Чего труханул? Да за всю жизнь свою ты хоть раз видал маму в церкви?
– А кто молится Мадонне?
– Это и доказывает, с Боженькой у неё ничего серьёзного. Крестится ж лишь при громе. Грозы боится! Всё понятно, всё просто, как твои веснушки.
15
Сегодня до вечера солнце светило.
На большее, видно, его не хватило.
Р. Муха– Хлопцы! – окликнула нас мама. – Что у вас там за совещанка? Что вы никак не поделите?
– Да ищем, – Глеб приставил ладонь навесиком к глазам, смурно огляделся по сторонам, – где земля помягче.
– У меня перина. – Мама смахнула со щеки гроздь пота. – Тоха сама сеет.
– Сама сеет? Го! Это нам под масть. – Глеб быстро кланяется, как стрелка на весах, в обе стороны. Сначала мне, потом маме. – Принимайте нас назад в свою компанеллу!
Он прибился к маме справа, я слева.
Пока мы варили чепуху на постном масле, мама засеяла приличный лоскуток и исправно гнала пионерку – в клину шла первой. Мы кинулись её догонять.
Местами земля была гранитно неприступна. Но и не оставлять же балалайки, зерно поверху. Кепкой я таскал воду из ручья, и земля с шипением пила, отмякала.
Босые ноги мамы уходили всё медленней. Совестливо, низко их закрывала фиолетовая юбка. На плечах умывалась по́том привялая ситцевая кофтёнка. Па-арко… Русые волосы тугим, гладким золотым свитком лежали на затылке. Тонкий аккуратный нос, ясный очерк тонких губ и острый подбородок выказывали власть в характере. Удивлённые зелёные глаза с тёмным отливом лучились чистотой души.
На родинку-горошинку с кисточкой пшеничных волосков над левым углом губ села муха. Мама тряхнула головой, дунула. Муха немного подумала, улетела.
Мама устало огляделась.
– Как покойно… Одному ручью не спится…
– Первое ж Мая, курица хромая, – отозвался Глеб.
– Отличная у тебя память на праздники, – подковыристо колупнул я.
– Не жалуюсь. – Глеб воткнул сердитый взгляд мне под тоху. – Глубже кусай. А то кукурузу еле накрываешь… За такую работёху мы тебе не орден – простую медальку не кинем.
– Не пужай, – поощрительно улыбнулась мне мама. – Старается ж человек… Думаешь, он хуже тебя зна: хорошо зерно в землю спать уложишь, хорошо урожаем и разбудишь?
– Пока он сам на ходу спит, – проворчал Глеб. – Кисло тохой командует…
И снова слепая солнечная тишина. Тоскливо на душе от усталости, от белого молчания, от слюдяного неба.
Глеб слегка оттягивает резинку трусов… Вентилирует своё хозяйство. Воровато следит за мамой. А ну увидит!
На пальчиках он обминает её по-за спиной, шепчет мне:
– Ты чё развёл на ушах борделино? Не ухо – форменный сексодром! У тебя ж на ухе мухи внагляк куют маленьких мушат! Какой ужас! Хоть красный фонарь вешай… У-у, гады! Разговелись по случаю праздника!
Он щёлкнул меня по низу уха.
Кажется, с уха действительно слетела двухэтажная мушиная пара. Откуда ни возьмись навстречу мухам весело едет бабочка на бабочке. Что за воздушный трюк? Любовь на скаку?
Ах, май-маище!..
Глеб тенью обежал сзади маму и как ни в чём не бывало пристыл на своём месте.
– Ма, – целомудренно допытывается он, – а зачем человек живёт?
– Ну як зачем? Живёт себе и хай живёт. Шо, кому мешае?
– Вот Вы лично?
– А шо я? Я как все.
– Хо! Все сейчас вернулись из города, с демонстрации. Сидят за столами иль у речки гуляют. А мы… Нам больше всех надо?
– Нет. Да как на другой лад крутнуть? Я не знаю. Ты знаешь? Проскажи… У тех хозяин живой, у тех дети покончали школы, к делу уже привязаны. Они и посля работы, вечерами, отсеются. Нас не четай с ними. Завтра, кто жив будэ, вам в школу, мне на чай. А и прибежишь зарёй на час – много урвёшь? А земля гонит-подгоняет. Сохнет, как волос на ветру.
– Не рвали б лучше пупки из-за учёбы… Ну, куда нам обязательно дожимай одиннадцатилетку?
– Это ты, хлопче, брось. – Мама сердито махнула на Глеба рукой, будто отпихивалась от него.
– Что так?
– И-и, пустое!.. У нас в роду никто расписаться не умел. И я до се крестик за получку рисую. Худо-бедно, а до одинннадцатого тебя дотолкала. Мытька в техникуме. Смейся ли, плачь ли – весь наш род в счастье попал! Осталось последние экзаменты сломить. Там тех экзаментов всего капля и на́ – бросай. Я хочу, чтоб вы людьми стали.
– По-вашему, кто без аттестата, тот нечеловек?
– Человек-то оно человек… Да как чего не хвата. Я не знаю чего. Кончайте… Подвзрослеете, поймёте, чего зараз не понимаете. А то станете словами обносить тогда: не учила Полька, теперь поздно. Не сахарь мне школа. Но школа говорит, кто у тебя растёт. Было, прибежишь на родительское собранье. Сергей Данилович, завуч… Вот, говорит про меня, одна подымает троих сыновей. Воспитывает в горе-нужде. Отец погиб на фронте. А ребята – в пример вам веду. В учебе первые. Выйдут на чай – вас тогда на чай по месяцу загоняли в отсталые, в обозные бригады – первые. А вот тройка Талаквадзе. У папаши-кассира легковушка, тугой карман. Раскатывают всюду, курют, гуляют, дерутся. Учение на ум нейдёт, с двоек не слезают. Эко роскошь иха корёжит! Не выйдуть из них люди, как из ребят Долговой… Слухать, хлопцы, не совестно. Знаешь, т у д а растуть твои…
– Было, ма, дело, было, – покаянно хохотнул Глеб. – Туда росли мы всем колхозом. Да я красивую картинку подпортил Кобулетами. Пошёл оттуда расти.
– Ничо. В кружку не без душку… Это не та промашка, как у того – хотел вырвать зуб, а оторвал ухо. Исправляться думаешь?
– Пробую… Только, как у Митечки, не выйдет. У Митечки сообразиловка – совет министров. Восьминарию пришил с отличием. Уже почти в людях… Ма, а с чего он затёрся в молочный?
– С голода, сынок… Любил книжки, зуделось в библиотеческий. Господи! Да какой навар с книжек? Разь книжки кусать станешь? Еле запихала книгоглота в молочный. Говорю, будешь бегать при молоке, всё какой стаканчик за так и кинешь в себя. С тем и покатил в Лабинский… Уже на третьем курсе…
– Ско-оро начнёт нашармака молочко дуть, – тороплюсь я сообщить приятную весть и добавляю: – А ликовать не спешите. Как бы автоматы не загнали его с дудками на Колыму.
– Какие автоматы? – насторожилась мама.
– Обыкновенные… Идёшь с завода. На проходной автоматы просвечивают насквозь и докладывают, что там у тебя в желудке. Своё, законное, молочишко или халтайное.
Мама опечаленно угинает голову, насупленно молчит. Интерес к молочно-лучезарному будущему братца тает, как след упавшей в лужу дождинки.
Откуда-то из-за Лысого Бугра неожиданно ударила гармошка.
– Меня маменька рожала,Вся избёночка дрожала.Папа бегает, орёт:Какого чёрта бог даёт!– В поле аленький цветочекС неба ангел уронил.Вышей, милочка, платочек,Знай, что мил тебя любил.С вызовом отвечала парню девушка:
– Милый мой, милый мой,Ты бы помер годовой.Я бы не родилася,В вас бы не влюбилася!И тут же обидчиво:
– Ты, корова, ешь соломуИ не думай о траве.Мил, с другою задаёсся?И не думай обо мне.Зажаловался парень:
– У точёного столбаНету счастья никогда:Когда ветер, когда дождь,Когда милку долго ждёшь.Новый девичий высокий голос тосковал:
– Ко всем пришли,На коленки сели.А у нас с тобой, подружка,Верно мыши съели.Весёлые хмельные шлепки покрыл бедовый фальцет:
– Иэх яблочкоМелко рублено.Не цалуйте м-меня,Я напудрена!Где-то за буграми гуляли.
Знойный день выкипел, как вода в чугунке, забытом на огне. Усталое солнце пало на каменные пики Гурийского хребта. Листва на ольхах посерела, привяла. В вареных листьях осталось силы, что удержаться за ветку, не сорваться. За ночь они оживут, подвеселеют. Майская ночь милосердна.