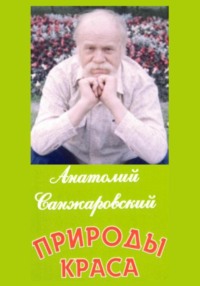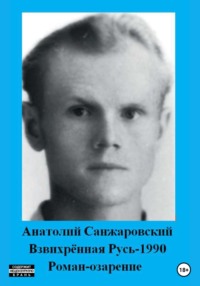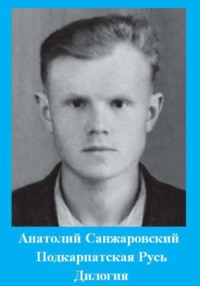полная версия
полная версияДожди над Россией
Мама оцепенело оперлась подбородком на тоху. Казалось, не держись за тоху, она б от изнеможения упала.
– Ну, шо, хлопцы, хватит? Выписуемо себе путёвку отдыхать? Я як разбитый корабель. Руки, ноги болять, наче весь день цепом молотила хлеб.
– Ещё не посеяли, а уже молотили? – размыто спросил Глеб.
Мама вяло отмахнулась. Не липни, смола!
Мы с Глебом в спешке убираем подальше тохи. Мерещится, не спрячь надёжно мигом, снова придётся продолжать сеять. Мы прилаживаем их к бережку у самой воды в травянистой щели дугастого ручья. Из травы совсем не видно тох, но нам кажется, выставили на самом юру. Сверху ещё набрасываем старюку – прошлогодние сухие лопухи.
– От Комиссара Чука ховаете? – посверх сил усмехнулась мама.
– Не столько от Чука, сколько от Чукчика… От Юрика.
Мазурчик Юрчик – лентяха дай Ьоже! Чай рвать не хотел и мать на плантации привязывала его к своей кошёлке. Только так придавишь, пригнёшь к работе. Лишь на привязи он и рвал чай, без конца бурча матери, что труд извивает труженика в труп. Очень уж боялся быть извитым до последнего колечка.
– Поглубже прячьте…
На матушкину подковырку мы в ответ ни звука. Сопим в деле.
– До морковкина заговенья будете колупаться? – подпускает перчику она. – Иля вы от самих от себя ховаете? Ховайте… Я пойду нарву в фартук пхали на вечерю. Идите додому, не ждить меня.
Сумерки сине мазали всё вокруг.
За день, кажется, бережок нашего ручья заметно подрастил густую изумрудную бородку.
В уют её шелков валит полежать усталость.
Подгибаются, заплетаются ноги.
Мы кое-как переломили себя, разобрали старый плетень. Навязали по вязанке сушняка, пустые мешки на плечи – не так будет давить сучками – и в путь.
Эв-ва, весёленькая грядёт ночка.
Плечи у нас обгорели, схватились волдырями. Пока вязанка лежит на одном месте, ещё терпимо. Но меня угораздило споткнуться. Какая-то кривуляка ножом воткнулась в спину, я взвыл по-собачьи. Слышу: лопаются мои волдырики, горячие струйки сбегают по мне.
Тащились мы черепашьим ходом. Глеб что-то бормотнул, я не разобрал. И через два шага расплачиваюсь.
Моя вязанка наехала на тунговый ствол – вытянулся над тропкой, сливалась с высокого бугра.
Я отскочил назад, не удержался и с полна роста ухнул волдырной спиной на проклятую вязанку, будто на доску со стоячими иголками. Искры из глаз ослепили меня.
– Я ж тебе, тетеря, говорил! – вернулся Глеб. – Чем ты только и слушал!
Он приставил попиком свою вязанку к тунгу, подал мне руку.
– Вставайте, сударь. Вас ждёт ночь без сна и милосердия.
Я кинул мешок на плечи.
Глеб поднял мою вязанку, я подлез под неё.
– Взял?
– А куда я денусь? Взял…
Он осторожно опустил мне вязанку, и мы покарабкались в гору.
На большаке он с ожесточением сошвырнул в канаву свой сушняк, молча побрёл назад помочь мне.
16
Только солнце может благополучно заходить слишком далеко.
В. ЖемчужниковДома нас встретила Таня.
Она сидела на скрипучих перильцах, готовых в любую минуту завалиться, и грызла семечки. Всё крыльцо было толсто закидано пахучей лузгой. Увидела нас, спрыгнула на пол, быстро поправила тесную красную юбку.
– Здоров, Глебушка, – рдея, уважительно подала Глебу пухлую томкую руку.
– Здравствуй, коли не шутишь! – с напускной лихостью давнул её за одни пальчики наш притворяшка.
Как же! Плети, плетень, сегодня твой день! Чего он вола вертит? Перед кем комедию ломает? Сам же рад-радёшенек встрече. Полтинники сразу продали!
– Привет, мизинчик, – кивнула мне Таня.
– Привет, тёзка.
Мы с нею мизинчики, меньшаки в своих семьях. На этом наше родство обламывается. Зато за Глебом с Танюрой тайком бегает по району кличка жениха и невесты. Было, сидели за одной партой. В седьмом она бросила школу, и теперь в свои пятнадцать Таня уже не учится, работает на чаю.
Отец и мать её погибли в войну. Так говорилось всем.
На самом деле родители пропали в тюрьме.
Отец самоуком научился читать по складам. Пока перепрыгнет через долгое слово, плотно взопреет, а таки перепрыгнет. Сначала брал в библиотеке всё детские книжки, к взрослым боялся подступаться. А тут набежал на «Мать» Горького. Отважился, взял.
Полгода казнился. Принёс назад.
– Понравилась? – спросила библиотекарша.
– Нет!
Библиотекарка палец к губёнкам.
Отец и вовсе ошалел.
– Что ты мне рот затыкаешь? Имею я праву иметь свою мнению? Вроде-кась и-ме-ю! Вот я и сымаю спрос. Почему простые люди у него не скажут живого словечушка? Чтобы в душу легло праздничком? Всё лалакают книжно, как иноземы какие.
– Да, да! – подпела мать. Жили родители ладно. Везде часто появлялись вместе. – Он всё читал мне. Так я чудом не угорела со скукотищи.
– Есть в книжке один «хохол из города Канева». Смехотень! Этот хохол по-хохлиному одно словко знает. Одно-разодно! Ненько. И амбец. И лупит этот хохол по-русски чище профессора твоего. Я прямым лицом скажу. Сам Горький, по слухам, будто с людского дна. Он-то мотался по Руси с заткнутыми ухами? Не слыхал, как народушко льётся соловьём? А что ж в книжке этому народу он замкнул души? Почему простой люд ляпает по-книжному? Аж блевать тянет!
– Блявать кликнуло? Будешь! – Из сумерек книжных рядов чинно выставился облезлый старчик.
– А чёрные палки его вовсе допекли, – пожаловался отец библиотекарше. – На кажинной страничке по полтора десятка!
– Это что ещё за палки?
– А такие чёрные чёрточки… Как перекладинки на виселице… Читать неспособно… Тольке разбежишься читать – спотыкаешься об эти чёрные палки раз за разом…
– Уже и тире ему не такие у дорогого Алексей Максимыча. Там полюбишь! – пообещал старчик.
Отцу и матери отломили по три года. «За дискредитацию великого пролетарского писателя».
Четырёх девок подымала вдовая тётка. И родители сгасли в тюрьме, и тётка уже примёрла…
Горькие четыре сестры ютились в одной комнатёшке. Будь в семье хоть двое, хоть десятеро – каждую семью совхоз вжимал в одну комнату. Чижовы крутились от нас через одну, семисыновскую, комнату. Их дверь выбегала на соседнее крылечко. (На каждом крыльце было по две комнаты.) Из приоткрытого единственного чижовского окна хрипло и жизнерадостно раздишканивала чёрная тарелка-балаболка:
– Над страной весенний ветер веет,С каждым днём все радостнее жить.И никто на свете не умеетЛучше нас смеяться и любить!– Где все ваши? – спросил Глеб лишь бы не молчать.
– Кто где. Мамочка, – самую старшую сестру Настю звала Таня мамочкой, – совсем сбилась с путя. Ушла в глубокую любовь. Где-т страдает со своим мигачом. Чего она перед ним стелется? Или боится закиснуть в старых девках?.. А и то… Двадцать три уже… бабка-ёшка…
– А Домка с Дуськой?
– Э!.. Обкушались иночки мундирной картохи с камсой. Попа́дали спать.
Мне неловко торчать возле Глеба с Танчорой пустым столбиком. Я шатнулся к себе в дупло.[57]
Развожу керогаз и слушаю их трёп.
– А я была сегодня в городе… На́ семечек…
– Что видала?
– Всё видала, что другие видали. – Дверь малешко открыта, я вижу, как она перебросила со спины на грудь тяжёлую белую косу толщиной в руку. То расплётет конец, то снова заплетёт. – Знаешь, а ко мне пристебнулся… А за мной уплясывал один городской… закопчённый фигурин,[58] – и похвалилась, и пожаловалась Танюта.
– Всего-то один?
– Тебе смешалочки. А я и от одного не знала, как отрезаться. Ни рожи, ни кожи, ни виденья… А туда же… Расфонтанился… Ростом Боженька не оскандалил, зато мордень нацепил ему козлиную…
– Постой, постой… И это-то фигурин?
Танечка замялась.
– Конечно… Шевели хоть каплю понималкой… Будь страхолюдик какой, разве б крутила я с ним слова?.. А что шишки против него покатила сейчас, так это … с радости, что совстрела тебя… Ну… Я и так, я и сяк… Не отбиться! Покупил козлюрка целое кило яблок. «Не возьмёшь – не отстану!» Я – ну не бешеная тёлушка? – взяла. А липучка по-новой. Подговаривается к свиданию. В девять в парке. Вишь, чтоб стемнело… С первой минуты разбежался на обнимашки где в тёмном углу… Ёшки-крошки! Он по нахаловке, и я по нахаловке. «В восемь! – кричу. – Нет!.. В семь! Только до семи доживу без тебя!..» Мнётся-гнётся Приставалкин. «Что, к семи бежать заступать на пост к другой? В семь и ни секундышкой позжее!» – и помела прочь хвостиком. Распахнул ухажёрик рот, а захлопнуть некому.
– Ты не сдержала слово?
– Да сдерживай я слово каждому ханыге, от меня остались бы загорелые рожки да немытые ножки. Я не просила. Сам навяливался силком. Это если тебе я что посулю, в сторонку не вильну… А потом… В город я лётала не знакомство становить. Я вешаться ходила.
– И сколько?
– Угадай.
– Я не гадалка. И ни разу не держал тебя на руках.
– А ты возьми!
– Хоть сейчас?
– Вот хотько сей моментарий! Только губы накрашу.
– Неа. Не спеши… Не крась… Я ещё не ужинал.
– Семьдесят пять! – Она поклонилась с приседанием.
– Ого! Вес пеночки!.. Да столько тянут три забитые козы. Тенти-бренди коза в ленте!
– А чего ты меня с козами четаешь? – Танёчек погладила голубую ленту у себя в косе. – Что я, рогатая? А, спичка?
– Я на спичку не обижаюсь. И ты не дуйся. Лучше, – Глеб потянул к ней руку, загудел плаксиво, – да-айте, не минайте. Подайте бедному на ко-пее-ечку…
В подставленную лункой лалонь Таня готовно плеснула семечек, будто никакой разладинки и не завязывалось. Верно, водяной пузырь недолго стоит.
– Где ты, смоляное чудечко, веялся всю вечность?
– Отсюда не видно.
– А я знаю. В Кобулетах!
– Какая разведка тебе донесла? Кто лично?
– Ты лично! Утром. Только проснулась – слышу тебя через две стенки. У нас же стеночки – сосед мысленно ругается, а ты слышишь… Подал бы знак… Разве я не поскакала б с тобой?
– Ух! Из горячих ты! – высунулся я в дверь. Меня подпекло, что с этим чапаевцем она разготова на всё. – Там край света! Турецкая граница навблизях! Море!..
Я не знал, чем ещё страшным её подпугнуть.
– Там, – посыпал ералашно, – каждый год восьмого ноября сходятся бывалые моряки и по облакам узнаЮ́т погоду на всейную зиму!
– Плети кружева круче. Кто тебе насказал?
– Глебка.
– Тогда правдушка. Глеб замораживать не станет… С Глебом я б побегла на крайний студливый свет! – вслух подумала Таня и свысока облила меня крутой синью глаз.
– А со мной? – подкрикнул я.
Мне хотелось узнать себе девичью цену.
– С детьми так далеко не заходят! – колко отхватила она.
Ё-моё! Чем он лучше меня? На три года старше? Тоже мне орденок… Так у нас носы одинаково лупятся. Неужели она это не видит? Чего ж тогда так резанула?.. Видали, у Тасютки и петухи несутся! А у нас все куры яловые! Ну погоди… Прощайте, не стращайте. Скоро вернусь!
– Танюшечка невестится – бабушке ровесница! – С разбегу я взлетел на перилко, ограждавшее крыльцо, цыкнул сквозь зубы на ладони, потёр ладошку об ладошку, сочно хлопнул и угорело подрал по стекольно-гладкому столбу на чердак.
Уже с горища я как бы внечай уронил хвастоватый взгляд вниз.
Глеб показал мне кулак, я ему язык. Больше нечего было показать друг дружке. На том и разлучились.
На чердаке было душно.
Разогретая за день серая черепица ещё тепла, как печка.
С осени весь наш чердак был забит кукурузой. Наша кормилица, наша поилица… Очищенная от листьев, она впокат толсто бугрилась по потолку. Глянешь, бывало, на эти горушки полешек – сердчишко радостней застучит. Ведь что ни кочанчик – не меньше хорошего локтя, и зёрна, как лошадиные зубы… Увы, потолок уже пуст. Реденько осталось лишь на жердях, привязанных проволокой к стропилам. Как и доехать до новины?
Я быстро накидал в чайную корзинку кочанов – попарно свисали с жердин на своих связанных золотистых чубчиках.
Вижу, парочка внизу всё агу-агу.
Я потихоньку спускаю корзинку. До пола метра с два. Я выпустил верёвку (другим концом она привязана к скобе) – корзинка грохнулась, как бомба. Зёрна жёлтыми осколками брызнули во все стороны.
В испуге Танютка вскрикнула, ткнулась лицом Глебу в грудь, невольно обняв этого кощея за плечи.
– Ты нарочно? Да? – в презренье скосила она на меня глаза, когда я съехал по верёвке. – Со зла? Да? Всё равно с тобой никто не побежит на край света! Хоть умри тыщу разов! Не побежит!
– А я никого ни в какие бега и не зову.
Не спеша я опорожнил корзинку. Не спеша взобрался по верёвке снова на чердак.
Уже оттуда я услышал, как Таня празднично предложила:
– А давай мыть полы.
– Мне без разницы, – с подчёркнутым безразличием отозвался Глеб.
– А без разницы – делай по мне. Я серьёзно. А он со смешком…
– Ты уверена? Может, не с мешком, а с сумочкой?
Им нравилось выёгиваться друг перед дружкой, кто быстрее, кто чище вымоет у себя пол.
К этому поединку на тряпках домашние относились с весёлым поощрением.
– Тогда айдатушки за водой?
– Так ну айда.
Я бросил снимать кукурузу.
Разбито побрёл по балкам в угол, вальнулся на край горища и слежу за ними из-под стрехи.
С наступлением темноты весь район обычно бегал по воду к колодцу у кишкодрома.[59] Эти же баран и ярочка обогнули дом и именинниками канули в чёрный каштановый овраг. К кринице подались! Слышно лишь, как зазвонно болтают вёдра.
Я лежал и отупело вслушивался в уходящие, в затухающие голоса вёдер.
Отпели и они…
Из-под серой черепицы я пропаще всматривался за дорогу в овражный омут, но ничего не видел.
Быстро зрела ночь, наливалась кромешной мглой. Суматошно толклись всюду светлячки. Они то зажигали, то гасили свои белые стремительные огоньки.
«С тобой никто не побежит на край земли, хоть тыщу разов умри!» – ударил Танин приговор.
Не знаю, отчего мне стало жалко себя, и я заплакал.
Мама хлопотала у печки.
С корзинкой я вжался в тиски между сундуком и койкой, сразу в мешок лущу кукурузу.
Тут сияющие жених и невеста без места принесли по два ведра воды.
Всё ожило, засуетилось в обеих комнатёшках.
– Ну, Глебка, держи нашу марку, – в улыбке сронила мама.
– Танёк, не подгадь! – подняла палец Настя.
Лишний народец вытряхивается на воздух. Нечего тут бананы катать![60] Хочется – стой смотри у крыльца, чья возьмёт!
Подумаешь, малые олимпийские игры!
А между тем к крыльцам слилось народу невпроход. Как они узнали? Уму недостижимо. Сообщение КИСС-ПИСС-ТАСС по брехаловке не читали. Это я помню хорошо. Газеты объявлений не давали. А ротозинь насыпалось – в красный уголок меньше на собрание сбегается.
– Не успеет стриженая девка косу заплесть, покончит Глебушка, – сепетит кто-то нетвёрдым, первомайским голоском.
– Во, во! Косу отрастит – даст кончиту и твой чапаевец. И не рань!
– Иду на спор! Ставлю пузырь!
Удача не кланяется спешке. Скорей закончишь, но хуже вымоешь – вырвешь проигрыш.
Глеб старательно скребёт пол топором, Таня кирпичом.
Яркому свету тесно в стенах. Размашистыми золотыми ковровыми дорожками льётся он из окон, из распахнутых дверей.
Я отжимаюсь от спорщиков и почему-то оказываюсь у самого чижовского крыльца. Или меня магнитом тянуло к Тане?
К открытой двери она держалась боком, смущённо мыла с корточек.
– Эй! Раскатай губки! – Настя легонько толкнула меня в плечо. – Нечего пялиться на чужой каравай. И так Танька вся стесняется. Иди лучше полюбуйся на Глеба. Учись. Бери пример.
– Я хочу с Тани брать пример.
– Мал ещё с Таньки брать пример. – Настя наклонилась ко мне, сердито зашептала: – Сватачок![61] Не слопай глазками свой пример!.. Ну, прилипка, чего раззяпил зевало? Вздумай всякий делать, что хочет, знаешь, чего будет?
– Светопреставление или всемирный потоп, – как на уроке, попробовал я угадать.
– Потоп не потоп, а давай топ-топ к Глебу.
– Я хочу смотреть на Таню. Она моет чище.
Лесть усмиряет Настю.
– Потому что, – уступчиво поясняет она, – Танюха использует невидимое моющее средство «Полчище».
– Что-о?
– «Полчище»! Оттого и пол чище[62]… Всё ухватил?.. Доволе ловить разиню. Ну и давай теперь топ-топ-топушки к своему Глебушке!
Да что я не видал его? Может, ещё за денежки на братца смотреть? Да не нужны мне вы все даром!
Я выдрался из кучки зевак и ересливо покатил подальше от этого цирка.
За углом дома, на косогоре, угорело гоняли мяч.
Было уже темно, но босая братва – ей тускло подсвечивал уличный фонарь – с криками металась по травяному бугру.
– Антоняк! – позвал меня из ворот мой тёмный дружбан[63] Юрка Клыков по прозвищу Комиссар Чук – младший. – Побудь другом! Выручи! Иди постой штангой!
В футбол у нас играли одновременно все желающие. Хоть по двадцать человек в команде. И войти в игру можно в любую минуту. Только найди себе пару. Один шёл играть за эту команду, второй – за другую.
Я не прочь побегать, но у меня нет пары, с кем бы я мог войти, и я соглашаюсь на штангу.
Справа от Юрки одиноко гнулся персик. Завязь на нём давно оборвали. На этом кривом персике мы всегда подтягиваемся. Метра полтора его ствол был прям, а потом резко брал влево и ещё метра два тянулся почти на одном расстоянии от земли. Поэтому этот персик верно служил нам одной штангой при футбольных воротах. Слева на кепке сидела наша ненаглядная всерайонная дворняга Пинка и зевала. Ску-учно играла ребятня.
Юрка вырвал из-под Пинки кепку, насадил себе на самые брови.
– Беги! – Он погладил собаку. – Ты и так опаздываешь на зажим-жим к своему Шарику. Антоняк, заступай на Пинкин пост.
Он сложил ладони трубкой, заорал в поле:
– Ребя! Смотри сюда! У нас новая штанга! Во-от!.. – Юрка пошлёпал меня по плечу. – Все теперь видят штангу?
– Все! Все! – в ответ прокричали играющие.
И кто-то довольно добавил с бугра:
– А то чёрную Пинку увидь в этой темнотище!..
Мы с персиком изображаем живые ворота. Правда, над нами не хватает перекладины наполовину. Толстый голый кривоватый ствол персика тянется ко мне поверх вратаря.
Я кинул руку персику, с метр не достаю до его жиденького вихорка.
– Ты чего, – спрашиваю Юрку, – одну ногу, как гусь, ужал? Зябнет?
– Не. Порезал. Вся в крови.
– Скакал бы домой.
– Я предатель? Да?! Да?! Наши проигрывают!
Нарастает ожесточённое шлёпанье босых пяток. За одним чёрным мячиком-крохой не крупней вместе сложенных двух моих кулаков катится целое бегемотное стадо. Впереди малоростик Колюня Семисынов. За ним на всех парах летит и никак не настигнет старик Хоттабыч. Так, а иногда и сердитей – старик Похабыч – звали мы женатика Алексея Половинкина, нашего огородного соседца. Ещё миг – Колюня пнёт по воротам. Как бы не вкатил верную плюху!
Хоттабыч подсёк Колюню под мышки, переставил назад. За себя. Не мешайся, мальчик!
Колюня припадошно вальнулся, колотит кулачками в землю.
– Пенал!!! – истошно орёт. – Пенал!!! Пенал!!! Пенал!!! Точный пеналище!.. Почему мы играем без судьи? Он показал бы точку!..[64] По-ка-зал!!!
Из-за ёлки выполз со своей табуреткой дед Анис, вечный и, пожалуй, единственный свидетель всех наших футбольных склок.
– Пенал, – спокойно, твёрдо сказал дед. Уж за своего сыночка Колика он горушкой всплывёт. – Я видал, как ты, Лексейка, перенёс Колика за себя. Ну не глумёж?!
– Это ты видал? – присвистнул Хоттабыч. – Да ты свою бабку на койке с компасом ищешь при свете. А тут впотеми увидал за километруху!
Деду-болельщику все верили с верхом.
Мяч летел в девятиночку.
Я скакнул вправо на шаг. Мяч споткнулся об мою голову и отбыл за боковую линию.
Тут всё покатилось вразнопляску.
– Что это за штанга?! – кричали одни. – Скачет куда хочет!
– С поля штангу! – хрипели другие. – На мыло!
– На детское! – уточняли третьи.
Колюня без слов приложился к моей ноге.
Я знал его привычку кусаться, успел отпихнуть. Было в нём что-то звероватое. Он не спорил, ему лень было бить обидчика. Сразу грыз.
Юрка благодарно пошлёпал меня по локтю. Большей награды мне не надо от дружка.
Но скоро игра развалилась.
То ли со зла, что не дали пенал, то ли по нечайке Колюня высадил мяч поверх штакетника за дорогу, в овраг. Там-то давно полярная ночь!
Те, у кого были спички или фонарики, побежали искать мяч. Но эти поиски, может, до утра.
Интерес к игре скис. Все стали разбредаться.
Когда я приплёлся назад домой, тряпичный цирк уже кончился.
Была боевая ничья. Победила дружба.
– Хлопцы! – сказала мама. – А чего б нам не повечерять вместе с чиженятами? Дэнь такый… Май!.. Хай всегда блестит пол. Гарно его умыл Глеб.
– Вместе! Вместе! – подпел женишок и выкинул руку. – Единогласно! Бегу зову!
Чугунок картошки на пару, селёдка, пхаля и чай быстро пропали со стола.
Девчонки как входили, так и уходят – цепочкой, друг за дружкой по старшинству. Грустный парад бесприданниц.
Глеб увязался следом за своей ненаглядной хорошкой. Провожает-с. Будто она живёт не на соседнем крыльце, а за ста горами.
На порожке Таня баловливо пырнула его пальцем в бок – играешь с кошкой, терпи царапины! – шепнула:
– Как поедешь ещё на край света, не забудь, моргни мне.
За дверью он пообещает, что как только надумает куда стригануть, обязательно позовёт теперь и её. Для большей убедительности погладит её тугие косы, что толстыми белыми ручьями стекали на пояс. И на всякий случай попытается поцеловать.
17
Невоспитанные дети растут так же, как и воспитанные, только распускаются быстрее.
Е. ТарасовМама тронула меня за обгорелое плечо.
Я подскочил как ошпаренный.
– Ты не ложился? – спросила она.
– Сейчас…
Я с подвывом зевнул до хруста в челюстях, захлопнул тригонометрию. Зубрил, зубрил проклятуху, так и не вызубрил. Уснул на ней за столом.
– Чо сичас?
– Вылезу из-за стола да лягу.
Она насмешливо пожмурилась.
– Уключи брехушку.
Я толкнул пластинку под чёрной тарелкой. Она вся захрипела, как баран с перехваченным горлом. Сквозь предсмертные мучительные хрипы едва пробегали слабые, придавленные голоса. Передавали последние известия. Шесть по Москве, семь по-нашему.
– Так что сбирайся в школу. Возьмэшь и четыре баночки мацони. Эгэ ж? Так гарно села… Хочь иди глянь!
Мама сняла с ведра на табуретке свой синий фартук, заворожённо смотрит в ведро, где по плечики смирно стояли в воде пол-литровые банки с кислым молоком.
– Навалило счастья… Глаза б не видели!
Мой выпад ни на мизинчик не произвёл впечатления. Радость, что мацоня сегодня на редкость плотно села, захлестнула матечку, и она мимо внимания пускает мои бзики. Предлагает ненавязчиво, как бы советуется, и в то же время уверенно, будто всё давно решено:
– Возьмэшь же? Аха?.. Гроши з базарю колесом покатяться! Возьмэшь?
– Всю жизнь мечтал! – окусываюсь я в злости на ночь без сна.
– Ну, да гляди… – Голос мягкий, мятый, укладистый, точно ей всё равно, возьму я, не возьму. – Дело хозяйско… Дома ани ж копья.[65] Шо будем кусать?
– Локти! – выкрикнул я её коронный довод в подобном переплёте.
В обиде мама опустилась на щербатую лавку у стола, взялась цыганской иголкой штопать чулок. Уколола один палец, другой. Дрогнул подбородок… Слёзы застучались в глаза.
– Ну вот… – покаянно кладу руки венком ей на плечи. Плечи так худы, что, кажется, кофтёнка надёрнута на вешалку. – Ма, помните, я Вам передачу рассказывал?
– Помню.
– Что же тогда не поступаете, как велит сама Москва?
– Да если слухать, кто что сбреше по тому радиву – лягай в гроб и закрывайся крышкой.
– Вы ж согласились с той передачей!
– А я со всема соглашаюся. А потом… Как кажуть, совет выслухай, да поступи по-своему.
Я не объясню даже самому себе, откуда у меня эта мания слушать все передачи «Взрослым о детях». Разве у меня лично целый полк босых варягов, уже мастито срезающих на ходу подмётки, и я не приложу ума, что с ними делать? Так вроде никакого полка пока нету. А может, во-рухнулась в черепушке вкрадчивая думка, всё-то я стараюсь в сторону матери? Вот она не знает, что делать с нами, с тремя архаровцами. Сама ж нам жаловалась.
Эти передачи, гляди, легли б ей в пользу. Но когда они шли, мама была уже на чаю, слышать не могла. Зато мог я. Через раз да всякий раз я опаздывал на первый урок и в ожидании второго с душевным трепетом, с благоговением внимал каждому слову премудрых взрослых, всё знающих о неразумных детях.
Происходило это в школьном парке.
Обычно прилетал я туда в мыле, выдёргивал из-за пояса общую тетрадь на все случаи – учебники я в школу не таскал, – совал под себя на камешек и отдыхивался.
Я приходил в себя, попутно внимал.
Кругом хмурились старые разлапистые ели. Под них никогда не пробегало солнце. Там всегда уныло темнели зыбкие, мяклые сумерки. Где-то поверху изредка перекликались напуганные птицы.