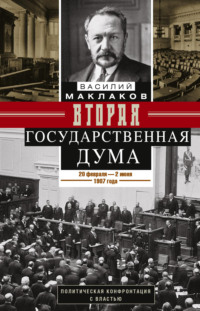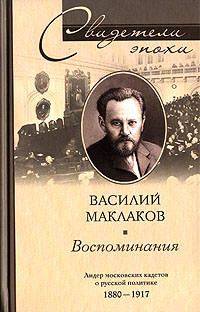Полная версия
Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника
Конечно, все это трогательно. Но характерно для старины, что человек, который, очевидно, уже ничего делать не мог, стоял во главе такого живого и нужного дела, как единственная Глазная больница Москвы. Иллюстрация того, что высшее начальство было часто в России простой декорацией, а для дела было ненужно. Это же освещает и тогдашние нравы. Никого не соблазняло, что Грудев несет ответственный пост; наоборот, все бы нашли неприличным его за старостью лет удалить. Занимать это место было его «приобретенным правом», которого нельзя было отнять. Государственная служба не была служением делу.
Для столетнего старца закон мог быть не писан; но Грудев исключением не был. Если он явно для всех был «декорацией», то подобным же начальником больницы, заведовавшим ее хозяйственной частью, был другой «генерал» – Г. И. Керцелли[134]. Толстый, с шарообразной головой, с круглыми глазами, плоским черепом, покрытым прилизанными седыми волосами, с короткими баками на трясущихся толстых щеках и пробритой дорожкой от рта по подбородку, он был главной фигурой больницы. Все утро сидел в «канцелярии», за большим зеленым столом, и читал то «Московские», то «Полицейские ведомости»[135]. Их читал он всегда, но кроме них, вероятно, ничего не читал. Не знаю, где он получил образование; когда он пытался произносить иностранные слова, то даже мы – дети – смеялись. Он был чиновник николаевской службы, действительный статский советник, чем очень гордился. Когда он получил орден, который по статуту сопровождался письмом за подписью государя, он отслужил молебен по этому поводу и ходил всем подпись показывать. Низшим служащим больницы он внушал почтительный страх. Говорил всегда и со всеми таким голосом, как будто за что-то отчитывал. Простейшие разговоры его были обстоятельны и скучны, как служебный доклад. Даже когда он рассказывал смешные вещи, никогда не могло быть смешно. Впрочем, важность его была внешняя. По существу он был добряком и в домашней обстановке все трунили над ним и его генеральской манерой. Его в шутку звали не Гаврил Иванович, а Рыло Иванович. Как настоящий старый чиновник, к своему начальству он был почтителен, одобрял все, что оно бы ни делало. Я говорил, как он радовался, что в Манифесте 29 апреля [1881 года] конституции не было; если бы была конституция, он и от нее пришел бы в восторг. Внешне он был представителен. Был церковным старостой больничной церкви, подпевал певчим, а по торжественным дням, в вицмундире и с орденами на шее, подтягивая толстый живот и извиваясь всем станом, с любезной улыбкой обходил с тарелкой молящихся. Он служил еще в Страховом обществе[136] и всегда рассказывал о страховых делах, хотя это ни для кого не было интересно. Его досуги пополняли карты, к которым он относился серьезно, как к службе, отчитывая партнеров за неудачные ходы. Такова была главная персона в больнице. Но ни чтение «Ведомостей» в канцелярии, ни генеральский чин и наружность, ни почтительность к высшим, ни грозные окрики на низших недостаточны, чтобы управлять сложным делом. И Керцелли тоже был декорацией меньшего калибра, чем Грудев.
В старину всем распоряжались маленькие незаметные люди. Россией управляют столоначальники, говорил сам Николай I. В больнице главным работником был ее эконом Алексей Ильич Лебедев. К нему обращались за всякой надобностью. Он был общим поверенным и исполнителем. Ни в чем никому не отказывал, на все находил время и какие-то ходы и связи. Человек простой, нечиновный, он приходил к главным лицам больницы не в гости, а только по делу. Но на нем все держалось. Что бы ни случилось, я всегда слышал фразу: «Надо сказать Алексею Ильичу». Небольшой, тщедушный человек, веселый, не унывающий, он не показывал вида, что свое положение понимает, но все управление шло через него. Когда я был уже студентом, я с ним ближе сошелся. Он был страстный охотник, хотя охотился редко, а стрелял совсем плохо. В минуты откровенности он мне показывал, что отлично понимает недостатки больницы и ее управления; понимал и то, что сам мог бы на этом наживаться вполне безопасно. Но он был человек честный и в то же время нетребовательный; состояния он себе не приобрел и за ним не гнался. Но только благодаря ему машина не останавливалась. Но, конечно, не ему было делать в больнице нововведения, ломать заведенные порядки. Все шло по наторенным издавна путям. На этом держался консерватизм того времени и нерасположение к новшествам. Рутинная жизнь была еще совершенно возможна в то время.
У него был незаменимый помощник, без которого также трудно было себе представить больницу, как вообще «генеральскую» Россию – без щедринского «мужика». Это был больничный швейцар В. М. Морев – николаевский солдат, с четырьмя крестами и медалями на Георгиевских лентах. Кресты он получил за Венгерскую кампанию 1848 года[137] и за Севастополь[138]. Удивительные типы создавало то жестокое время! Морев был горд, что прожил всю жизнь солдатом при Николае; на новых солдат смотрел не без презрения: «Что они понимают!» Ему было уже тогда много лет, но он казался мощной фигурой, полным здоровья и сил, с поредевшими, но не седыми волосами, с большими усами и достойным представительным видом. Как его хватало на все? О меньшей братии тогда мало заботились. Не было ни американских ключей, ни электрических проводов; надо было ему самому открывать входную дверь. Он не ложился спать, пока все домой не возвратились. Мне случалось в студенчестве возвращаться под утро, и звонком я его подымал с деревянной скамьи, на которой он прикурнул. Если я был последний, он при мне уходил к себе спать. Сколько раз я пытался с ним сговориться, завести себе второй ключ. Он не хотел слышать про это; «что вы, помилуйте, я тут сплю отлично; а на мне вся больница». Действительно, двери нашей квартиры в швейцарскую не запирались, и теперь я не понимаю, почему мы не были дочиста обворованы и спали спокойно с охраной одного только Морева.
Ежедневное ночное дежурство не мешало Мореву раньше всех утром подняться. Если кому-либо надо было рано вставать, то достаточно было попросить Морева вовремя разбудить; он не проспит и не забудет. Все наперебой давали ему поручения, далеко выходившие за пределы его обязанностей. Не было случая, чтобы он от чего-нибудь отказался или чего-нибудь не умел. Когда его спросишь: «Можешь ли это сделать?» – он презрительно отвечал: «Николаевский солдат, да не может?» И он все умел, портняжил, сапожничал, столярничал, клеил и т. д. Когда я поступил в гимназию и в первый раз шел на урок, Морев внимательно осмотрел мою обмундировку, многого не одобрил и переделал. Переменил ремни на ранце, в незаметных местах шинели вшил лоскутки с фамилией, чтобы пальто не подменили. Он повсюду искал сам работы; не мог оставаться без дела. В праздничные дни, когда больничная церковь наполнялась московским beau monde’ом[139], он с искусством, без номерков, умел всех запомнить, узнать и подать каждому его шубу.
Ребенком я расспрашивал Морева про войну; допытывался, случалось ли ему убивать человека? Он вспоминал неохотно и от прямого ответа отвиливал: «Лучше не спрашивайте». Зато рассказывал про дисциплину, про строгости; описывал, как наказывали шпицрутенами; но вспоминал все без озлобления. «Много нас учили, но зато уже и научили. Где вы найдете человека, как николаевский солдат? Разве теперешние в четыре года могут чему-нибудь научиться?»
Привычка к дисциплине в него въелась очень глубоко. Он был счастлив титуловать Керцелли «превосходительством», и его генеральская манера его только радовала. Когда мой отец был сделан действительным статским советником и Морев стал титуловать его «превосходительством», то на возражение отца он обиделся: «Что вы, помилуйте, я ли порядков не знаю?»
По должности Морев был только швейцаром, как Алексей Ильич экономом. Но фактически он был начальником над всем низшим персоналом больницы. Его все уважали, да и боялись. Он был настоящий унтер-офицер над солдатами. Он разносил, ругал, может быть, бил; еще больше стыдил всех примером. Но он никогда ни на кого не пожаловался. Это было бы для него унизительно, признать неумение справиться; это было и не по-товарищески. Он раз пенял при мне на своего помощника. Я сказал: «Что ты не расскажешь Алексею Ильичу?» – «Что вы, разве на маленького человека можно жалиться?»
Конец Морева вышел трагичный. С ним жила жена, худенькая, маленькая старушка, перед ним трепетавшая, не называвшая его иначе, как «Василий Михайлович» и «вы». У них было двое детей, сын и дочь, которых он образовал и вывел в люди. Он остался с женой один, но когда его жена умерла, старик этого не пережил и с горя запил запоем. Было больно смотреть, как он ходил с красным опухшим лицом, без всякого повода плакал, все забывал и путал, но не хотел уступать своего дела другим. Ему дали отпуск, поместили в больницу, лечили. Но все было напрасно. Пришлось его рассчитать; он где-то сам лечился и вылечился. Через несколько месяцев вернулся здоровый, его опять взяли на место. Он отслужил торжественный молебен, удвоил усердие, но болезнь не прошла. Он снова запил, и – что хуже – из карманов шуб стали пропадать разные мелочи. Он снова и уже навсегда ушел из больницы; не знаю, как и где он кончил. Это был, конечно, уже вымирающий тип прежнего времени, как старые крепостные или дворовые. В 1880-х годах они еще были. И там, где они сохранялись, на них все держалось. Это было символом старой России.
Я говорил про управление хозяйственной частью больницы; но оставалась еще ее врачебная часть. В 1860-х годах в этом отношении произошло, как и везде, крупное преобразование; весь устаревший персонал был обновлен. Но новое вино скоро разложилось в старых мехах.
Главным врачом был профессор университета Густав Иванович Браун. Почтенный старик, с толстой шеей, красным лицом, седой подстриженной бородой и с золотыми очками, покрывавшими добрые голубые глаза. Он держал себя совсем стариком, ходил медленной походкой, кряхтел и гримасничал, когда вставал или садился. Он мало работал в больнице, полагаясь во всем на других. Ежедневно заходил в приемную на короткое время и тотчас уходил, извиняясь, что у него «неотложное дело». Это он повторял каждый день. Все это заранее знали, но этот ненужный декорум он соблюдал ежедневно; свои занятия в больнице он ограничивал чтением лекций. Было странно подумать, что когда-то он приехал в Москву молодым ученым, подававшим надежды, полным сил и энергии; был учителем почти всех московских офтальмологов. Постепенно он успокоился, изменился, растолстел, перестал работать и нес службу, не волнуясь и не кипятясь, чтобы не портить здоровья. Он равнодушно смотрел, как больница отставала, противился всякому нововведению. «Знаете ли что? – отвечал он на все предложения. – Мы лучше подождем».
В 1890-х годах стали строить клиники на Девичьем поле. От Брауна зависело устройство Глазной клиники. Но он ею не интересовался. Не отстаивал кредитов на нее, не следил за архитектором, со всеми урезками соглашался, не собираясь использовать этого случая, чтобы создать больницу современного типа. Он, впрочем, понял, что с его стороны это нехорошо, и передал заботы о клинике моему отцу, который по его плану должен был заменить его в профессуре. Он этот план выполнил, хлопотал о назначении отца на свое место, а пока поручил ему следить за устройством клиники. Сам же этим он интересовался так мало, что, насколько помню, не был даже на торжестве открытия клиники, не из-за недоброжелательства, а просто по лени. Браун был честный, хороший, культурный немец, который обрусел, приспособился к медлительным темпам русской жизни и не любил зря волноваться и беспокоиться. Он никому не делал зла и неприятностей, но и не видел надобности не только тянуть служебную лямку, а и стараться приносить ею пользу. Сам он был богат, имел в Москве несколько доходных домов, в больнице занимал большой особняк по Мамоновскому переулку, с большим ему отведенным садом, и хвастался тем, что «экономен». Любил играть в карты, но непременно по маленькой, ходил каждый вечер ужинать в Английский клуб, выбирая самые дешевые блюда. В нем было много комичного. Как обруселый немец, был горячим русским патриотом и из патриотизма всегда во всем соглашался с правительством. Говорил с резким немецким акцентом, употреблял мягкое немецкое «х» вместо «г» («холюбчих»), считал себя большим знатоком русского языка и немилосердно перевирал поговорки. Много его изречений перешло в юмористическую литературу. Это он говорил: «пуганая ворона дует на молоко» или «наплюй в колодец, после будешь воду пить», «не стоит выеденного гроша», «у нищего сумму отнял» и т. д. По наивности он позволял себе выходки, о которых потом все говорили. Как-то в присутствии посторонних гостей он все вздыхал; его спросили, что с ним? Он ответил: «Эх, не хорошо-с; Юлинька с рук нейдут-с». Юлинька была его старшая дочь, которая, несмотря на отличное приданое, не находила себе жениха. Это свое семейное огорчение Браун счел нужным публично всем сообщить. Другой раз у него в кабинете играли в карты. Его лакей пришел его о чем-то спросить втихомолку. Тугой на ухо Браун не расслышал; он попросил гостей замолчать. Лакей продолжал шептать на ухо, но Браун все не понимал. «Господа, – сказал он, – вийте-ка на минуточку, мне нужно Ивану два слова сказать». Никто не обиделся; это было чистым Брауном. Он первый отпраздновал свой юбилей, но товарищей своих пережил; он умер, когда я уже не жил в больнице.
Во время моей жизни в больнице я был слишком молодой, чтобы о ней судить; помню, что мой отец досадовал на невозможность добиться в ней улучшений, на то, что его товарищи всегда находили причину все оставить по-старому. У моего отца была повышенная склонность ко всяким техническим новшествам: в этом отношении он мог быть пристрастен. Но, вспоминая фигуры хозяев больницы, я сознаю, что они могли жить только по старым традициям. Если они с делом справлялись, то потому, что патриархальный быт, привязанность к старому и низкий standard of life были в нравах русского общества. Конкуренция, необходимость приспособляться к общественному мнению были только в зародыше. Всем казалось естественно, что во главе хозяйства стоят ничего не делающие тайные советники, а что вся работа лежит на маленьком экономе. Никого не коробило, что старик Морев один работал за десятерых. Это казалось столь же нормальным, как [и] то, что больница своих богатств не использовала, что у нее в самом центре города были сады, стены, напоминавшие крепость, готические своды в rez-de-chaussée[140], громадные кладовые и в то же время никаких современных удобств. Больница не была исключением; этот уровень жизни, ее медлительный темп, благодушная уверенность, что иначе невозможно, и отсутствие необходимости переходить к более совершенным, а потому и трудным методам общежития были общим явлением 1880-х годов. Для такого порядка жизни годилось и самодержавие. Перемена жизни России произошла не от политической пропаганды, а от простого роста населения, от улучшения техники, осложнения экономической жизни, с которыми самодержавие справиться не сумело, как не сумела позднее наша больница справиться с появившейся конкуренцией. Но учреждения против нравов запаздывают и приходят с ними в конфликт. Однажды, кажется, в «Русском курьере»[141], появилось юмористическое описание приема в нашей больнице за подписью барона Икс[142]. Оно было шаржем не вполне справедливым. Но оно возмутило наше начальство: «Как посмели так писать о государственном учреждении?» Хотели ехать жаловаться генерал-губернатору. К счастью, от этого удержали. Одна из черт патриархального быта состояла в том, что обществу критиковать не полагалось; его дело было благодарить за заботы о нем. Эта черта у всякого начальства была общая с самодержавием.
А нельзя не сказать, что тогда считалось нормальным многое, что сейчас бы показалось чудовищным. В больнице была домовая церковь; и в эту больничную церковь не пускали больных. Они могли присутствовать только на хорах да приоткрывали двери в соседние палаты, и туда могла издали доноситься церковная служба. Самую же больничную церковь наше начальство превратило в светскую домовую церковь для избранного московского общества. Приходившие сюда знатные люди не из чего не могли бы догадаться, что находились в больнице. Разве в Великую Пятницу и в Пасхальную ночь, когда крестный ход проходил по больничным палатам, откуда больных удаляли, то по отодвинутым к стене кроватям и надписям можно было понять, что это были палаты больных. Больные же удалялись еще дальше, благо помещений было много, и на крестный ход могли смотреть только через щелку двери. В церкви же публика была отобранная, аристократическая, не рисковавшая тем, что окажется рядом с простолюдином. И Керцелли со сдержанным восторгом в лице встречал высокопоставленных лиц, приказывал подавать им стулья по рангу и благодарил за посещение. Никому в то время не казалось скандальным, что церковь в больнице считали не местом утешения для слепнущих и слепых, а модною церковью для beau-monde’a. Не было протестов не только со стороны этого beau-monde’a, который мог бы понимать, что он делает, но и со стороны самих больных, печати и т. д. Прежние нравы не были все унесены горячкой 1860-х годов и еще сидели в душе. Не исчезло разделение на белую и черную кость. Помню и другие проявления этого. Огромный больничный сад был разделен на три части, из которых две лучшие и большие были отведены Грудеву и Брауну; для больных оставалась только средняя часть, меньше других. В этой части были построены летние бараки и туда переводились на лето больные; сад был так велик, что и эта часть для больных тесна не была; но сравнение с великолепным и большим садом, куда больных не пускали, должно было бы их возмущать. Когда я был студентом, я об этом заговорил с Керцелли. Он весело рассмеялся, видя в этом с моей стороны ребячество, для моего возраста извинительное.
Эти несимпатичные черты «барства» были только оборотной стороной того навеки исчезнувшего прошлого, которое доживало последние дни в 1880-х годах. Юность наблюдает не только отцов, но и дедов, и прадедов. Мы, поколение девяностых годов, помним не только шестидесятников, наших отцов. Мы застали еще некоторые красочные фигуры людей сороковых и даже тридцатых годов. В наши зрелые годы они исчезли со сцены, но тогда на них был еще особенный колорит уже нам непонятного времени.
Помню, например, старого человека, который у нас часто бывал; приезжал даже в деревню специально собирать грибы. Мы, дети, называли его обезьяной. Он был страшного, дикого вида, с всегда растрепанной шевелюрой, строгими глазами, которые смотрели на нас поверх золотых очков, нахмуренными бровями, седыми волосами, растущими на щеках, на горле и из ушей, с резким голосом, так что казалось, что он со всеми бранится, и ежеминутными вспышками раскатистого хохота. Все обращались с ним с особым почтением, а он всех всегда разносил, не объясняя причины. Нам нравилось, что от него так попадает и старшим. Я поинтересовался узнать, почему ему все позволяют? Мне объяснили, что это главный доктор Москвы. Такой ответ был понятен, но я удивлялся, почему же тогда нас лечат не у него? Это был не главный доктор, хотя он был врачебным инспектором[143].
Это был знаменитый Н. X. Кетчер. Позднее в нашей библиотеке я нашел на полках много неразрезанных томов перевода Шекспира, подписанных фамилией Кетчера[144]. То, что он написал столько книг, его в моих глазах подняло. Но я не понимал, зачем он переводит, а не напишет чего-нибудь сам. За разъяснением этого недоразумения я к нему обратился. Он загрохотал своим хохотом: «А ты думал, что я напишу лучше Шекспира?» На свой перевод он положил много труда, но, насколько помню, перевод никуда не годился. П. Шумахер написал про него четверостишие[145]:
Вот еще светило мира,Кетчер, друг шипучих вин,Перепер он нам ШекспираНа язык родных осин.Кетчер любил выпить, особенно шампанского. Тогда он много рассказывал, как всегда кричал и хохотал. Эти рассказы про старину в то время меня не интересовали. Как бы я хотел их послушать позднее!
Помню другого старика, чьи стихи сейчас я цитировал, – Шумахера. Долго мы его знали только по имени Петр Васильевич. Толстый, обрюзгший, с русой головой, еле подернутой серебром на висках, без признака лысины, без бороды, с мешками под глазами, вечно страдавший подагрой. Он приходил очень часто и всегда оставался подолгу; пока старшие были заняты, он молча сидел и курил янтарную трубку, с необыкновенным искусством пуская дым кольцами; то читал какую-нибудь книжку, то разговаривал с нами, детьми. Он нам рассказывал интересные и неожиданные вещи то про Сибирь, про места, где никто еще не жил, где звери и птицы человека совсем не боялись. Рассказывал, как однажды дикий олень к нему подошел со спины так тихо, что он не заметил, пока не почувствовал его дыхание уже на шее; в то время он был золотопромышленником и искал золотых россыпей в диких местах. То рассказывал, как служил при генерал-губернаторе Милорадовиче и как тот, подписывая подорожные, делал густой росчерк, бросая тут же перо (конечно, гусиное), а он должен был это перо подымать и обстригать[146]. Это был недостаточно оцененный и еще менее себя сам ценивший поэт П. В. Шумахер. Никто как следует не знал его прошлого. О нем можно было только догадаться по отдельным его рассказам: так, он был когда-то богатейшим золотопромышленником, а в какое-то другое время маленьким чинушей при генерал-губернаторе, и на нем был отпечаток старины. Как-то, еще не будучи гимназистом, я должен был вместе с ним поехать в наше имение. Я нашел его на вокзале, беспомощно сидящим, с багажом на скамейке. Он не сдал багажа и билета не взял. Я все это сделал. Он стал хвалить новое поколение, удивлялся, как это мы умеем сами все делать? «А нас как воспитывали, – говорил он, – ездили мы с целой ротой слуг, ничего сами не знали. Нам и подорожную пропишут, и смотрителя запугают, и лошадей достанут; зато теперь мы ничего и не умеем». В мое время он был разорен и жил гостеприимством друзей. Для него делали литературно-музыкальные вечера, где выступали лучшие артисты. Там я слышал еще совсем молодую М. Н. Ермолову; на них приезжал И. Ф. Горбунов, которого мне только там удалось услыхать. Но прежнее гостеприимство становилось не по карману. В последние годы П. В. Шумахера поместили в Странноприимный дом Шереметьева, дали ему синекуру – должность библиотекаря с жалованьем. Он получил доступ к книгам и был бесконечно доволен. Там он и умер. После его смерти я узнал не без изумления, что этот типично «русский» человек был лютеранином и потому погребен на Введенских горах.
Он был на редкость начитанным и образованным человеком; говорил на всех языках, много бывал за границей; был знаком с массой интересных людей (у него не прекращалась переписка с Тургеневым[147]). Но когда я его знал, он жил московской жизнью, ничем не занимался; первую половину дня сидел дома в халате, а на вторую собирался к кому-нибудь из знакомых и до ночи пил с друзьями вино, потешая каламбурами и остротами. Он был несравненно интересней и выше своей обычной среды и в ней опускался; он это хорошо сознавал, но к этому был равнодушен. По природе он был наделен редким юмором; вся манера его говорить серьезно, как бы вдумчиво, медленными фразами, из которых вдруг выскакивала неожиданная шутка, была для него характерна. Как-то у него болел палец; отец нашел, что нужно прижечь ляписом. «А у вас ляпис есть?» – осведомился он с интересом. «Есть», – и отец открыл шкап. «В таком случае не надо», – ответил Шумахер. Когда кто-либо передавал какой-либо слух или сплетню «из достоверных источников», Шумахер делал серьезное лицо и обстоятельно спрашивал: «А кто при этом был?» Все его рассказы о прошлом заставляли смеяться; во всем он любил и умел подмечать комический элемент.
Поклонник старины П. С. Шереметьев после его смерти издал книжку о нем и напечатал кое-что из его сочинений[148]; и при жизни его была выпущена тоненькая брошюрка его стихов под заглавием «Шутки последних лет»[149]. Там были перлы остроумия, которые грех забыть русской литературе; она, впрочем, до революции их и не забывала; забыт был только автор. «Записки русского туриста», «Не то», «Немецкая любовь», «Матушка Москва» часто читались на вечерах без упоминания автора. И это было ничтожной каплей того, что он вообще написал. Когда он проводил у нас лето в деревне, проходил редкий день, чтобы он по какому-либо поводу не написал шуточного стихотворения. Все это забывалось, выбрасывалось и терялось. Своих богатств мы не берегли. Кое-что оставалось в памяти, но забывалось. Так мне вспоминается одна его пародия на фетовское «Шепот, робкое дыхание»[150]. Привожу ее потому, что, кажется, она напечатана не была.
Незабудка на поле,Камень-бирюза,Цвет небес в Неаполе,Любушки глаза.Моря андалузскогоБлеск, лазурь, сапфир –И жандарма русскогоГолубой мундир.Была другая причина, почему после Шумахера мало осталось. Редко стихотворение его было печатно. Мне говорил Шереметьев, что это очень ему мешало, когда он издавал свою книгу. Но было бы ошибочно думать, что у Шумахера был особенный вкус к непечатной литературе; это просто больше подходило к атмосфере шуток и смеха, в которую он себя умышленно ставил, чтобы не быть меланхоликом. Напротив, он был тонким писателем серьезной, даже классической литературы. Когда я перешел в 3-й класс гимназии и стал учиться греческому языку, он мне подарил редкое издание «Илиады» и «Одиссеи» XVII века в пергаментном переплете. На первой странице написал посвящение гекзаметром.