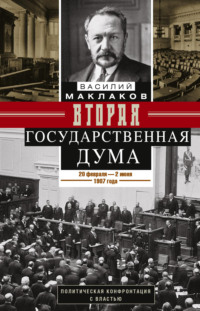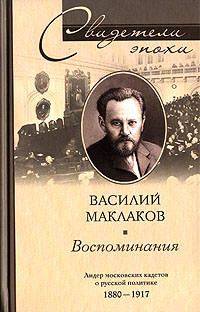Полная версия
Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника
Эта книга хранилась в нашей деревенской библиотеке. Ее сначала национализировали, а потом превратили в «народную» библиотеку. Можно представить, насколько эта книга там оказалась полезной.
Шумахер был бы оригинален повсюду. Жизнь его прошла через колебания большой амплитуды. Но он был все же типичен для России и особенно для Москвы старого времени; когда жили не торопясь, не толкаясь; когда «с забавой охотно мешали дела»[151]; когда люди вроде Чацкого попадали в сумасшедшие, в чем Грибоедов пророчески провидел судьбу Чаадаева; когда и время, и деньги, и таланты тратились без счета. Но в эти годы медленно уже шло молекулярное перерождение организма России. Исчезли типы покорных крепостных и дворовых паразитов, исчезали гостеприимные ленивые баре, появлялись nouivelles couches sociales[152]; прежние лень, благодушие и щедрость становились уже никому не по карману, жить становилось труднее и сложнее, уклад жизни требовал новых государственных приемов, которых не умело дать самодержавие. Все это настало позднее – 1880-е годы еще были «зарей вечерней»[153] прежней России.
Конечно, детские наблюдения односторонни; не я свою среду выбирал. Один мир был мне всегда чужд: это мир представителей власти, кроме опальных. Но в детские годы случайно мне пришлось немного прожить и в этом мире; он был того же стиля.
Я был в третьем классе гимназии, когда одна из моих сестер заболела дифтеритом. Детей из дому выселили. Я возвращался из гимназии, когда Морев меня домой не впустил и сообщил, что мы, трое братьев[154], переселены в дом московского губернатора и что я, не заглядывая домой, туда должен идти. По дороге в гимназию я ежедневно ходил мимо этого дома с внушительным подъездом, со стеклянной дверью, за которой внутри был всегда виден жандарм. Я отправился туда не без смущения. Мы прожили там до лета. Этот губернаторский дом был тогда уголком той же патриархальной Москвы 1880-х годов. Губернатором был В. С. Перфильев, женатый на Прасковье Федоровне Толстой, дочери знаменитого «американца» Федора Ивановича Толстого, о котором писали и Грибоедов, и Пушкин.
Великолепный портрет этого Ф. И. Толстого с интересным и своеобразным лицом висел у них в гостиной. Перфильевы были одни (женатый их сын жил отдельно[155]) и взяли на себя заботу приютить трех мальчиков, из которых старшему, т. е. мне, было 12 лет. У них был целый свободный этаж (по-русски – третий), куда нас и поместили, приставив на уход к нам одного из курьеров. Сам губернатор, Василий Степанович, видный старик с красным лицом, хриплым голосом и одышкой, с длинными седыми баками, был одним из представителей высшего света, отличной фамилии, принадлежащей по рождению к верхам русского общества. Он был из типа администраторов, которых Л. Толстой вывел в лице Стивы Облонского. Я не раз слыхал, что он имел в виду и его. Прасковья Федоровна была родственницей Льва Николаевича; и в первый раз в жизни я встретил Л. Толстого именно у Перфильевых. Он пришел туда в блузе, с легавой собакой, и меня удивляло, что так плохо одетый человек был на «ты» с губернатором. Стива Облонский к старости, когда он бы уже разжирел, когда не мог бы ни охотиться, ни увлекаться, вероятно, был бы таким, как Перфильев. Как Стива Облонский, Перфильев не хлопотал о карьере; по родству и связям с тогдашним правящим миром он не мог остаться без должности. Мало того, он мог ею и хорошо управлять. Потому что, как объяснял Толстой в «Анне Карениной», он был совершенно равнодушен к делу, которым занимался, и, следовательно, не мог бы ни увлечься, ни зарваться, ни наделать ошибок. А личная его порядочность, воспитанность и дружелюбное отношение ко всем сдерживали ненужное усердие его подчиненных. Позднее, когда жизнь осложнилась, этих качеств для администратора достаточно уже не было. Перфильев и не подошел к этому позднейшему времени, когда стало необходимо показывать непреклонность и нетерпимость. В его же время власть была еще настолько неоспоримой силой, что могла не быть ни высокомерной, ни жестокой. В то доброе старое время для успеха по службе не нужно было создавать себе «направления». Направление считалось принадлежностью parvenu[156], и оно для Перфильева не было нужно. Все это Толстой отметил в разговоре Серпуховского с Вронским. Перфильев мог не бояться ни знакомства, ни дружбы с людьми, которые были на дурном счету в Петербурге, и за эту нетерпимость над Петербургом смеялся. Таков был не один Перфильев, но и все наши власти: и знаменитый московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков, и обер-полицмейстер А. А. Козлов, и другие, которых я встречал у Перфильевых. Административная машина работала настолько правильно, что в переделках и не нуждалась. Все могло идти как шло прежде.
Этот тон высшего начальства усваивался и подчиненными. Правителем канцелярии у Перфильева был тогда В. К. Истомин, позднее управлявший канцелярией великого князя Сергея Александровича и ставший опорой реакционной агрессивной политики. У Перфильева он был, как и все, обходительным и добрым человеком, который никому не мог показаться грозой. Поскольку я мог наблюдать и понимать свои наблюдения, труд губернатора тогда не был головоломным. Помню по утрам многочисленных просителей в громадном приемном зале и чиновников в вицмундирах, которые принимали их со строгими лицами. В этих строгих чиновниках мне было бы трудно узнать вечерних партнеров в карты Перфильева. Иногда меня посылали звать его к завтраку; я заставал его за бумагами, которые он подписывал не читая. На мое любопытство, как он может так делать, он объяснял едва ли с полной искренностью, что он их все уже раньше прочел. Иногда в окно, выходившее на лестницу, ведущую к нам, в третий этаж, я видал заседания присутствия под его председательством[157]; оживленные споры; говор и хохот, что мало вязалось с детским представлением о государственном деле. После обеда, по-тогдашнему – в 6 часов, у Перфильева был только один вопрос – где он будет играть. Без карт по вечерам его себе представить было нельзя. Он либо шел через улицу в Английский клуб, или играл у себя со своими чиновниками. Через несколько лет Перфильев, как-то бывши на ревизии, неожиданно приехал к нам в имение. Несмотря на прекрасную погоду, после ужина был поставлен карточный стол и из кого-то составили партию, хотя в это время сам отец никогда не играл. Без карт Перфильеву нечем было бы время занять.
А в молодые годы Перфильев, говорят, был живым, веселым и остроумным; великолепно танцевал и, как говорили, вообще был повесой. Его жена рассказывала, что однажды он проиграл даме, за которой ухаживал, пари à discrétion[158]; она в насмешку потребовала, чтобы он съел сырую мышь, и он это сделал, но был огорчен тем, что она после этого из брезгливости танцевать с ним не стала. Из прежних талантов его у него сохранился один: он умел виртуозно расшифровывать шифр. Стоило вместо букв написать ему короткую фразу условными знаками – он тотчас ее разбирал. Когда я в первый раз, по совету его жены, подал ему такую записку, он обрадовался, что мог тряхнуть стариной. В несколько минут ее разобрал, несмотря на ошибку, которую он тут же заметил. Так русская барская жизнь того круга, который тогда правил Россией, формировала симпатичные типы добрых людей, которые вертели колеса налаженной административной машины без оживления и одушевления, не требуя от других низкопоклонничества и себя не роняя угодничеством. Консервативные по темпераменту, эти администраторы не приходили в озлобление ни от либеральных людей, ни [от либеральных] идей, и их не считали опасными. Это были администраторы мирного, не боевого времени. Позднее, при начавшейся борьбе общества с властью, они оказались негодными, ушли сами или их заставили постепенно уйти. Началось иное время, разделение всего общества на два лагеря, и стали почитать тех, кто умел и любил воевать.
Несколько слов о жене губернатора, Прасковье Федоровне. У нее была сестра Сарра, портрет которой я видел у них в гостиной. Эта сестра была замечательной красавицей, любимицей отца, и из недомолвок я догадывался, что она погибла рано какой-то трагической смертью[159]. Сама же Прасковья Федоровна была образованной, светской, воспитанной, но ничем не замечательной и очень некрасивой женщиной. Ей было скучно жить; ни принимать, ни выезжать она не любила. Ее досуг наполняли собачка King Charles[160], обезьяна Уйстити и вечное раскладывание пасьянсов. Мы, чужие дети, явились для нее не столько заботой, сколько неожиданным развлечением. Она усердно каждый вечер обучала нас светским манерам. У меня к этому способностей не оказалось, но брат Николай, будущий министр[161], это любил, многому у нее научился, и она его за это очень ценила. У нее было привычное в старой высшей аристократии благожелательное отношение к низшим. Представители этого круга были так уверены в прочности своего положения, что низших не боялись и могли позволить себе роскошь благожелательства. Жестокое отношение к ним могло возмущать, как возмущает жестокость к животным. Таков был и ее грозный отец Американец Толстой. На это она любила указывать. Молодой девушкой она однажды с ним каталась верхом; они встретили 80-летнего мужика, с которым ее отец разговаривал. Она уронила платок и сказала старику: «Пожалуйста, подымите платок». Ее отец сказал ей: «Vous autrez bien pu le faire vous même»[162], – и незаметно пребольно хлестнул ее хлыстом по руке. Впрочем, такое уважение к старости, вероятно, не мешало Американцу Толстому непослушных засекать на конюшне.
Так в 1880-х годах нам еще приходилось видать представителей отошедшей в вечность эпохи дореформенной России. Но они исчезали из государственного аппарата и из общества одновременно с богатыми усадьбами, особняками, властным поземельным дворянством и скромным «именитым купечеством». На смену им шли новые типы удачливой, предприимчивой, знавшей цену себе «демократии», которых звали тогда «разночинцами». Обострялась борьба за существование, в политике возникали «вопросы», о которых не снилось благодушным представителям старых патриархальных властей.
Конечно, среди общества были люди, которые понимали, что происходит, и мечтали сдвинуть политику в новую сторону еще тогда, когда «освободительное движение» не начиналось. Сравнивая этих людей с позднейшей эпохой, я не могу не отметить одной их особенности. Они не только не сводили всего к борьбе с самодержавием, не считали, что уничтожение его есть предварительное условие всякого улучшения. Они часто предпочитали самодержавие конституционному строю.
В 1880-х годах людей с подобными взглядами не нужно было искать только среди реакции; их можно было видеть повсюду, среди разнообразных партий и направлений. Я для иллюстрации приведу два примера совершенно различных формаций.
Возьмем среду славянофильства. Помню, с каким безусловным осуждением конституционалисты к ним относились. Они разоблачали славянофильство с не меньшей страстностью, с какой коммунисты долго клеймили социал-демократов. Социал-демократов коммунисты обвиняли за «соглашательство» с буржуазией. Славянофилов винили тогда за преданность самодержавию. Но и самодержавие относилось к славянофильству не лучше, чем конституционалисты. «Приятие» самодержавия не мешало славянофилам его политику обличать. Этого самодержавие им не прощало. Так было при Николае I, так было и позже. Александр III при вступлении на престол мог сказать А. Тютчевой несколько лестных слов по адресу статей ее мужа И. С. Аксакова, но его политике он не последовал[163]. А вдохновителей реакции славянофильская критика того времени била больнее, чем конституционные аргументы; точно так, как для коммунистов обличения социал-демократов теперь чувствительней, чем негодование легитимистов.
Вспоминая позицию славянофилов в эпоху восьмидесятых годов, я не могу признать, чтобы нападки на них были ими заслужены. Стремление славянофилов исправить самодержавие могло быть полезно. Сужу так потому, что в мои юные годы мне пришлось близко знать одного незаурядного славянофила, Павла Дмитриевича Голохвастова.
Он был нашим ближайшим соседом по имению и местным мировым судьей. Был сыном того Д. П. Голохвастова, близкого родственника А. И. Герцена, который при Николае I был попечителем Московского учебного округа и о личности которого Герцен в «Былом и думах» сообщил много ядовитого[164]. Голохвастов жил в Покровском, одном из дворянских гнезд Московской губернии, где не раз гостил Герцен. После смерти П. Д. Голохвастова это имение было куплено С. Т. Морозовым. Он отремонтировал его на современный лад, с проведением воды, электричества и телефона. К слову сказать, тот же С. Морозов купил и полностью уничтожил знаменитый дом И. С. Аксакова на Спиридоновке с громадным садом, в котором в самом центре Москвы можно было слушать весной соловьев. На месте этого дома был построен особняк-замок Морозова; старый сад был вырублен, вычищен и превращен в английский парк. Так символически прежнее родовое дворянство уступало место разбогатевшей буржуазии. В деревне Савва Морозов был менее радикален; он сохранил старый каменный дом и только пристроил к нему новое здание, более современного стиля. Во всем хозяйстве появился порядок. С крестьянами было произведено размежевание, восстановлены настоящие границы владения; все окопано канавами и обнесено межевыми столбами; закрыты самовольные дорожки через барскую землю; проселки везде заменились шоссейной дорогой, на канавах и речках поставлены мосты из железа, болота осушены, сторожки лесных сторожей превращены в каменные дома с железными крышами; словом, везде проступало цивилизующее могущество капитала. Прежний запущенный сад был приведен в образцовый вид, и только в качестве реликвии сохранена часть старого каменного забора в одном углу этого сада. С этого забора, по просьбе Ф. Родичева, я снял фотографию для Общества имени Герцена[165]; забор видал еще Герцена. Голохвастовы свято чтили память своего отца; у него была известная слабость к рысистым лошадям; его гордостью был знаменитый Бычок, о котором вспоминает и Герцен[166]. Подлинное стойло Бычка с такой памятной надписью, которую можно сейчас увидать на домах, где жили или умерли великие люди, сохранялось Голохвастовыми до самой их смерти. На месте этой конюшни Морозов построил другую, образцовую, с последним словом комфорта, о котором в свое время не снилось Бычку. П. Д. Голохвастов жил в своем родовом имении вместе со своим братом Д. Д. Голохвастовым, предводителем[167] и деятелем эпохи Александра II, общепризнанным лучшим оратором этого времени, сказавшим когда-то на Московском дворянском собрании нашумевшую речь вольного, хотя и чисто дворянского содержания, за что был по высочайшему повелению лишен предводительства и выслан в деревню[168]. Об удивительном красноречии этого человека я потом слыхал от Л. Н. Толстого. В то время, которое я помню, он был уже руиной, разбитым параличом и совершенно глухим. Его возили на коляске и с ним разговаривали лишь по запискам. Он прошел мимо моего наблюдения. Зато его брата П. Д. я помню отлично, и он был сам интересной фигурой.
Широко образованный по понятиям того времени, говоривший свободно на четырех языках, исколесивший все европейские страны, по внешности и манерам он представлял истинный тип европейца. Он и в деревне ходил не иначе как в европейском костюме, с крахмальным воротничком, охотно разговаривал на иностранных наречиях, был знатоком французских вин и курил только дорогие сигары. Со всем тем он был одним из могикан славянофильства. Он изъездил Европу только затем, чтобы прийти к заключению, что Россия выше всего. Это предпочтение сказывалось во всех мелочах. У него была удивительная память на тексты, и на стихи, и на прозу. Он любил говорить о превосходстве русской литературы, цитировать на память баллады Шиллера, а потом их же в переводе Жуковского и тонко доказывал, насколько перевод выше подлинника. Он всегда с радостью отмечал всякое русское преимущество. Он рассказывал, как ездил к Герцену объясняться за несправедливость, которую тот допустил в оценке его отца, Д. П. Голохвастова. Он уверял, будто Герцен это признал и перед ним извинился. Но, рассказывая об их разговоре, он с особенным удовольствием передавал, как, увлеченный воспоминаниями о России, Герцен сказал: «Вот вам крест, – и уже начал крестное знамение, но, поймав себя на таком несовременном жесте и выражении, улыбнулся и, протянув ему руку, окончил: – вот вам моя рука: если бы я мог знать наверное, что, вернувшись в Россию, буду сослан в Сибирь, но смогу пережить время ссылки и вернуться в Россию живым, даю вам слово, что тотчас бы вернулся». Голохвастов много занимался русской историей; писал ряд монографий[169]. У него была полемика с В. О. Ключевским о древнерусском «кормлении». Голохвастов доказывал, что термин «кормление» происходит не от слова «кормиться»; мысль, будто верховная власть посылала чиновников «кормиться» от населения, ему казалась кощунством над русскою стариной. Термин «кормление» он выводил от корня «корма», «кормчий», что значило – управление. Власть посылала не «кормиться», а «управлять»[170]. В полемике с Голохвастовым Ключевский был очень резок по его адресу. Судьба их свела потом в нашем доме; не знаю, была ли встреча приятна обоим, но они скоро разговорились, увлеклись и заспорили. Целый вечер препирались о значении слова «бобыль». Но Голохвастов не только занимался историей. Однажды он чуть не сделал большого политического дела в России. Я мальчиком присутствовал при его рассказе о несостоявшемся Земском соборе 1882 года, который был затеян министром внутренних дел гр[афом] Игнатьевым, за что он и должен был выйти в отставку. По словам Голохвастова, идея Земского собора принадлежала ему[171]. Я был тогда слишком мал, чтобы понять интерес этого рассказа. Но не раз его вспоминал, когда в оглашенных в последнее время документах стал встречать упоминания о роли П. Голохвастова в этой попытке[172].
Восстанавливая в памяти фигуру этого Голохвастова, я не могу его зачислить в разряд ретроградов. Этот взгляд был бы слишком упрощен. В 1882 году Голохвастов чуть не устроил Земского собора в России; он постоянно негодовал на стеснения совести, слова и печати; был по религиозным мотивам непримиримым противником смертной казни. При добрых личных отношениях с правящими сферами, в частности с Победоносцевым, он возмущался их политической линией, считая, что она губит монархию. Он вообще стоял за личность и за свободу. Как славянофил он не был противником общины, но возмущался той властью, которую государство в своих интересах дало сельскому обществу над отдельными членами, негодовал на «проклятую» круговую поруку. Он беспощадно клеймил крестьянских «ростовщиков» и «кабатчиков», настаивал на лишении их всяких избирательных прав, как представителей, может быть, необходимого, но «нечестного» занятия, которое можно терпеть, но не оправдывать; но горячо защищал зажиточных крестьян, по большевистской терминологии – кулаков, достигших достатка честным трудом; я помню, как он возмущался уничтожением мирового суда[173] и как горько пенял на Александра III, которого считал не волевым, не сильным, а только упрямым. Припоминаю его отзыв о реформе 1889 года, о земских начальниках. Его утешала только вера в благородство русской души, которую не надо смешивать с модной âme slave[174]. В Европе, говорил он, земские начальники просто восстановили бы крепостное право; у нас они будут стараться принести посильную пользу крестьянам, но принесут только вред. Многие взгляды Голохвастова сближали его с либерализмом; но, горячо порицая политику Александра III, Голохвастов оставался убежденным сторонником самодержавия. Он считал конституционный порядок гибелью для России и началом развращения общества. Он осуждал русских либералов, самых честных его представителей, вроде Арсеньева, Стасюлевича. «Вестник Европы», с его европейскими взглядами, был, по его выражению, только помоями, которые с корабля выливают на море. Это – грязь, но грязь лишь наносная, под нею чистое народное море, которое этой грязью не замутить.
Когда я был студентом, мне часто приходилось разговаривать с Голохвастовым; и уже тогда я становился в тупик перед вопросом, куда его отнести: к «реакции» или к «прогрессу»? Правда, он был поклонником самодержавия, и это казалось большим недостатком; но самодержавию он поклонялся лишь потому, что одно самодержавие, по его мнению, было способно служить народу «действенно» и «бескорыстно». Такой мотив с Голохвастовым примирял. К тому же Голохвастов не принимал самодержавия без самоуправления. Он любил напоминать, что и местное самоуправление, и общерусский Земский собор впервые расцвели именно при таком идеалисте самодержавья, каким был Иван Грозный. Голохвастов мистически верил, что глас народа – глас Божий, и потому верил в Земский собор. Земский собор, по его мнению, ошибаться не мог. Он как-то прочел свое сочинение (не знаю, было ли оно напечатано) о Соборе 1598 года, который избрал Годунова на царство[175]. Голохвастов держался на Годунова отброшенных теперь наукой взглядов. Он считал избрание недостойного Годунова ошибкой, но не мог допустить, чтобы Земский собор смог ошибиться. И потому он пришел к парадоксальному выводу, будто Земский собор был подтасован, что его не было вовсе, а что только потом по позднейшим образцам от имени Собора написали подложную грамоту. Все это Голохвастов доказывал кропотливым изучением текста грамоты и состава Собора. Но признавая, что «глас народа – глас Божий», Голохвастов не считал гласом народа простое мнение его большинства. В этой замене одного понятия совершенно другим, в раболепном преклонении перед принципом большинства, т. е. перед цифрой, он видел всю зловредную «ложь конституции». Из погони за числом голосов развивается политический разврат нашего времени, необходимость партий, партийной дисциплины, обязательной партийной лжи и т. п. Царь не может идти против народа, думал Голохвастов. Перед его единодушием он всегда преклонится. Отличием Земского собора от парламента должно было быть требование единогласия; только оно для царя обязательно. Но если единогласия нет, нет и голоса народа; есть только отдельные мнения. Из них – и это отличие от liberum veto[176] – царь по разуму и совести свободен выбирать то, которое считает полезнее. В этом и состоит истинное дело царя, быть арбитром; такой способ решения разномыслия разумнее, чем механический подсчет голосов.
Вот чему верил Голохвастов; пусть это идиллия, над которой «умные» люди позднее смеялись. Это не мешает тому, что в критической части славянофильства были верные мысли. Их идеал был сам по себе беспощадным обличением нашего полицейского самодержавия, при котором в стране не могло образоваться ни общего народного голоса, ни даже отдельных мнений. Учение славянофилов в сравнении с тем, что было в России, вело Россию вперед, не назад. А что касается до их критики конституционного строя, то восстание против принципа большинства, как ultima ratio[177] для разрешения спора, против замены «разума» голосующих «партийной дисциплиной» указывало на действительно слабые стороны народоправства. Эти стороны, может быть, его неизбежное зло, но все-таки зло, которого нет смысла скрывать.
Но со славянофильством можно было не церемониться; с момента своего возникновения оно встречало насмешки. Наконец, оно не было народным движением, не выходило за пределы верхушки интеллигенции. Среди общественных настроений оно могло считаться quantité négligeable[178]. Но возьмем другое течение, более популярное в толще демократической интеллигенции, вышучивать которое решился только агрессивный юный марксизм, это – народничество. А это течение при всей ненависти к режиму, который установился в России, тоже не видело единственного спасения в конституции. По этому поводу я хочу вспомнить об одном москвиче – Л. В. Любенкове, о котором молодое поколение не знает и никогда не узнает. Любенков в «историю» не перешел; он болезненно боялся всякой рекламы; нельзя было бы представить себе его сообщающим журналистам о том, как он «живет и работает»; он убежал бы от попытки устроить ему какое-либо публичное юбилейное чествование. Лишь когда он был разбит параличом и в [Московской] городской думе был поставлен вопрос о назначении ему пенсии, его имя и перечень его заслуг перед городом попали в печать. Можно было тогда увидеть редкое зрелище, как на исключительном уважении к Любенкову сошлись все решительно гласные. Он скоро скончался, и никто пышных некрологов ему не посвятил. Но москвичи, особенно судьи, его не забудут. Если можно делить всех людей на честолюбцев (спортсменов) и праведников, Любенков был праведником общественной деятельности. Сам он оставался в тени, выдвигал вперед молодых, уклонялся от ответственных должностей, но по моральному авторитету был вождем и учителем. При нем становилось стыдно «мелких помыслов и мелких страстей»[179]. Наблюдая его, я понимал влияние тех людей, кого народная память называла «святыми».