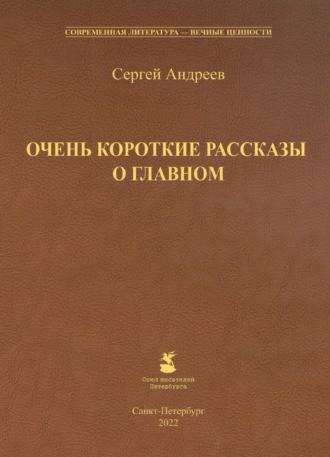
Полная версия
Очень короткие рассказы о главном
– Мои деньги.
Она протянула ему несколько бумажек, он пересчитал их, сложил и сунул в наружный карман, кивнув и не проронив ни слова. Медсестра вышла к стойке регистратуры и о чём-то шёпотом рассказывала служащим. Те смотрели на мальчика, который уже надевал в гардеробе пальто. Женщина набросила лёгкий плащ, они с мальчиком вышли и направились на стоянку возле клиники, где был припаркован их автомобиль престижной модели.
Мальчик шёл к машине, спокойно глядя по сторонам. По нему уже не было заметно, что он недавно плакал. Иногда он дотрагивался до ноющих губ пальцем и нажимал на дёсны там, где болело.
Мать уселась за руль, мальчик – рядом. Он привычно пристегнулся ремнём и, когда машина тронулась, подвёл внутри какой-то баланс.
– Осталось заработать ещё четыреста, и куплю компьютер, – констатировал он. – Поставлю специальные программы, выучу математику за всю школу вперёд. И поступлю экстерном в институт.
– Да мы с Павлом Семёнычем тебе что хочешь можем купить, – откликнулась дама, выруливая со стоянки. – Что за упрямство такое?
– Я сам себе всё сделаю, – ответил мальчик. – И стану продвинутым, как папа. А Павлу Семёновичу твоему я ничем обязан не буду.
Они замолчали. Дорога стелилась под колёсами; город, как и всегда днём, был забит транспортом, и в пробках иногда приходилось простаивать подолгу.
Мальчик смотрел на дорогу тем же спокойным, уверенным взглядом. Он точно знал, что всё, что задумано, у него получится.
Парад в честь Дня Победы
Я – из числа тех последних, которые не только видели Вторую мировую, но и воевали. Я – из уходящего поколения и, наверное, единственный, кто четыре раза бежал из фашистских концлагерей, в том числе Майданека. Меня ловили, пытали и снова бросали за проволоку, а я находил способы и вновь сбегал. Один раз пришлось сутки лежать в повозке под трупами – удалось поменяться с покойником номерами на робе, меня вывезли в лес и закопали в общей яме. Как я оттуда выбирался, рассказывать не буду, и без того понятно.
Я воевал за нашу страну – великий Советский Союз – и присягал нашему флагу, а не всей той сволочи, которая сегодня правит Россией. Всё, что я вижу вокруг, – это торжествующая мразь, жиреющие нувориши, а народ-победитель живёт в нищете и не смеет даже рта открыть, чтобы высказаться вслух.
Так вот: я скажу!
Два последних года я ношу в ухе аппарат, без которого вообще ничего не слышу. И, чтобы вы знали: я почти всё время держу его выключенным, потому что не желаю слышать враньё, которым нас пичкает власть. Телевизор я не смотрю по той же причине.
Но сегодня, в семьдесят пятый День Победы, я надену все свои ордена и медали, включу слуховой аппарат и приду на телестудию, куда меня вызвали вместе с другими ветеранами для торжественного, как они сказали, разговора в прямом эфире. Я им устрою разговор!
Жить мне, понятное дело, осталось недолго, и после того горя, что довелось пройти, бояться мне нечего. В сорок четвёртом в гестапо мне, пацану, ломали пальцы, когда дознавались, откуда и как я оказался на закрытом объекте, да ещё с немецким «вальтером» в кармане. Откуда мне было знать, что там был за объект? Я три дня назад бежал из шахты, где нас заставляли таскать уголь, а поляк, мой напарник, скрутил в штольне шею надзирателю и забрал у него пистолет. Мы тогда поднялись наверх вместе с другой сменой и ушли через окно раздевалки, имея в запасе три часа, пока не кинутся искать. Поляка застрелили полицаи в соседнем городишке, а я по руслу ручья ушёл от собак. Ночью, пробираясь оврагами, я оказался в укрепрайоне, где меня оглушили прикладом по голове, а потом доставили в гестапо и начали допрашивать… Оказалось, объект был под усиленным контролем, а я прошёл незамеченным сквозь три кольца охраны. Повезло, что не застрелили сразу. Я и оттуда бежал, добрался до своих и закончил войну в рядах Красной армии, а вот сегодня я должен выступать как ветеран, о котором власть якобы проявляет заботу. Нужно сказать в адрес этой власти несколько слов благодарности.
За что?
За ту нищенскую пенсию, которую имеют в нашей стране старики? За опустевшие поля, на которых никто не сеет, потому что все продукты везут на прилавки из-за границы? За остановившиеся заводы в маленьких наших городках, где раньше люди и жили-то только потому, что имелась работа, а теперь предприятия встали, а население спивается от безнадёги… За это им – спасибо?! Или за поколение наших внуков, не желающих учиться, не создающих семьи и не рожающих детей?
Сегодня, в прямом эфире, я плюну в лицо этой власти от имени тех, кто имеет на это право. Не для вас мы отвоёвывали каждую пядь земли. Не вам мы приносили себя в жертву. Россия терпит пока ещё вас, словно вшей на своём теле, но вы так расплодились, что скоро нашу страну ждёт большая дезинфекция!..
Так я всё вам и скажу, и это станет моим личным парадом Победы. Что вы мне сделаете – арестуете? Меня это не пугает. Убьёте где-нибудь в подворотне, якобы хулиганским образом? Я и этого не опасаюсь, потому что прошёл через такой ад, который вам и не снился. Отнять вам у меня нечего, даже квартиры сносной власть мне не дала, так и живу в коммуналке – за все мои старания.
Сегодня вся страна, вся наша Родина услышит мои слова. Люди должны знать правду! А потом я снова выдерну из уха свой аппарат, и пропадите вы пропадом, власть имеющие! Я выйду на Красную площадь и пройду по ней гвардейским маршем, звеня своими наградами.
Отдаю честь российскому знамени и снова присягаю своей Отчизне.
Служу России!
Атаманский округ
IПосёлок в оренбургской глуши, когда-то известный на всю округу своим колхозом, теперь тихо вымирал. Народец спивался, молодёжь колобродила, потому что работы почти не стало, а если кто-то из селян ещё строился или находилось дело в колхозе – все подряды забирали себе шабашники, приехавшие своей общиной с юга и заправлявшие здесь силой. Крупное в прошлые годы хозяйство развалилось, председатель даже сев и уборку как следует наладить не мог, а уж содержать стадо – тем более.
В ночь на первое марта, по самому ещё снегу, в крайнюю со стороны шоссе избу незаметно вернулся домой из тюрьмы невзрачный, вжавший голову в плечи человек.
Звали его Пётр, и свои пять лет за глупую аварию, когда погиб человек, он протянул от звонка до звонка.
Всё, что на зоне могло случиться худшего, с ним случилось. Он и раньше, до тюрьмы, нрава был тихого, а теперь и вовсе выглядел забитым и вздрагивал от каждого резкого звука. В свои тридцать он выглядел много старше, с лица был худ, с потерянными глазами. Дома его ждали мать и брат Павел – человек хмурого вида, на пять лет старше, неженатый. На широком подворье стояли в хлеву коровы, водилась птица, отдельно находился свинарник – хозяйство было справное, но всё это Пётр увидел уже назавтра, потому что вечером поел, упал в постель и проспал двенадцать часов не открывая глаз.
Неделю он приходил в себя, не высовывая со двора носа. За это время брат рассказал ему все новости, из которых хороших было мало. Например, о том, что бывшая жена Петра уехала к своим в Курск, велела её не тревожить.
Вместе братья нарубили дров, подправили колодец, и тогда Павел предложил:
– Давай привезём маленькую лесопилку – я тут присмотрел, недорого. А то в селе доску на домовину взять негде – ни гроб, ни крест не сделать.
Пётр до тюрьмы работал в райцентре экономистом, он что-то посчитал на бумажке и, всё ещё робко, согласился:
– Давай.
Он никак не мог привыкнуть к воле.
Прошло две недели, и на тракторе с прицепом прибыло оборудование. Место для станков приготовили заранее, по разметке залили фундамент. Станки сгрузили, долго налаживали, после чего за пару дней соорудили над ними навес и расширили въезд в ворота. Треть двора отвели для будущего склада и прикинули, как будут вставать машины под разгрузку. Всё вроде бы получалось как надо.
Братья съездили в ближайший леспромхоз, договорились о поставке брёвен. Первую небольшую партию купили за наличные, остальное нужно было оформлять на реализацию.
Кругляк отбирали сами, и, пока работали, стало заметно: солнце днём стало пригревать, а снег до рези слепил глаза.
Весна готовилась наступить.
IIСтарший брат, Павел, жил в селе безвыездно и знал всю администрацию по именам.
Разрешение оформили быстро – теперь можно было начинать дело. Доска лежала во дворе, двое рабочих и бригадир нарезáли брёвна циркулярной пилой, складывая сделанные доски и перемежая их для удобства поперечинами из бруса. В местной газетке поместили объявление, но по сарафанному радио всё было давно известно, и в первые же несколько дней заготовленные доски вывезли подчистую. Можно было готовить следующую партию, и тогда во двор заглянули двое южан – из тех, что здесь шабашили и, как поговаривали, хорошо подружились с председателем колхоза.
Один из них походил по двору, полному опилок и щепы, другой сразу же подошёл к Павлу:
– Ты здесь главный? Свою доску только нам продавать будешь. Цену мы тебе сами назначим.
Когда они ушли, Павел сел, обхватив голову ладонями, и долго молчал.
За воротами маячили несколько фигур, потом вошли, и Пётр, стоя на крыльце, увидел подростков. Те переминались у входа, потом старший, лет восемнадцати, двинулся вперёд, остальные за ним.
– Ты тут… из тюрьмы вышел? – спросил у Петра парень. – Короче, заели нас эти кавказцы. Надо что-то делать.
Пётр глядел, ничего не понимая. Сзади подошёл Павел, спросил у парня:
– А вам-то чего?
– Избили вчера нашего, – пояснил тот. – Ножами грозят, их тут человек сорок. Если одного тронешь, остальные хором наваливаются.
– А вас сколько? – спросил Николай.
– Да тоже вроде того. Только нам никак не собраться: кто трусит, кто пьёт. Вот мы и пришли… гнать их надо, оборзели вконец. Говорят, это их земля.
– Чья?!
– Ихняя! – заголосили подростки разом. – Скупить хотят все угодья! И родственников своих уже привезли, чтобы дербанить тут всё вокруг, власть над нами держать.
Милицию купили… Ты скажи, – обратился парень к Петру, по-прежнему растеряно молчавшему, – как нам быть? Раз ты… это… ну, сидел – значит, знаешь! Будешь у нас за старшого. Мы тут поговорили, в общем – согласны.
Петр обвёл пацанов глазами. Тех было пятеро. Молчание длилось. Сбоку вмешался Павел:
– Соберите корешей, приходите через два часа, мы тут всё обмозгуем.
– Придем, – обрадовались подростки, – всех соберем, не бойсь!
Они с гомоном вышли, а Павел повернул к брату свое тяжёлое лицо и сказал:
– Ты кто?
Пётр в недоумении молчал. Он вообще хотел бы оставаться на третьих ролях, а тут его со всех сторон донимали.
– Ты казак, – уточнил Павел. – И дед наш, и отец были оренбургскими казаками.
У этих пацанов родители тоже из наших – будем сход объявлять.
– И… что? – робко поинтересовался Пётр. Его худое лицо не выражало ничего, кроме растерянности и привычного затаенного страха.
– Будешь у нас атаманом, – как о свершившемся факте, заявил Павел. – Слыхал, почему к тебе молодые приходили? Им главный нужен, ну а ты у них – в авторитете: сидел.
– Да какой там авторитет!.. – почти выкрикнул Пётр. – Я же…
– Будешь атаманом, и всё! – оборвал его Павел. – А командовать я за тебя стану. Ты только кивай… Пора жизнь налаживать, братан, понял?
Тот понял, поэтому потерянно согласился.
Через два часа набился полный двор народа. На крыльце расхаживал Павел, строго поглядывая на толпу молодых, которые переговаривались и курили. Все ждали Петра, и когда он вышел из дверей хаты, в один момент смолкли.
Тот был в чёрной куртке, штанах с тёмно-синими лампасами, в сапогах, а на голове у него красовалась дедовская каракулевая папаха. Пётр остановился на крыльце возле перильцев и молча глядел на толпу, а толпа глядела на него.
– Слушать сюда! – зычно гаркнул Павел, возвышаясь рядом с братом. – Мы с вами казаки, и отцы у вас тоже казаки! Мы – сила! Нас хотят положить на землю, но мы сами кого хочешь положим! Будем выбирать казацкий круг… кто за старших, выходи вперёд, к крыльцу.
Несколько человек продвинулись сквозь толпу, ещё двоих-троих выпихнули свои.
– Десять надо! – рявкнул Павел. – Ещё давайте. Так, хорошо. Каждый из них будет командовать десятком своих пацанов, выстраивайтесь, кто с кем вместе.
Пацаны разбились на группы, многие стояли теперь по пять-шесть человек.
– Нашим атаманом будет Пётр, – рявкнул Павел, показывая на брата. Тот по-прежнему ни слова не проронил, внутренне обмирая от страха и стараясь хотя бы не прятать голову в плечи. – Вы сами так решили! Любо!.. – крикнул он.
Кто-то из толпы поддержал.
– Не слышу, – прорычал Павел. – Ещё раз, вместе: любо!!!
Теперь толпа заорала в голос, наслаждаясь своей общностью.
– Пусть сегодня каждый поговорит с родителями. В восемь часов собираемся возле церкви, кто может, приведёт отца. Женщин не брать! Не ихнее это дело. Разойтись! – крикнул Павел. – Десятникам остаться…
План был разработан, хотя не то чтобы до мелочей. Павел сходил на почту и позвонил кому-то в Оренбург. Пацаны разошлись готовиться, двое остались – стали сбивать длинную лавку из подручного материала.
Пётр наконец-то смог зайти в дом, сел на стул возле печи и потерянно уставился в окно.
– Не дрейфь, – сказал ему Павел, – я подмогу вызвал.
Подмога прибыла часа через три. По наезженной колее с трассы въехали во двор три крупногабаритных джипа, потом заехал автобус. Оттуда выбрались десятка полтора человек, чем-то похожих друг на друга, – наверное, бородами и пятнистой униформой. Кое у кого были чехлы с охотничьими ружьями, они не торопясь их распаковали, надели патронташи и выслушали вводную.
– Пошли, – скомандовал Павел. – А ты дома сиди, не высовывайся, – приказал он брату. – Тебя там видеть не должны.
Ровно в семь часов в той части села, где жили шабашники, грохнули выстрелы в воздух и вскинулось пламя. Горели вагончики, где жили пришлые. Самих их, со связанными руками, выводили по нескольку человек на главную площадь и, положив лицом вниз на лавку, со свистом пороли нагайками. Молодые пацаны держали, бородатые мужики отмеривали по пятнадцать ударов плетью. Тех, кто пытался сопротивляться, избивали в кровь, одному, выхватившему было нож, разбили голову прикладом. Собравшаяся на площади толпа смотрела на происходящее, не до конца всё понимая, но с одобрением.
Пришлых построили и под конвоем вывели за деревню – кто в чём успел выбежать из вагончика. Вслед им дали залп, кого-то задело дробью, и тот гортанно закричал. Потом всё смолкло.
– Граждане, – выкрикнул во всеуслышание Павел, встав над толпой на лавке, – мы свободные люди! С сегодняшнего дня здесь командует казачий сход.
За это время Петра привели из дома, всё так же наряженного в папаху, штаны с лампасами и сапоги. Павел буквально выдернул его наверх, к себе на лавку, и, показывая толпе, объявил:
– Это наш атаман!
Он поднял руку Петра вверх, и тот увидел, что в руке у него зажата нагайка:
– Любо! – крикнул Павел. – Любо!!! – заорали молодые с разных концов площади, а за ними и те, кто постарше. Крик этот, ширясь, понёсся куда-то в заснеженную степь и, отзываясь эхом, долго не умолкал в вечерней тишине.
IIIЗа два года всё изменилось радикально. Колхозных коров раздали в личные подворья, туда же развезли по три центнера комбикормов – бесплатно. Казачья община арендовала всю землю, ранее принадлежавшую колхозу, и земельный пай теперь оказалось невозможно продать на сторону без решения схода. Взамен каждый землевладелец получал от общины процент от урожая: все работали на всех.
Схему эту ещё в тюрьме придумал Пётр, она позволяла собрать остатки средств в кулак и организовать в селе новое производство. Молоко от коров собирали и отвозили на сепаратор, который давал доходы общине. Нерадивых хозяев пороли на площади, а кому и сколько давать плетей, решал сход – теперь туда выбирали по уму, а не кого придётся. При этом выпоротый обязан был поклониться и громко сказать: «Спасибо за науку!»
За счёт общих средств починили дороги. Матерям стали платить, когда те рожали детей. Новобрачным община строила новую избу, а от лихих людей защищала казачья стража. Впрочем, сейчас сюда никто и не совался, разве что из начальства кто-то заезжал – смотрел, как дела, и снова исчезал в никуда.
Петра стало не узнать. Он сидел в главном кабинете в здании, на котором красовалась вывеска «Атаманское правление», и занимался тем, о чём мечтал всю жизнь: экономическими расчётами. Становилось ясно, что нужно поставить в селе собственный тарный цех и налаживать сквозное производство, от комбикормов до магазина. Ещё нужны были мини-фермы и мясной цех. Теплицы для грибов. Цветники, чтобы перешибить голландские поставки в город. Собственный транспорт. Новая котельная.
Пётр отдавал распоряжения с вежливой улыбкой, но слушались его безоговорочно.
Осенью в селе организовали ярмарку. Торговали всем: от рукоделья до семян. Повозки стояли на выгоне, специально расчищенном для этих целей; машины, пыля, сворачивали с трассы – везли сюда, везли отсюда, и водители с недоумением смотрели на высаженные вдоль главной дороги ёлочки.
Соседние сёла загибались. Это – процветало.
Пётр ходил вдоль товарных рядов, самолично наблюдал за порядком. Штаны с лампасами и сапоги смотрелись теперь на нём вполне естественно, он даже отпустил небольшие усы – для солидности.
– Эй, атаман, когда на мне женишься? – кричали ему бойкие бабы, а он только ладонью отмахивался: охальницы!
Нос к носу он вдруг столкнулся с человеком, которого слишком хорошо знал.
– Оп!.. – сказал тот. – Юла, ты-то здесь откуда?! И штанишки на тебе чудные… Ну-ка сними, старое вспомним!
Человек этот улыбнулся, и в нижней челюсти у него стал заметен золотой зуб-фикса. Фиксу Пётр помнил хорошо: его камеру держал именно этот блатной.
– Ну, как дела? – переспросил тот, не отпуская Петра взглядом.
– Проходи, – сказал Пётр, – не знаю тебя.
– Забыл, значит? – с укоризной поцокал блатной языком. – Может, напомнить, как тебя на шконке пялили? Да ты, видать, тут начальником заделался, – дошло до него. – Значит, и мне счастье привалило! Верно, Санёк? – обратился он к напарнику, который вырос у Петра за спиной.
– Привалило, это точно, – констатировал тот. Голос его Пётр тоже хорошо помнил.
Он побелел от этих воспоминаний.
– Гляди, щас упадёт, – прихватывая Петра рукой, сказал первый. – Пошли, петушок, показывай своё хозяйство. Мы готовы принять подарки.
Он подтолкнул Петра к выходу из рядов. Одна из баб заметила нехорошее, шепнула что-то другой, и та, выскользнув из-за прилавка, куда-то исчезла. Подталкиваемый с двух сторон Пётр шёл к зданию правления, но перед тем, как перейти площадь, резко остановился.
– Слушай, ты, Бузлак, и ты, чмо, – сказал он, внимательно поглядев по очереди на обоих. – Юлы здесь больше нет. Здесь есть атаман казачьей станицы. Даю вам десять секунд: повернуться, дойти до своих тачек и никогда больше сюда не приезжать. Иначе живы не будете, оба!
– Во как заговорил! – удивился блатной. – Да я тебя…
– Ты, сука, не понял, – сжав зубы, сказал Пётр. К ним со всех сторон бежали люди из казачьей стражи. – Жить не будешь!
Тех двоих отволокли в сарай и зашли туда всей толпой сами. Внутри что-то творилось. Минут через десять казаки вышли обратно на улицу и заперли за собой дверь. Следствие потом определило, будто блатные подрались между собой и там же, в сарае, друг друга порезали до смерти – всё это было написано в прокурорском протоколе. Павел лично проследил, чтобы именно такая формулировка появилась в окончательном заключении, и лишь после этого успокоился.
– Командуй дальше, – возвратившись из райцентра от следователя, сказал он брату. – А я, не поверишь, жениться надумал. Самое время пожить-то, а?
Пётр кивнул: действительно, теперь пожить было можно. Самое время!
Философ
Он был обаятелен, умён и очень добр к людям. Женщины в нём души не чаяли. Толстый, лет сорока, с небольшой бородкой, улыбающийся, уже через минуту он завоевывал ваше расположение, так что вы переставали замечать, что перед вами – безногий инвалид в кресле с колёсиками. Потом вы поневоле задумывались и решали про себя, что если уж у него дела складываются так удачно, то вам, нормальному, с руками и ногами, человеку вроде вас сам Бог велел становиться успешным. Вы оказывались обречены на победу – вот каким он заряжал настроением.
Ему писали и к нему ехали отовсюду, вроде бы для решения конкретных вопросов, а по сути – за советами. Этот человек создал своеобразное царство детского театра, включавшего в свой состав лучших актёров из разных стран – кукольников, мимов иобычныеигровыетруппы. Спектаклиставилисьразные: длямаленькихидлятинейджеров. Те, кто входил в общий альянс, обменивались выступлениями и площадками, собирая на свои представления самую благодарную, детскую аудиторию. Фактически речь шла о создании общемирового театра для детей, с общим графиком работы и постановками.
Целью и смыслом всей этой многотрудной работы стояло воспитание доброты – в тех юных умах и жизнях, по которым ещё не прошёлся тяжёлый каток обстоятельств, разрушающих представления о плохом и хорошем в пользу сиюминутной выгоды. Как поведёт себя взрослый, определяется именно той философией, которую он ещё в молодости принял за основу: вот почему детский театр оказывался незаменимым средством, своего рода прививкой от грядущих недугов.
Человека, который создал грандиозную театральную матрицу, где каждый спектакль становился известен миллионам зрителей по всей планете, а создаваемые образы – бесконечно любимы детьми (маленьких этих зрителей театральные коллективы словно бы бережно передавали друг другу из рук в руки, воспитывая лучшие чувства и укрепляя светлую веру в добро), – этого человека звали Марк. Его можно было увидеть в любой точке мира, где ставился детский спектакль: Марк лично просматривал репертуар, выделял лучшие постановки и включал их в свою сеть. После чего для отобранных им спектаклей открывалась невиданная доселе перспектива: гастрольные поездки, участие в фестивалях, большая аудитория. Созданный ради общей цели финансовый фонд позволял театральной империи Марка расширять сферу влияния, это приносило доходы, в свою очередь, пополнявшие фонд. Поскольку решена оказалась главная задача – финансовая, – можно было без боязни глядеть в будущее.
Каждый ребёнок, посетивший театр, ставился на особый учёт; с родителями, по большей части, завязывалась переписка в интернете. Посещая один за другим спектакли по специальному абонементу, маленький зритель словно бы проходил сквозь ряд светлых образов, остающихся с ним на всю предстоящую долгую жизнь. Позже это должно было спасти в ситуации, где ничто другое уже не спасало.
Постепенно вокруг матрицы складывалась своеобразная религия позитива и справедливости, где Марк начинал выполнять роль главного проповедника. Он вовсе не старался вещать, подняв палец к небу, но каждое его слово изустно тиражировалось и превращалось в своеобразный канон.
– Эдак я стану святым при жизни! – с иронией говорил он, добавляя: – Но поверьте, грешен, канонизировать не получится.
Он был неравнодушен к женщинам и мог очаровать любую. За красавицами Марк не гнался, понимая, что для них общение с инвалидом требует особых душевных сил – однако и с импозантными особами порой крутил короткие и страстные романы. В основном, конечно, он одаривал своим обаянием женщин из театральной среды, прекрасно зная их слабости и по-мужски жалея. Рядом с ним женщины любого возраста чувствовали себя защищёнными, и, как ни странно, такое ощущение сохранялось у них и после расставания, которое никогда не превращались в драму.
О себе Марк скупо сообщал, что свою любовь когда-то потерял вместе с ногами. Что именно это означало, знали только самые близкие, но они предпочитали молчать. Ясно было, что ничто человеческое этому философу было не чуждо, и постепенно, что бы он ни говорил, становилось чуть ли не истиной в последней инстанции не только для миллионов детей, но и для их родителей. Его советам следовали беспрекословно, его интервью становились катехизисом, на что он сам внимания не обращал и отмахивался:
– Обычный здравый смысл плюс житейский опыт, не нужно преувеличивать.
Ему приходили письма со всего мира, секретарь не успевал их сортировать, а референт – переводить, чтобы потом в виде одного абзаца изложить суть. Марк отвечал всем, кто к нему обратился: одним подробно, другим в виде краткой фразы. Например, его спросили, как он определяет понятия добра и зла, и он не разразился большим трактатом, а внятно и просто пояснил: «Добро – это то, что способствует развитию человека, или народа, или всех людей. Зло этому препятствует». Вот и всё, но попробуйте сказать лучше.










