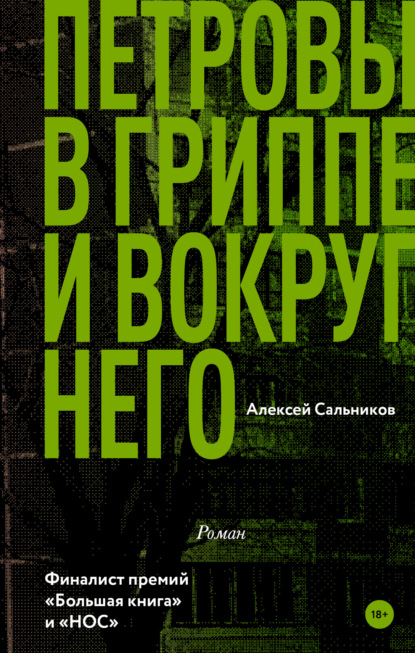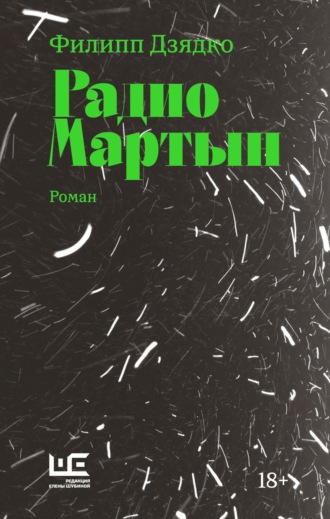
Полная версия
Радио Мартын
– Бабушки! – поднял палец Костянка. – Ксюха, ее на самом деле Ксиаожи или что-то такое зовут, но заебешься язык ломать, поэтому она у нас Ксюха, так вот, косоглазик у нас на все руки мастер. Вроде как просто второй кассир, а многое может, гибкая она у нас, – загоготал он. Наклонившись ко мне и плюясь мне в ухо, он стал жарко шептать: – Она такое в подсобке вытворяет, закачаешься, подползи к ней потом, мне не жалко, гляди: лыбится на тебя.
Кувшинникова своим басом перебила этот шепот: «Ксиаожи у нас, между прочим, не только котлетки из лотоса делает, ха, но и сладости, корневища засахаривает – и пожалуйста, упасть не встать. У нас этот лотос, честно, уже из носа лезет, мы его и в чай добавляем, и в салатики, ха, привыкли, уже как будто внутри меня живет», и она рассмеялась.
«Ты, короче, журналист, сделай, чтоб все в лучшем виде было, про тружеников настоящих, про инновации эти, а то негатива на нас сам знаешь сколько шепчут», – залез мне почти в ухо своими влажными губами Костянка.
– Можно записать ваш рассказ или лучше еще Инны Игоревны?
– Да погоди ты записывать, работа успеется. Давай лучше по-человечески, по-нашему отметим.
Потом был тост «за нас, сотрудников тыла». Станцию переключили, теперь играло радио «Фазенда», и женский голос кричал с отчаянием:
Верная, верная я у тебя такая первая,
Себя не понимая, ну кто, кто я такая?
Скажи, зачем делаешь больно?
И я собой так недовольна,
Я у пропасти, к черту тонкости.
Потом целовали почетную грамоту, выданную департаментом. Потом заставили меня надеть форму почтальона («Только никому – тсс-с!»), все смеялись, что она больше на два размера, чем нужно. Потом целовали флаг. Потом сделали музыку погромче, и начались танцы, прямо на столе. Хором пели «Ты теплый хлеб мой, огонь ты и вода». Первая кассирша в расстегнутой блузе целовала в углу молодого почтальона Йосю, было ясно, что она его сейчас съест, но он был так пьян, что, вероятно, уже не мог ничего чувствовать, иногда подвывал. Хором пели «Я никогда не боялась темноты. / Я с ней давно и развязано на “ты”. / Но ты на пятьдесят оттенков темней. / Ты не подходишь мне. / Просто отпусти мою ладонь».
Из хора вылез крик Костянки: «Всё, хорош, заканчиваем официальную программу. Есть вопросы? Нет вопросов. Серафим, выходи на сцену». Потом снова закричал: «Фима, Фима, блядь, ты где?» Внезапно из темноты выступил карлик в строительном комбинезоне и влез на ящик.
«Давай, Фима, про родину херачь!» Все стали кричать в два слога: «Фи-ма! Фи-ма! Фи-ма! Фи-ма! Фи-ма! Да-вай! Да-вай! Да-вай!». – «Ну, уговорили», – сказал Серафим, – «Дементьев. “Стихи о России”. Только тихо все!»
Проходят года над моею страною. Проходят года над великой судьбой, И если мы в жизни чего-нибудь стоим, То лишь потому, что мы сердцем с тобой. Такое прекрасное имя – Россия! Она нам свой добрый характер дала. Всю жизнь об одном я судьбу лишь просила, Чтоб вечно Россия счастливой была.Все зааплодировали, Кувшинникова прослезилась, радио снова выкрутили на полную, из него полилась «Только водка на столе…», воцарилась сумятица. Те, кто мог двигаться, вскочили на доски, положенные поверх коробок, на сами коробки, проваливаясь, как в снежный наст, в бумажные залежи, с визгом вытаскивая ноги, разбрасывая бумажные брызги. Это был танец, парный, общий, одинокий, хоровод, со вскидыванием рук, перекрикиванием музыки. Костянка сидел со спущенными штанами, перед ним на коленях стояла китаянка, умеющая готовить лотос. Все плыло перед моими глазами, огромная женщина рядом со мной вплотную подошла к кассирше и, прижавшись, стала ритмично бить ее по лицу своей грудью в бирюзовом бюстгальтере.
Запахи смешивались и несли куда-то, мне казалось, что я теряю сознание, сквозь чад я видел, как ко мне придвигается расползающееся лицо с салатом вместо волос, лицо китаянки, превращающееся в лотос и обратно. Я зажмурился – кажется, навсегда. Запах стал меняться. Я почувствовал гарь. Открыв глаза, я увидел огонь, услышал, как Кувшинникова кричит: «Новая порция, ребятушки, будем греться!» Посреди контейнера в гигантском чане развели костер, на стенки чана поставили решетку с кусочками лотоса.
«Бросайте дровишки, братцы, зажжем по-нашему, ночь моя, добавь огня!»
«Зажигай» – закричали сразу несколько голосов. В чан стали вытряхивать коробки, бросать открытки, конверты, письма, большие, маленькие, они горели быстро, контейнер наполнился летающими кусочками бумаги, ко мне под ноги упал обугленный листок. Я поднял его: черно-белая фотография, человек в мундире стоит вполоборота, держит в левой руке перчатки, его ботинки и орденские кресты блестят, головы уже нет. На его правое плечо опирается женщина, кажется в черной шали, она выше его, ее лицо огонь не успел повредить.
1.2
A nuestra querida amiga Conch Vara Etiam este pequeño recuer sus amigos Ramon y Carmen Madrid 1919
3.10
Там, кажется, было что-то еще, но это уже было прочесть нельзя. «А мне летать охота!» – закричал путавшийся в спущенных штанах Костянка. Он взял первое попавшееся письмо из ближайшей коробки, сложил его и сделал самолетик. Кто-то начал мастерить самокрутки; женщину в бирюзовом бюстгальтере, вымазав чем-то липким, поставили в центр круга и стали обклеивать бумагой, напевая «Мы оденем всю страну, я ебу, ебу, ебу!» и «Мы нарядим елочку, как елду с иголочки».
Вдруг звук радио резко оборвался. Оно замолчало. Треск. Тишина. Треск. Тишина. Снова треск и сразу за ним – мужской голос: «Ого, смотри, получилось! Получилось! Фантастика! Давай, давай ты, Володя».
Тогда радио заговорило уже другим голосом, пониже:
«Простите за беспокойство. Это “Радио NN”, радио хороших новостей. Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны.
За последние дни убили себя еще несколько людей, которым не дали обезболивающее.
Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны.
За последние месяцы еще несколько детей погибло – те, кого не усыновили люди из других стран».
Контейнер замолчал. Все замерли в тех странных позах, где их застиг голос, будто не сговариваясь решили сыграть в «морская фигура замри». И я тоже. У меня было чувство, будто я уже слышал этот голос, глуховатый, с присвистом, похожий чем-то на колокольный звон, рубленые переходы. А он продолжал:
«Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны.
За последнее время еще десятки людей “ненужной ориентации” были избиты, им проткнули головы шампурами, им устроили ласточку, представляйте сами, чего хотите, друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны.
Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны. За последние недели еще десятки тысяч людей по всей стране были унижены, уничтожены в армии. Друзья, за последние секунды еще несколько тысяч мирных граждан пострадали в войне, которую развязала наша страна».
– Этого не может быть!
– А дым откуда этот?
– Что это вообще за пиздец-то такой?
– Откуда это?
– Какой ужас!
– Что же это делается, Анатолий Эрнстович?
– Это что, шутка?
– Да у нас пожар!
– Какие хорошие новости?
– Да зачем это, зачем это?
– Ну и, и что, бля?
Все кричали, лаяли, перебивая друг друга.
– Выключите эту херню, вы что, все в можайские рвы хотите? – перекрикнул всех Костянка, а голос из радио тек все дальше:
«Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны. За последние месяцы в домах престарелых исчезла еще сотня “престарелых” без лекарств и простыней.
Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны. За последние минуты еще сотня подростков по всей стране воткнула в вену наркотик, из-за которого они умрут в ближайший месяц. Друзья, у меня хорошие новости, мы можем быть абсолютно спокойны, миллионы молодых людей, ваших дочерей и сыновей, спрятаны в монастырях и на военных базах – и что с ними делают, никто не знает. Друзья, у меня еще тонна хороших новостей, но когда, черт возьми, мы выйдем на улицы? Я скажу вам когда – 12-го числа, мы все встре…»
Звук оборвался: это я. Это я выкрутил громкость на приемнике до нуля. Стало тихо.
– Они прорвались, они, сукины дети, – завизжал Костянка. – Молодец, носатый, загасил, угандошил падлу. Чтобы никому, никому о том, что мы сигнал поймали, поняли, бляди?
Он схватился за голову и заплакал. Началась неразбериха. Все кричали разом.
«Это все невозможно, понимаешь? – рядом со мной села Кувшинникова. – И ты туда же. Так нельзя нажираться и безобразничать. Я ненавижу наши пьянки, но куда-то надо тоску эту девать, понимаешь, да?» Она вдруг перестала говорить «ха» в конце предложений, стала другой. «Или ты презираешь нас, да? В этих своих ботиночках красивеньких, в рубашечке своей, воротничок этот распущенный еще. А ведь так же бухаешь, так же гимн поешь, так же в свинью превращаешься». – «Совсем нет, я, напротив, это же праздник». Я мямлил. Она прошептала: «А ведь он правду говорил». – «Кто? Костянка?» – «Да какой Костянка! Парень из радио. Это же все так и есть, и про пытки в полиции, вон у моей сестры сына инвалидом сделали, и про лекарства – их же не купишь никакие, помирай как знали». Она вдруг тихонечко, как девочка, заплакала. Я неожиданно разозлился. Что мне еще оставалось. «Да какая правда! У нас хорошо все, есть неприятности, страшно бывает, конечно, но бояться не нужно ничего, и в целом, обобщая, это все ложь и так быть не может, да? Мы бы знали, власти бы исправили». – «Да что ты, что ты. Ослик ты. Откуда знали бы? Никто ж не верит ни во что, все вот так и говорят – “не может быть”, “а что мы можем”, только вот между собой по углам и пошепчешься». – «Так кто же это все делает-то, эти ужасы?» – «Мы вместе делаем, мы все, ты, я, вместе все». – «Я? Что я-то, это вы, взрослые, делаете, я тут при чем». – «Нет, мальчик, это мы вместе. Ты, кстати, уже не маленький, знаешь об этом? Ты меня, может, постарше будешь».
Я вгляделся в нее, в разъехавшееся, освободившееся от косметики лицо – она была права, мы были ровесниками, она могла сидеть со мной за одной партой. «А ты думаешь, откуда этот изумрудный все взял? Из головы выдумал? Это я и такие, как я, никому не нужные, никому не видимые, хотя мы всегда перед глазами, замотанные ветошью, это мы ему рассказываем, собираем записочки, шепотом пишем имена, тихонько, по углам, по темноте, узнаем, передаем, собираем – про пропавших, про убитых, а эти уже дальше все в один кулак собирают, в свои книги и списки, и рассказывают на своей несуществующей волне имена, истории. Что смотришь? Мне не страшно – рассказывай, доноси, мне уже все».
Она что-то продолжала говорить. Мне было все сложнее ее расслышать: вокруг кричали, и визжали, и свистели, и рыдали, и все эти звуки вдруг слились в один возглас: «Горим, сука!» Контейнер был полон дыма, по нему носились тени, в правом углу полыхал огонь. Я вскочил. Кувшинникова схватила мою руку. «Подожди, парень. Ты письма возьми. А то ведь пожгут все. Это же люди писали, старались, наверное, любили, как и мы».
На нас налетело сразу несколько человек, все пытались пробиться к выходу из контейнера. Мне в живот врезалось что-то мягкое – это был карлик Серафим. Зло глядя мне в глаза, он крикнул: «Спасай бухло, хуйло носатое, и сдрисни, угоришь, обморок». Я вышел из оцепенения, схватил бутылку, выронил ее. Схватил другую. Засунул в сумку. Споткнулся о ящик. Упал на пол. На меня кто-то наступил. Потом еще и еще. Я попробовал встать, ползком пробирался к выходу. Кто-то кричал: «Выносите всё, документы, бухгалтерию спасайте». Наконец мне удалось встать. Я схватил первые попавшиеся папки с письмами, сразу много, едва запихнул их в сумку. Валявшиеся на полу открытки, отдельные листочки распихал по карманам, одним махом прочитал записку с убегающим почерком:
1.3
А я все жду и жду карточку. И еще подожду. Авось и обо мне вспомните. Коля. 4 февраля 1917 года.
3.11
Схватил еще несколько из той же пачки. И выскочил из контейнера. Так я попал в историю.
2.3
Я стою в трусах и в майке, синих (цвета раскрашенных ручкой густых усов Ленина в «Родной речи») трусах и в бурой (цвета подливы, будь проклято это слово и эта смесь) майке – таких же, как у Павлика, Женька и Димона Прыщ-на-ноге. Чудовищно холодно, мои колени с ссадинами тоже скоро станут синими. Из столовой опять тянет вареными сосисками.
У Вики Зубастой и у Тани Большая Жопа тоже синие трусы и бурые майки.
У всех синие трусы и бурые майки.
Голые коленки с ссадинами, голые пухлые или острые локти, голые плечи с впадинками от прививок, у Толстожопика даже ползадницы видно, трусы сползают.
Только Терминатор не голая. У Терминатора алый костюм «СССР», застегнутый на серебряную молнию, штаны до самых пят. Тела ее не видно, хотя Серега Ловчилла, у которого алое пятно на левой щеке, говорит, что видно – «грудь у нее закачаешься». К этой груди слева приколот маленький конькобежец. У Терминатора волосы собраны в хвост, зубы строгие, справа и слева золотые. У нее руки на ширине плеч. Все, началось, команда: «По кругу, марш».
Холодно. Пахнет понедельником.
«Филипп Кполуприлип, подтянулся, я сказала. Жопу подними, обморок. Глухомань Мартын, слюни подотри, гадом растешь балованным. Кристопротопова, куда села? Какая еще коленка, встала, пошла, встала. Пошла».
В раздевалке Павлик (он старше всех – ему почти четырнадцать) подошел ко мне и сказал: на хор не идем, на хер хор, в овраг идем.
В «Продуктах», царстве мух и тропической неги, мы купили упаковку петард, кефир и у Аленки бутылку «красоты». Аленка – добрая, сама недавняя выпускница нашей школы, поэтому с ней проблем не бывает – и бутылку продает, и правую сиську показывает, если добавить немного сверху: «Скучно мне, ребятки».
В овраге черемуха, холодно и ветер в лицо. Димон Мочилла открывает кефир, одним глотком отпивает почти полбутылки и наливает в нее полбутылки «красоты». Пускает коктейль по кругу. Я быстро сооружаю костер, мы бросаем в него петарды: доблесть – не отбегать от костра далеко. Выпив смесь кефира с «красотой», мы поднимаемся по склону. По очереди на дальность скатываемся кубарем вниз и снова поднимаемся. Я скатился, поднял голову и увидел, как наверху Женек странно сгорбился и трясет головой. Кричит: «Давай к нам, Мартын!»
На той стороне, через овраг от школы, здание старой тюрьмы. По назначению она уже не используется, прутья железного забора там и тут согнуты, колючая проволока провисает. Мы проскальзываем между прутьями и жжем костры, внутрь здания зайти не решаемся. Хотя тюрьма давно не тюрьма, а полуразрушенная коробка с пустыми глазницами, нам страшно, об этих местах ходит жуткая слава.
– Смотри, какая баба-яга выползла, – кричат друзья, показывая на бесформенный узелок тряпья с торчащей из него палкой.
Я подхожу ближе – узелок тряпья оборачивается старухой с деревянной тростью. Зеленоватый плащ с пришпиленной на груди брошью. Удивительно уродлива. Длинный кривой нос, готовый упереться в землю, худые скрюченные пальцы, сжимающие клюку, сморщенное лицо. Она похожа на скукожившуюся от засухи страницу из учебника по географии или ссохшуюся оливу из Гефсиманского сада. Она скользит, хромает, переваливается, как будто на ногах у нее не потрепанные башмачки, а поломанные деревянные колеса. Женек похоже изображает ее – вот он качается из стороны в сторону, склоняется в три погибели, трясет головой и ныряет носом в пыль и мусор, по дороге успевая бросать камешки и приговаривать «цып-цып-цып». Этого старуха не делает, но в свободной от трости руке держит клетку с черной маленькой птицей. Ковыряя тростью в земле, бормочет: «Плохая травка, плохая, не те, не те корешки, не та трава, нет травы, только камни, нет травки, сухая, сухая хвоя, нет корешков, нет…» Мы подходим поближе («Вы чего, вдруг заразная!» – кричит Филипп), беремся за руки и ведем хоровод вокруг нее, припевая: «Каравай-каравай, бабка мужа выбирай». Старуха не обращает на нас внимания. Она уже не ищет чего-то в траве, а, застыв, как будто играя в «морская фигура замри», смотрит на окна бывшей тюрьмы. Раздухарившись, мы собираем мелкие камушки – тот, кто попадет прямо в клетку с птицей, победит. Птица, когда камушки попадают в нее, вздрагивает и глухо клокочет. Это быстро надоедает, и мы опять танцуем вокруг старухи, громко кричим. «Она глухая еще больше, чем Мартын, мужики», – шепчет Филипп. Помню, что пока мы кружимся вокруг нее, я кричу ей в самое ухо: «Не тряси так мерзко головой, шея обломится, голова отвалится, носом в камнях дырки наделаешь, провалишься сквозь землю».
Друзья кружатся вокруг старухи, а я вдруг придумываю такой фокус: кладу оставшиеся петарды в пустую бутылку из-под «красоты», привязываю к ее горлышку ржавую проволоку. «Небывалый номер! Торжественный выход! Сейчас вы увидите древнюю царицу в шлейфе фейерверка!» – декламирую я и, подкравшись к старухе, цепляю к краю ее выцветшего болотного плаща проволоку. Я не успеваю бросить в бутылку зажженную спичку: старуха внезапно поворачивается ко мне, стоящему на коленях, и говорит спокойным, прокуренным, низким голосом: «Будьте добры. Отойдите от меня».
Мы все замерли.
Она двигается на меня, я приподнимаюсь. Наш «хоровод» распадается, мы пятимся назад. Глядя поверх наших голов, она медленно ковыляет, и бутылка со звоном ударяется о камни, ковыляет за ней. Подойдя совсем близко ко мне, она протягивает сухой кулачок к моему лицу, резко раскрывает его: в ладони лежит какая-то травка. Запах травки поглощает меня. Старуха опять сжимает ладонь в кулак и смотрит прямо на меня: «Ты такой трусливый, но это ничего. Встретимся еще, молодой человек, встретимся еще – надо же тебе знать какое-нибудь ремесло, может, и поучишься, и пригодишься». И она идет дальше, шаркая башмаками, звеня бутылкой, и скоро сворачивает за угол тюремной ограды.
Мы садимся у края оврага. Молчим. Охваченный дрожью, я утыкаюсь глазами в землю, но чувствую, что все косятся на меня. И еще слышу внутри себя новые звуки и ощущения – будто заложено горло, нёбо ватное, страшный холод в костях. Посреди жаркого дня я страшно мерзну, сердце колотит, будто все оно в крошках, которые клюют птицы. Я приподнимаю голову и отчетливо, во всех мелочах, вижу склон каменистого оврага – лежащий в кустах черемухи продавленный мячик, сломанный костыль, облезлую палку с набалдашником, ошметок женского платья.
Я был околдован, уколот стыдом и внезапным состраданием, я был обморожен и покрылся хвойной дрожью, я дрожал от жалости, от которой не защитит рыбий жир. Я заплакал.
«Ху-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-уй, – кричит Павлик, – хорош реветь! Рёва! Чего ты из-за старухи так обоссался, смотри, энурез начнется!»
«Айда кататься», – кричит Филипп, и я ловлю сильный удар в спину и, не успев сгруппироваться, качусь со склона.
Я лежу на дне оврага. Надо мной стоят ребята, голова чуть выше виска гудит невыносимо, спина звенит осколками фарфорового чайника.
«Ну ни хера ж себе носяра вырос. Это шишка, что ли, такая? На камень небось напоролся», – слышу, как шепчет Филипп.
Помолчали.
Снова помолчали.
– Все-таки живой, – слышу голос Павлика, – и хорошо.
– Но нос-то как вылез.
– Он теперь Мартын Ухо-Горло-Нос! Король Лор, короче!
Я пробую пощупать нос, он сухой, кривой и длинный, как засохшая ветка. Больше всего на свете я хочу спать, я готов спать год, нет, десять, нет, тридцать лет, тридцать лет и три года. Прежде чем потерять сознание, я слышу: «Сходили на хор, блядь».
3.12
О «Радио NN» я знал давно. Шептали, будто где-то то ли в Северном Ледовитом, то ли в Тихом океане, то ли на подлодке, то ли на дрейфующей платформе работает секретная радиостанция. Будто она голос неведомой команды сопротивления, так называемых изумрудных людей, сидящих в подполье и готовящих переворот. Их никто не видел. Только изредка из официальных новостных сводок можно было понять, что они есть и действуют. Например, сообщалось об успешном рейде частных казачьих дружин, арестовавших, благодаря бдительности гражданских лиц, «очередных блудливых сынов отечества, так называемых изумрудных». Из-за того, что одно из самых громких таких дел – «расстрел отступников» – было объяснено растратой драгоценных камней, которые государство намеревалось раздать сотрудникам заводов, эти враги стали называться изумрудными. В городе шушукались, что, несмотря на аресты, на бдительность частных лиц и спецслужб, эта сила не только не исчезает, но растет. Шептали, что они группируются вокруг радиостанции и что именно с помощью подпольного радио мы все узна́ем, «что делать и когда придет час».
Слухи расходились от тех, кто случайно слышал голоса этого радио. Поймать его сигнал невозможно. Он не способен прорваться на «Россию всегда», но умеет внезапно влезать на волны государственных развлекательных станций. У нас в редакции прославились двое сотрудников, которые слышали такой эфир: собираясь в курилке, мы намеками просили их исполнить пластинку, и они снова и снова важным шепотом рассказывали, как внезапно эфир «Русской дачи» прервался и около двух минут взволнованный голос говорил о бунтах на юге страны, его сменила запрещенная к исполнению песня «Мне так бы хотелось, хотелось бы мне», а потом она замолкла на полуслове, и вернулся обычный эфир – будто ничего и не было. Всех завораживали такие истории. И потому, что это было страшно. И потому, что это было запрещено, а значит, опасно. И потому, что больше ниоткуда нельзя было услышать ни такой музыки, ни таких новостей. Сарафанное радио глухих слухов почти умерло – оно приводило к аресту за паникерство и дезинформацию населения. А «Россия всегда» из радиоточек сообщала только об успехах, победах над врагами и об ужасах, от которых оберегает правительство. На трех развлекательных радиостанциях исполнялись песни – из одобренного Росмузконцертом списка, интернет суверенный, доступ к нему – только по карточкам, границы работают только на выезд и за огромные деньги, запись в библиотеки – по специальным справкам.
Теперь это радио услышали в разоренном контейнере на почтовом складе.
Вчерашние события постепенно всплывали в голове, заполняя мою небольшую комнату лицами, матом, криками, огнем и дымом.
Я опять встал поздно, была середина дня. Раскалывалась на два полушария голова, во рту я чувствовал густой привкус гари и лотоса, хотелось пить. Все мои движения существовали отдельно от меня, они были медленны и, кажется, красивы, но случайны. В воздухе жил особенный тихий свет, который бывает в конце апреля.
В детстве была игра: «Запиши буквами голоса наших птиц». Это была весенняя игра, как раз тихим апрельским светом. Так и сейчас я слышу: «тень-тинь-тянь». Повторение коротких, четких звуков, звонких звуков. Кто это, угадаешь? Давай еще разок: «тень-тинь-тянь» и дальше «тюнь-тень-тинь-тинь». Узнала? Это пеночка-теньковка, повторение коротких звонких звуков, звонких звуков. Это благодаря им я могу понимать речь, это они – а, е, и, о, у, ы, э – мои друзья, гласные звуки, низкочастотные звуки. Но без аппарата я не слышу высоких частот, согласные, мои враги, сбивают меня, не дают отличить одни слова от других. Мне не нравятся согласные. Я не могу понять такие слова, как «фокус», «стих» или «счастье». Так мне объяснил дедушка, так ему объяснили врачи. Но это дарит секретное преимущество – я додумываю другие слова, все звуки рождают во мне миллиарды других ситуаций, все они живут в воображении. И моему собеседнику будет казаться, что я его отлично понял, и он даже не узнает, что понял я что-то абсолютно другое, и никогда не догадается, что мы на разных станциях и волнах. Но я думаю, что так живу не только я, – я уверен, что так живут все: никто не понимает другого дословно, все переводят другого на свои языки и волны, отсюда так страшно и так счастливо.
«Тинь-тянь» – тиннитус, звон в ушах. Так они называли это – и я думал всегда, что это голос пеночки-теньковки транскрибируют врачи своей тайнописью на жеваных оловянных стеклянных деревянных прозрачных листочках диагнозов: «Имеющийся у ребенка синдром дефицита внимания с гиперактивностью способен привести к непониманию речи, так как головной мозг в этом случае активно участвует в восприятии всех поступающих импульсов, которые не дают ему сосредоточиться на чем-то одном, ношение слухового аппарата поспособствует лучшей сосредоточенности на разговоре, скомпенсирует тиннитус».
«Тень-тинь-тянь-тюнь-тень-тинь-тинь». Вот он прозрачный апрельский свет и пеночка. Всё как всегда, как при дедушке.
В похмелье есть несколько чудес. При определенном таланте за годы тренировок ты научишься выходить из себя – в хорошем смысле, – то есть отстраняться от себя самого. Видеть со стороны, сверху. Лежать или стоять рядом и с интересом рассматривать. Второе чудо – время меняет свои правила, оно может, например, растягиваться. И тогда ты, затаив дыхание на много лет, рассматриваешь свои многочисленные пылинки, примечаешь седину, видишь себя, смотрящего в окно в разные часы будней и выходных, старающегося определить, какое время суток дает идеальное сочетание света и тени на тебе самом, и все это и другое – для того, чтобы лучше понять, какой ты зверь. Сегодня я снова смог это сделать, выйти из себя. И увидеть в этом апрельском свете – вот я лежу серый и голый, как кора у заоконных тополей.