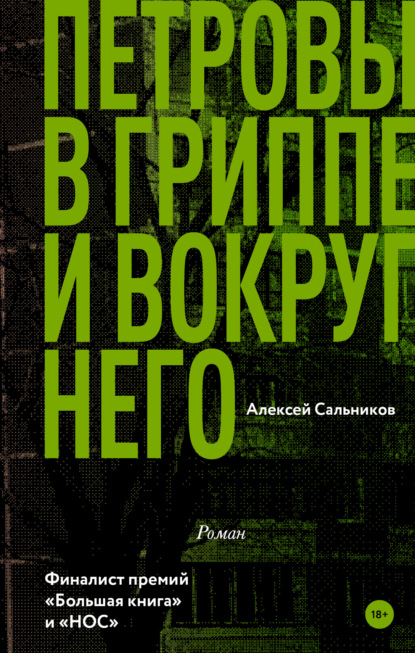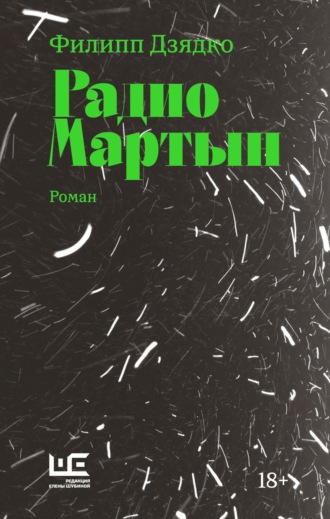
Полная версия
Радио Мартын
Помолчали.
Помолчали снова.
– Так. Ладно. Посмотрим. Вот тебе тема, нос аномальный. Звонил Игорь Игоревич с почты. У них находка. Оптимизация офисного полотна принесла с собою неожиданный результат. Контейнер с посылочным материалом, не распределенный по домохозяйствам, грел яйца много лет. И вот дошел. Нашли его.
Я ничего не понял, но промолчал.
– Иди и зафиксируй мне радость рядового менеджера. Сделаем запись о бережном хранении памяти родины. О модернизированной технологии. Сегодня праздник будет у ребят, дуй на склад, запиши синхрон у кого-нибудь из главных. Разрешение получено: собрание полностью законно. Праздник санкционирован!
– Но а жуки, а жуки? А великаны?
– Ложь! Ложь! Все насекомые исчезнут в свои обычные сроки, и с ними ты, перерожденец. Мы здесь навсегда теперь, понял? Это не изменить ни жуками, ни великанам в твоей голове. Праздник на производстве нам нужен: радостная слеза глубинного русского, позитив. Ты слышал, фрагмент недоразумения, что я сказала? Катись колбаской. Иди в почтовые склады.
Возможно, я неверно слышал, возможно, не так понял. Но я не успел вовремя включить запись, а переспрашивать было неловко. И так я оказался на почте.
2.1
Я стою без трусов перед большой женщиной в красном костюме. Говорю, что, когда я читаю, я писаюсь. Когда смотрю кино, писаюсь. И когда жду троллейбус – тоже.
Всякий раз, когда я говорю слово «писаюсь», я испытываю ужасные ощущения, это слово отвратительно.
– Когда я сижу на уроке физики, я писаюсь.
– Сейчас описаешься тоже? – спрашивает женщина.
У нее грудь как у учительницы младших классов. Я хотел бы спрятаться в ней, нырнуть, свернуться в позу смертельно раненного Мачека, подтянуть колени к животу и уснуть, я бы поместился в ней весь без остатка, жил бы в этом кармане, читал бы книжки, выслушивал бы рассказы других мальчиков, жалующихся на разные неприятности или, напротив, мечтающих исполнить свой долг. Они бы говорили: «Я готов служить своей родине, я совершенно здоров, поставьте подпись, я иду на войну». А я бы лежал в декольте большой женщины в красной блузе, между ее шестнадцати безразмерных грудей, перекатываясь из кулька в рогожку и глядя на зеленые стены с подтеками и на трескающийся белый потолок, выдумывал бы, в какие фигуры складываются эти подтеки и эти трещины: в слона, в заварочный чайник. В родимое пятно над твоим коленом, которое я еще не знаю. Я бы поместился весь.
«Я напишу, что ты не годен, – говорит она, – ты зря пиздил про благородный энурез, и без того бы разобрался медсовет, дефектный ты, носатая паскуда, ну а покуда я упеку в больничный склеп тебя, проткну тремя шприцами, жалеть ты станешь, что родился на Божий свет, и, так и быть, не встанешь под ружье, будь счастлив, вот твоя медкнижка, катись колбаской, на хуй дуй отсюда. И жить в моей груди тебе не светит. Прощай».
3.5
Я проснулся поздно, поставил джезву на огонь. Пылинки летают в солнечных лучах. Яблоня лезет в ок-но, ветер толкает ее, помогая зацепиться за антенну в очередной попытке угнать на улицу дедушкин радиоприемник, который я умею разбирать и собирать с закрытыми глазами. В приемнике нет нужды, только если хочешь послушать разрешенные развлекательные станции. А для новостей – радиоточка с «Россией всегда». И работает у нас, как и всюду, она круглосуточно.
Я засунул аппаратик в ухо, вышел на кухню. Радиоточка сказала: «Безрукий единоросс передал слепым россиянам тактильный портрет президента. Теперь тотально слепые члены общества смогут наконец представить лицо лидера. Отметим, что портрет выполнен из экологичных гипоаллергенных материалов и близок по величине к оригинальному размеру головы президента».
На кухню вошла Тамара. Соседка, вернее хозяйка большой комнаты, вернее хозяйка всего. В широких шароварах, зеленой бархатной шапочке, в накидке болотного цвета из грубой ткани с пришпиленной костяной брошью, шаркая тапками, подошла к плите, сделала звук радиоточки тише. Кивнула мне и дунула в свой свисток – один из немногих резких звуков, которые не пугают меня. На кухню выбежала дюжина ее морских свинок, и началась повторяющаяся изо дня в день игра – свинки бегают за пылинками, летающими в солнечных лучах, крутятся на месте, скользят на кафельном полу, падают на бок, подпрыгивают. Тамара бросает пару дуршлагов на пол, и свинки, катаясь по шахматному кафельному полу, перекатывая дуршлаги, толкая их, толкаясь друг с другом, со звоном ловят в них солнечную пыль, собирая и просеивая солнечные пылинки, мягче которых, как все знают, нет ничего на свете.
Тамара берет с гвоздя маленькую сковородку, снимает шапочку, вынимает из волос гребень, достает из холодильника куриные яйца и бьет гребнем – раз, два, три, – три круглых желтка стекают в сковородку, за ними туда же летят три какие-то травки, щепотка соли. «Ты без масла, как дедушка?» – спрашиваю я, хотя знаю ответ: «Все как при дедушке, не сомневайся». Я однажды рассказал Тамаре, что яичницу надо готовить не наливая масла, как учил меня дед: сразу на раскаленную сковородку. Это единственное, в чем она меня послушалась за все время соседства на кухне. А она научила меня всему, чему только могла: сотне рецептов пирожных и супов, знанию всевозможных приправ, пониманию трав и растений. Я отличный повар. Иногда это ценят в баре, где я подрабатываю.
Я ем ежедневный кусок пирога с травянистой начинкой, Тамара приступает к созданию коронного блюда. Снимает со шкафа серебристую кастрюльку. Напевая что-то дребезжащее о преданной девушке, она зажигает огонь в полную силу и ставит на него кастрюлю с супом. Это единственный суп, рецепту которого она меня не научила: «Беата Илларионовна прилетели, будем радовать, ну и тебя поить, как обычно».
Беата Илларионовна – это так называемая «кузина из Житомира». Я уже видел ее однажды – чернобровая женщина (Меркуцио называет ее Брежневым), сидящая черным мешком и издающая клокочущие бессвязные звуки. Она – «сотрудница» Тамары. Так мне ее представили, но за все эти годы я так и не понял, чем занимается Тамара, так что и о профессии Беаты ничего не знаю.
Резкими движениями Тамара бросает в клокочущую воду: щепотку невнятной трухи из старой жестяной банки, сыпет муку, кидает имбирь, и еще, и еще что-то, что я уже не вижу. Сколько я ни старался, мне никогда не удавалось подсмотреть, из чего сделан мой еже-недельный суп, Тамара будто намеренно загораживает спиной плиту. Все шипит и дымится, по комнате разносится легчайший запах. От меня она хочет только одного – я должен подойти и, накрывшись епитрахилью ее деда («Мы колокольные дворяне», – говорит она о себе), пропеть припев из песни «Jubilee Street». Почему из нее? Тамара не объясняет. Я послушно в сотый раз склоняюсь, вдыхаю тяжелый пар и, пропевая «I’m pushing my wheel of love / I got love in my tummy / And a tiny little pain / And a ten ton catastrophe / On a sixty pound chain / And I’m pushing / My wheel of love up Jubilee Street», направляю свое колесо любви обратно на диван. Тамара одобрительно кивает и бормочет что-то в духе «хороший тон, славно, славно», и кричит в горшок еще несколько фраз. Потом достает из кармана фартука небольшую шкатулку, заводит ее на пару оборотов и трясет над кастрюлей – скрипучий мелодичный звук сыпется в закипающий суп. Она мечется по кухне, оттуда достанет зелень, отсюда – коренья, приправы, соль, снова заводит маленькую шарманку над кастрюлей, почти ныряет в кастрюлю, принюхивается, не готово ли, что-то опять напевает, бросая звуки прямо в суп. И вот на огонь льется с кастрюлевых бортов густая пена, все клокочет и булькает, валит пар.
Налив два половника в серебряную миску, Тамара ставит ее передо мной. Одновременно и сладкий, и кисловатый, и горький, и нежный вкус. Я в это не очень верю, но она говорит, что суп необходим. Она дает мне его все то время, что мы живем вместе в квартире. А что было прежде, я не помню, если не считать случайных картинок из другого прошлого, где ее нет, изредка всплывающих в голове.
Тамара говорит, что эта тарелка супа вместе с пирогом помогает мне унять голову. Успокаивает путешествующих в ней сотни тысяч мыслей и сотни тысяч голосов живых и неживых существ, жалующихся на боль. Эти звуки всегда живут во мне, я как радиоточка, но не с одной станцией, а со множеством. Они перекликаются, ни на минуту не давая услышать тишину. И тогда голова раскалывается, как фарфоровый чайник, падающий на кафель.
Как всегда после супа, я немного поспал – тут же, на кухонном диване, среди вышитых подушек, как какой-нибудь наследный принц в каком-нибудь забытом дворце.
Меня разбудил петух – звонок на смартфоне Тамары, который она ставит, чтобы отмерить, когда выключать плиту. Огонь горел на всех конфорках. Тамара ощипывала гуся. И как всегда после такого короткого сна, я почувствовал, что обновился. Я выпил свой уже холодный кофе, послушал записи за прошлый день: я фиксирую на диктофон почти все разговоры, чтобы затем в спокойствии их послушать, в момент речи не все усваиваю. Хотел закурить, но, услышав чирк колеса зажигалки, Тамара мотнула головой, и я увидел: бессловесная Беата Илларионовна сидит в углу у расписной прялки. Звук ее работы похож то ли на гул холодильника, то ли на шум моря. На чистом блюде лежит прозрачная фигурка белки – сегодня они опять будут гадать на воске.
Всякий раз, когда «сотрудница» приезжает, Тамара бесконечно готовит, Беата молча ест и молча прядет. Вечерами они гадают. И каждый раз Тамара требует не курить: «У Беаты астма, не нарушай ауру». Я выхожу на лестничную клетку.
Покурив, я открыл почтовый ящик, чтобы забрать квитанции. Отделяя счета за воду от рекламных брошюр, монастырских буклетов, памяток о поведении в условия эпидемий и военных действий, я опять нащупал странный шероховатый листочек бумаги. На этот раз каллиграфическим почерком было выведено: «При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
Эта вторая записка вызвала маленькую галлюцинацию, но не связанную со стыдом и не зрительную, а звуковую. То ли колокол, то ли литавры из «Жил певчий дрозд», то ли индейский тамтам с пластинки «Питер Пэн». Что-то новое выступает.
Мне сразу захотелось выпить старого или нового вина, а в «Пропилеи» идти было еще рано. Я положил листок в карман и пошел выполнять задание руководительницы – на почтовый склад. Вибрафон, скрипка.
3.6
Видел его уже где-то, он в черном фраке с фиолетовым камышом в руках и в цилиндре, испачканном голубем. Точно видел его раньше. Он пел – бормотал, но довольно громко. Я не успел включить запись вовремя, но одну фразу успел записать, как раз когда он проходил левым плечом через мое правое плечо. Так я даже поймал запах его черного фрака, чешуйчатого крыла, оно отдавало мастикой.
«А что, а что, а ты давай-давай попердывай, да не переживай, а что, а что. Ну ни хера-се носяра, ты что с Марса прилетел?»
Он заметил меня и разинул рот. «Ну ни хера-се носяра, ты что, с Марса прилетел?» Это обо мне. «Ну ни хера-се носяра». Это обычное дело. Я давно не обижаюсь, люди всегда удивляются, когда видят меня впервые. Я почти не помню, когда мой нос был обычным скромным носом с прыщиком, носом ученика средней школы. «Ну ни хера-се носяра». Еще бы! Я только улыбнулся и только обернулся, и так мы шли несколько секунд, отдаляясь друг от друга, с обернутыми друг к другу головами, смотрящими против движения. И так я увидел, что к нему подходят росгвардейцы, и хотел предупредить его, но не стал. Он уткнулся в них. И черные формы заломили ему руки, пригнули к земле. И вот он упал, сперва уткнулся в укроп и базилик, а потом еще ниже, и закон притяжения ждал его внизу, на заплеванном асфальте, из которого пробивались узкие зеленые лезвия мятликовых листьев и, кажется, иван-чая. И эту многофигурную сцену огибали, смотря сквозь нее, люди-прохожие, и сбитый с головы черный цилиндр суетился по мостовой, отчаянно и неприкаянно, как поломанный мячик: в том, что в светлый день вдруг хватают странного человека, давно нет ничего странного. И я хотел крикнуть, что же вы делаете, «он же только странный, в чем его вина», но не стал, конечно, я не стал вмешиваться – это не мои дела, людям виднее, явно же, что он какой-то не такой, какой-то чокнутый. Но я и без крика слышал сквозь уличный гул, своей внутренней радиоточкой, как ему плохо и как страшно, но что я могу? Иначе вдруг и меня заберут, и снова скукожится мое аккуратное время, а мне на работу, еще и опоздаю из-за такого случая. Помнишь, как в том стихотворении? Нельзя попадаться навстречу, не смотри на продавленный мячик, лучше свернуть, не ответить. Я-то, слава богу, понимаю, что ничего не могу, что от меня ничего не зависит. У нас все-таки умеют разбираться, и не дураки решают. У нас и так множество проблем, а власти дают нам возможность не бояться, не реагировать на страх. Как он сказал? «Да не переживай, а что, а что». И я отогнал от себя картину: как пригибают в корзину для зелени голову, лишенную цилиндра. И повернулся по ходу движения всей толпы, и перестал оборачиваться, и с другими людьми продолжил идти, мы шли как гуси-лебеди, в нос налетали жуки, пыльца проваливалась в волосы, еще пара поворотов, и я дойду до почтового склада, и я на почте. Я окажусь в складках складов, среди множества контейнеров, помеченных знаком «Почта России». Какой из них мой, этот, наверное, этот, номер 22 567, да, наверное, этот, я тут уже, вот я.
2.2
Я сижу, упершись подбородком в желтую парту, на ней вырезано «эльфы ушли на восток» и «таня – жопа». Я сижу в первом ряду, у стены, под Лермонтовым; моя парта – вторая. В воздухе слышна зима, она за поворотом и в рукавах, поведешь рукавом – и сразу она наступит, осторожней двигай рукой. В воздухе – обед, вареные сосиски и, возможно, кофе с молоком. Рядом – Нателла, она скулит, объясняет: ей тут вообще не место, место ее – в музыкальной школе, в классе скрипки. У нее черная большая коса, большой рот, и она говорит: «У меня большое будущее». Сейчас случился тот урок природоведения, который я всегда буду помнить. Сперва речь шла об осадках и других погодных явлениях, и я перерисовывал из тетрадки Нателлы значки дождя и снега, ветра и солнца. Я наносил на карту звезды и Луну, я даже начал рисовать хвосты и перепонки на чешуйчатых крылах у маленьких существ, живущих на Луне, хотя этого никто и не требовал, а даже возбранялось (они говорили: «Художник – от слова “худо”», дергали за ухо и писали выговор в дневник). Вера Васильевна завела речь о том, что находится у нас под ногами – ниже второго этажа с классом биологии, в который нас пустят еще не скоро и в котором, по слухам, стоит самый настоящий скелет, кости заснувшего навсегда первого сторожа нашей школы, ниже первого этажа, где находится лабиринт, где гуляет песчаный ураган и где Гена Тополицын однажды на спор провел ночь и стал седым, ниже лабиринта – там, где подводные фиолетовые реки несут свое движение и цветут камыши невиданных расцветок, где спят праздничные великаны, ниже всего на свете. Об этом, переступая мелким сафьяновым шагом, тучная Вера Васильевна Сиреневая, которую все называют ВВС, шепчет нам, тридцати обморокам:
– В этой части почвы, ушедшей под суглинок, за толщею травы, за сном чертополоха, нас ждет идущий вглубь тот самый толстый-толстый слой…
– Шоколада! – выкрикиваю я и заставляю всех смеяться, призывая забыть о черной почве и вспомнить о недоступном нам «Марсе», увиденном в телеке на посте дежурного охранника Ивана Ильича.
– К доске, Мартын.
– Прошу называть меня не иначе как Мартын Филиппович.
– Ты что, ополоумел, мальчик?
Я объяснил: раз я называю ее Вера Васильевна, значит, и она должна уважать меня, и мы должны существовать в унисон, как ветер и звезды, как луна и солнце.
– Мартын наш опять напрашивается. У меня в каждом классе такой есть. Дед с бабкой до тряпки избаловали. Сядь уже.
Но я не сел. Я говорил: с какой стати она не может запомнить имя моего отца, если я помню имя ее отца, мы вместе выйдем на улицу, оказавшись под одними осадками, и наши имена и отцы будут общими, перемешавшись в зимнем воздухе.
Она смотрела на меня блестящей, как соль, сединой, чуяла всем ледяным сердцем и выгнала, вытолкнула меня, по пути оскорбив, наговорив океан бранных слов, указав на дверь, и я постыдно рыдал от обиды. Я хныкал, забившись между куртками третьеклассниц, их куртки пахли жвачками и мандариновыми корками. И когда я укрылся чужим шарфом, ко мне подошла девушка выше меня тогдашнего в семьсот раз и красивее всех, что живут между подводными реками, и стала успокаивать меня, уговаривая, что все переживется, каждый день по чуть-чуть. Кто она такая и что с ней стало, я не знаю. Я несколько раз старался быть изгнан из класса, я сидел на полу, принюхиваясь к мастике, мылу и жвачкам, я ждал, что она снова появится, но тщетно. Но знаешь что? Ты очень похожа на нее.
3.7
«что мы встречались где-то:
мне так знаком сосок твой и белье».
Так было написано зеленой краской на стене трансформаторной будки, у самого контейнера номер 22 567. А рядом – рисунок медицинской склянки, из которой капает изумруд. Точнее, написано было больше, но оранжевые дворники уже втерли часть букв в стену. Они и эти две строки почти втерли, но я их распознал. Я стал видеть эти знаки после встречи со странным человеком в тулупе, рассказывающем об экзопланетах, и после тех двух записок в почтовом ящике. Так эти черно-зеленые граффити и значок изумруда стали проступать из городского воздуха. Я, кстати, знаю это стихотворение, и теперь думаю о твоих сосках, и хочу тебе сказать: «Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг, / отдайся мне во всех садах и падежах!» И говорю.
3.8
Это был большой ржавый контейнер. Размером – с вагон метро, в котором от бесконечного движения окна исчезли и сделались стенками. А дверь в торце осталась. Формой – детский чернильный пенал, оброненный на пикнике и так бесконечно долго пролежавший среди ягод и осиных крыльев, что разросся до молодых сосен. Но больше всего он был похож на кита. И если ты спросишь меня, на какого именно кита из синей книжки, я скажу: на кита Фин-Бака. Он точно был не из китов с тридцать четвертой страницы: у тех китов слишком маленькая глотка, они не смогли бы поглотить столько людей. Это и не кит с клювом со страницы пятьдесят шесть, у которого бутылочный нос. А вот Фин-Бак – да. В желудке Фин-Бака пять или даже шесть кают. В каждой из них с легкостью поместятся несколько застолий. И главное: Фин-Бак дышит воздухом, поэтому в его голове запасная каюта, воздушная, – перед тем как проглотить, кит помещает тебя в воздушную каюту. А потом, когда придет срок, подплывает в мелкие воды и тихонечко опускает в волну: отправляет тебя на свободу. Но в этот момент ты, конечно, уже совершенно другой человек.
Этот почтовый контейнер был самым настоящим китом с воздушной каютой. И когда я попал внутрь, я увидел: все чрево ржавого контейнера было заставлено ящиками, в каждом ящике были ящички поменьше – и так много раз. И все было полно конвертов – разного размера, разных цветов, была даже компания обернутых в крафтовую бумагу коробок, маленьких и больших. Там были марки всех стран и самых разных рисунков. Там были подписи почерками, буквами и значками, какие только бывают на свете, виданные и невиданные. И все это впервые за многие дни и годы смотрело на свет, стало видимым, перестало быть невидимым. Конечно, ни на одном ящике не было и тени жука.
Несколько ящиков стояли сразу у входа. Я заглянул в один. Здесь лежали открытки, письма в конвертах и без конвертов на разных языках. Я вытащил наугад одну открытку.
1.1
Лилечка. Сейчас я въехал в историю. Думаю, что все мои отпуски в эти праздники уехали. Шел по коридору с разстегнутым воротничком и имел несчастье (мне ведь всегда не везет) налететь на самого барбоса – начальника. Раскатал и отослал к дежурному офицеру. Доложил и теперь жду последствий. Думаю, что до субботы все выяснится. Если позволите, буду звонить часов в 6 в этот день Вам. Ваш Коля. 17 ноября 1916 года[1].
3.9
Я пошел дальше по контейнеру. Я увидел: там, дальше, горит свет и много людей. Несколько ящиков с письмами сдвинуты, на них – полосы «Комсомольской правды». Такой невысокий стол, накрытый печатной скатертью. Люди сидели вокруг ящиков в тесном кружке, в два ряда. На ящиках стояло несколько бутылок: «Путинка», «Арарат», какое-то вино и сок «Добрый», томатный, ненавидимый мной. Нарезан хлеб, несколько чахлых фрагментов помидора. Рыбные консервы, пачка майонеза «Ряба». Но в глаза бросалось главное блюдо – серо-фиолетовые расплывающиеся предметы, то ли мясо, то ли овощи, лежащие в одноразовых тарелочках. От них шел пар.
Я включил диктофон и записал почти все, что происходило. Так что эту историю ты можешь узнать не в пересказе, а что диктофон не передает, я объясню.
«О, а вот пресса, ебушки-воробушки, ничоси шнобель, еврей, что ли? Да не ссы, проходи, “Всегдашняя Россия”, не смущайся. Людочка, а подсадите молодежь», – сказал визгливый с присвистом голос тучного человека.
Тучный сидел во главе стола, в сером пиджаке и в розовой рубашке, вылезавшей из штанов, узел его малинового галстука уже был ослаблен. «Прошу любить и жаловать, Костянка Анатолий Эрнстович, директор охраны, так сказать, этой богадельни богоспасаемой». Он протянул мне мокрую мягкую ладонь.
Меня посадили слева от него. «Россию любишь, журик? Президента чтишь?» – я нелепо кивнул: «Да, конечно». – «Да не потейте, журналист, это я для порядка, какие варианты, мы все едины».
Я, видимо, пришел далеко не к началу праздника, его участники были уже пьяны. Костянка на время забыл обо мне и предложил «по двадцать второй, за слабый пол, стоймя». Женщины засмеялись, все стали благодарить «нашего дорогого». Женщин в контейнере было сильно больше, чем мужчин. Громко играло радио «Русская дача» – помимо нашей информационной «России всегда», разрешены три развлекательные радиостанции. Музыка в эфире перемежалась анекдотами и гороскопами.
«А вот еще, похудительный анекдот от нашего слушателя из Иркутска:
Муж, придя домой, спрашивает у жены:
– Что этот мужик делает в моей кровати?
Жена, куря в форточку на кухне:
– Чу-де-са!»
Выпили еще. «Пресса, знакомься, Кувшинникова Инна Игоревна, наша героиня вечера, так сказать. Сиди-сиди, пионер носатый, – заговорил со мной Костянка. – Вот кому мы обязаны и праздником, и премией, и, чего уж там, денежкой. Вот кто нашел кубатуру эту. Инночка Игоревна, встань во весь рост, покажи стать свою богатырскую, расскажи прессе, что да как». Инна Игоревна была большой женщиной, с глубоким вязким голосом, конец каждой своей фразы она обозначала смешком. Я встал на цыпочки и поднес к ее рту диктофон. Она величаво, но со смешками рассказала, как искала какую-то документацию, устроила инвентаризацию, шарилась по старым контейнерам и вдруг в этом, «вот прям в этом, ха», нашла старые посылки и письма. На каждое третье слово она говорила «ха» – то ли смешок, то ли фрагмент кашля. Из ее рассказа я понял, что после находки начальство разрешило устроить праздник и здесь собрались охранники склада, администраторы, их друзья и даже один почтальон (Йося младший, как его здесь называли).
«Гороскоп предсказывает Стрельцу ловушки на пути к цели. Искрящийся взгляд и вдохновленная улыбка – вот чего вам не хватает. Вас пригласят в элитарное общество, где следует во всей красе проявить свои таланты». «Сегодня в офисе бросила пару таблеток виагры в общий кофейник. Купалась в комплиментах. Завтра брошу четыре». Я подумал – не об этом ли обволакивании говорил гигант в тулупчике на обломках старой ограды.
Меня стали угощать – в деревянную стопку налили «Путинку», засунули в рот чахлый помидор, положили на тарелку дымящиеся серо-фиолетовые предметы. Я спросил, что это. «А это, милый ты мой человек, на-ше специальное блюдо, уникальное предложение», – просвистел Костянка, уже сильно хмельной и икавший. Иногда он вдруг поднимал указательный палец, приглашая всех прислушаться к тому, что передает радио. После каждого анекдота очень громко смеялся.
«Два шофера:
– А ты какой резиной пользуешься?
– Зимней, шипованной!
– Бедная Наташка».
«Рыбам необходимо продумать этот день до тонкостей. Оградите себя от негатива во всех его проявлениях. Иллюзии в любовной сфере следует исключить».
«Слышали! Исключить иллюзии, рыбка моя! Ксюха, ублажи-ка нашего гостя». Из темноты вышла маленькая улыбчивая китаянка и на ломаном русском объяснила мне, что блюдо на моей тарелке – ее работа: она весь вечер варила и жарила в жиру цветы лотоса по рецепту бабушки.