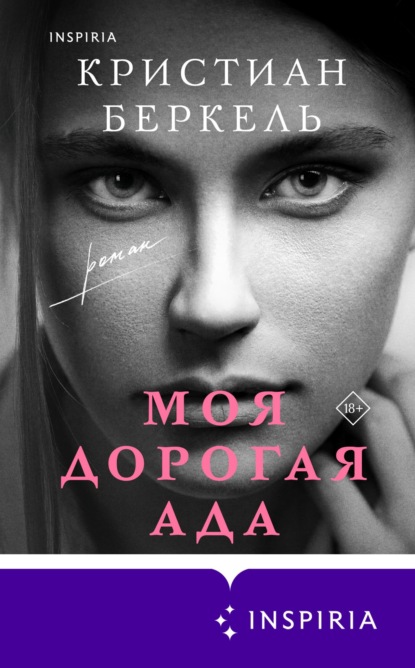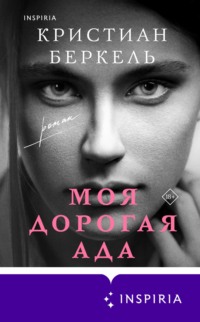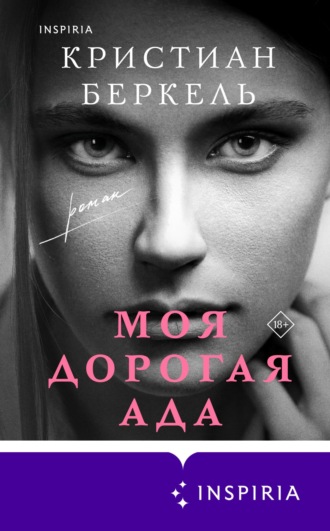
Полная версия
Моя дорогая Ада
Гитлер
С появлением подруги серый город сразу стал дружелюбнее. К тому же она могла рассказать о прошлом, в ее семье хранилось бесчисленное количество фотографий старого Берлина, и на одной из них ее отец даже был запечатлен с Адольфом Гитлером.
Кажется, я впервые услышала это имя от Ушки. На фотографии семья находилась в его имении «возле городских ворот», как со смехом сказала Ушка. Они стояли на просторной подъездной дорожке, на заднем плане сверкали два больших черных лимузина. Человек по фамилии Гитлер, которого она всегда с немного комичной интонацией называла «фюрером», гладил по волосам ребенка.
– Это ты? – спросила я на своем уже почти идеальном немецком.
Она кивнула.
– А это мой отец.
– Очень красивый, – не без зависти отметила я.
Наши взгляды замерли на фотокарточке. Высокая фигура казалась одновременно легкой и величавой.
– Кажется, именно тогда я видела его в последний раз.
Она помолчала.
– Знаешь, что самое худшее?
Я покачала головой.
– Я его не помню.
Мы сидели на набережной в зоопарке. Наши голые ноги болтались в воде. Вокруг одиноко жужжал шмель.
– У меня осталось лишь несколько снимков да рассказы матери.
Мы с Ушкой прошли половину города. Я еще никогда столько не ходила. Берлин был странным. Дома, улицы. Ничто между собой не сочеталось.
Недалеко от нашей квартиры стояла на площади церковь со сломанным шпилем – как объяснила Ушка, его снесло бомбой.
– Они застрелили отца, – сказала Ушка.
Она произнесла это очень легко. Впервые кто-то заговорил о войне.
– Кто такой Гитлер, мама?
Вопрос застал мою мать врасплох. Она удивленно на меня посмотрела.
– Мама?
Нас окружили торопящиеся прочь от школы люди. Подходили родители, чтобы забрать детей, гудели машины. Внезапно мать показалась мне очень уставшей, такой уставшей, будто вот-вот упадет. Она сжала кулаки. Я перепугалась. Видимо, в моем вопросе было что-то плохое. Или неправильное. Что-то опустилось на нас, словно мы оказались в стеклянной клетке. Мне вспомнилась «Алиса в Стране чудес», я стала крошечной и стояла перед матерью, стуча пальцами по стеклянной стене, и смотрела, как снаружи беззвучно скользили мимо люди, не обращая на нас никакого внимания.
Дома мать заперлась в спальне, шепча что-то про боль и ржавый гвоздь в голове. Это из-за меня.
Я уселась за кухонный стол делать уроки. Передо мной лежали раскрытые тетради и книги. Я смотрела на них. Мой взгляд осторожно блуждал между печатными страницами и пустой тетрадью. Я пыталась представить мать, как она сидит или лежит на кровати в своей комнате. В Буэнос-Айресе она тоже иногда себя так вела. Это всегда происходило неожиданно, словно лавина. Возникало из ниоткуда, как чудовище или бесформенный призрак. Но теперь у чудовища появилось имя: Гитлер.
Я должна была что-то сделать, прежде чем вернется отец и обнаружит ее в таком виде. Это ему точно не понравится, и возможно, он обвинит меня. Несколько дней назад он предупредил, что с ней следует всегда вести себя мило, особенно когда она устала, – я не должна становиться для нее обузой. Нужно ли сказать ему, что чужого имени оказалось достаточно, чтобы привести ее в такое состояние? Это звучало как очень глупое оправдание. Или будто я сумасшедшая. Меня трясло от холода. Снаружи светило солнце. Возможно, он подумает, что мы снова говорим по-испански втайне от него. Я его понимала. Мне бы тоже не понравилось, если бы мой ребенок говорил на другом языке, на котором я не понимаю ни единого слова. Возможно, я тоже бы закричала или даже схватила ребенка, чтобы его избить, а потом еще избила бы его мать – она плохо воспитала ребенка, не научив родному языку. Но что делать теперь? Я тихонько прокралась в спальню. Осторожно прижала ухо к двери. Услышала ли я хрипы? Или просто шорох? Там что-то двигалось? Если просто войти, она может очень сильно разозлиться, ведь дверь закрыта не просто так. Мать хочет тишины и покоя, ее ни в коем случае нельзя тревожить. С другой стороны, если она задохнется в своей комнате, я буду виновата в ее смерти. Нужно что-то придумать, какое-нибудь хорошее оправдание, что-то простое, совсем случайное. Но в голову ничего не приходило. Чем напряженнее я думала, чем стремительнее нарастал страх. Ведь было то, чего я боялась сильнее материнского гнева из-за непрошенного визита в спальню. Страшнее любого наказания был ее взгляд: она пялилась в пустоту широко раскрытыми глазами, огромными стеклянными бусинами в темных впадинах подо лбом, когда-то мягкими и красивыми, а теперь пустыми. Когда я впервые увидела мать, лежащую вот так на кровати в Буэнос-Айресе, то решила: она умерла. Тогда я подумала, что моя судьба предрешена, я окажусь во власти близнецов, потерянная в чужой стране. Откуда мне было знать, что меня ждало другое место? Место, где я родилась. Нужно срочно что-то делать. Нельзя ждать, пока станет слишком поздно.
Когда вошел отец, я по-прежнему неподвижно сидела за столом.
– Ада?
Я не двинулась с места. Он положил ладонь мне на лоб, пощупал пульс. Потом отправился в спальню.
– Сала?
Мать тоже не ответила. Вернувшись на кухню, он взял меня на руки. Отнес в спальню и осторожно положил рядом с мамой. Как давно мы не лежали рядом? Он присел к нам, опустил руки на лбы. Хрипы матери утихли, сменились ровным дыханием, глаза закрылись, на лицо вернулся мягкий румянец.
Жена Лота
Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Так в Библии предупреждают Лота ангелы, пытаясь спасти его от грозящей гибели. Лот и его дочери придерживаются совета, но, когда Бог насылает на Содом и Гоморру дождь из серы и огня, чтобы уничтожить города, их жителей и все, что растет из земли, жена Лота оборачивается и превращается в соляной столп.
Мы стояли перед турагентством. Всюду плакаты. И везде Италия. Весна в Италии, лето в Италии, солнце, песок и море, маленькая птичка щебечет на зеленом фоне под синим летним небом, очаровательная красотка с волнистыми волосами и разноцветным букетом возле груди стоит у римской колонны, сверкают кабриолеты, автомобили «Боргвард», «БМВ», «Авто Юнион», «ДКВ» и даже скутер «Го-Го», они зовут прокатиться с дорогой супругой и милыми детишками по теплому югу. Мать молча побежала дальше.
Мы спешили по улицам, мимо строительных площадок, рекламных плакатов с моющими средствами, кулинарными книгами, автомобилями, нейлоновыми и перлоновыми чулками. Перед книжным мы остановились. Мать с любопытством изучила названия книг в витрине: «Счастливая домохозяйка», «Красота в доме», «Красивые и практичные фартуки», «Быть и оставаться красивой», чуть левее – «Советы для женщин: хобби моего шефа», «Шансы на брак у женщин».
– Просто умора, – пробормотала она.
На этот раз она не стала вдаваться в подробности, лишь немного подышала на витрину. Наклонилась вперед: на одном из плакатов спиной к зрителю стоял мужчина и смотрел на таблицу, где выстроились в ряд женские силуэты – по возрасту, от двадцати до пятидесяти, – и с каждым десятилетием их становилось все меньше. К пятидесяти осталась только одна. В соседнем магазине мы купили перлоновые чулки.
Когда Мопп открыла дверь, мать бросилась к ней в объятия. Мопп крепко прижала ее к себе и затащила нас в свою квартирку. Здесь царило тепло. Возможно, благодаря желтым, коричневым и красным оттенкам, или тому, как Мопп расставила свои немногочисленные вещи, или тяжелым, мягким занавескам, которые словно повторяли изгибы Мопп, прежде чем плавно лечь на пол. Мать устало опустилась в кресло.
– Ундерберг поможет каждой уставшей и обессиленной женщине.
Мать изумленно на меня посмотрела. Мопп громко фыркнула.
– С чего ты взяла?
– Так написано на одном из рекламных щитов. Там сидит, подперев голову, жутко уставшая женщина, а рядом на столе стоит стакан и бутылка настойки. И сверху надпись: Ундерберг поможет каждой уставшей и обессиленной женщине.
– Я не устала, – мать посмотрела на Мопп. – Ну может, немного обессилела.
Они расхохотались. И я тоже не удержалась от смеха. Все снова стало хорошо.
– Ундерберга у меня нет, но как насчет вина?
– В такое время? – с наигранным ужасом спросила мать.
– Днем лекарство, вечером грех, – сказала Мопп.
Снова этот смех. Минуту назад жизнь казалась тягостной, но теперь все стало прекрасно и удивительно. Мопп вернулась с бутылкой белого вина и двумя бокалами. Она тихо села с другой стороны овального столика.
– Поздний урожай. Монастырское.
Мать пила маленькими быстрыми глотками. Постепенно расслабившись, она окинула взглядом комнату. Со времени нашего последнего визита многое изменилось. Появились стулья, на которых мы сидели, радиола, маленький телевизор, ковер, даже настенные лампы и стеклянные сосульки, свисающие с потолка посреди комнаты.
– Ты выиграла в лотерею?
– Не-а, дядюшка отошел в мир иной.
– Значит, можем оторваться.
Они рассмеялись.
– Так ты не прочь? С виду и не скажешь, – заметила Мопп. Ее маленькие глазки загорелись уверенностью. – Знаешь что, Ада? Мы с мамой немного поболтаем на кухне, а ты пока посмотри телевизор. Что скажешь?
Я радостно закивала. Дома телевизора не было, отец был категорически против. «Чистое одурачивание народа», – заявлял он, и ничто не могло его переубедить. В школе я вечно краснела до ушей, когда другие рассказывали, что посмотрели накануне вечером.
– Сейчас как раз идет «Отец знает лучше».
Мать громко расхохоталась.
– Умооора.
Я не понимала, что в этом смешного, но на всякий случай посмеялась.
Мопп включила телевизор и принесла бутерброды.
Сериал был про прекрасную американскую семью. Отец Джеймс, которого все называли Джимом, каждый вечер возвращался домой после успешного рабочего дня, натягивал удобный свитер и спрашивал, как его дорогая семья провела день. У нас только мать периодически спрашивала, как дела в клинике, а отец, который не расставался с галстуком и воротничком даже после работы, отвечал либо «лучше молчи», либо «мое терпение подходит к концу». Жена Джима Маргарет с большой любовью занималась домом, и казалось, это доставляет ей огромное удовольствие – в отличие от моей матери. Правда, в ее распоряжении были самые лучшие новомодные вещи, устройства, которых я прежде нигде не видела, и они словно выполняли работу за нее. Еще у них была старшая дочь, Бетти, которую отец всегда называл принцессой. Она была старше меня – лет семнадцать. Ее младший брат Бад вел себя весьма непослушно, и его постоянно называли подростком, если он допекал самую младшую сестру, Киттен. В остальном все было как в реальной жизни – только иначе, чем у нас. Отец Джим заботился обо всем, буквально обо всем, всегда улыбался, а любимая жена помогала ему и улыбалась еще шире. Эта семья немного напомнила мне Мопп, чей веселый хохот доносился из кухни. Она была единственным человеком в Германии, который постоянно улыбался или смеялся. Я представляла, как хорошо ее бледное круглое лицо впишется в семью Джима, Маргарет, Бетти, Бада и Киттен. Она не была красоткой, но, несмотря на слегка съехавший парик, маленький острый ротик и круглые щечки, в ней таилось гораздо большее – она была прекрасна, ведь когда она появлялась, всходило солнце. Она знала меня с рождения. И была единственным человеком из того темного времени, о котором все молчали.
За окном зажглись фонари. Замигали их желтые огни. Разве нам не пора домой? Разве нас не ждет с нетерпением мой отец? Я беспокойно прокралась в коридор. И замерла как вкопанная – мать плакала. Я уже несколько дней чувствовала грядущие перемены, они то накатывали, то отступали. Ее лицо обретало бледно-желтый оттенок свечного воска. И хотя она продолжала набирать вес, в такие моменты она казалась обессиленной, словно вот-вот рухнет. Она плакала. Скорее, хороший знак. Когда дела шли совсем плохо, она лишь пялилась в одну точку. И напоминала пустой трамвай, который стоял и ждал, пока из него выйдут все призраки.
– Если лошадь мертва, всадник спешивается.
Однажды вечером она сказала эту фразу моему отцу, а потом они молча ушли с кухни. Они не знали, что я еще не сплю. Не видели моих широко раскрытых в темноте глаз.
Я должна была узнать, почему она плачет. И я прокралась вдоль стены к кухонной двери.
– Думаю… – Она глубоко вздохнула. – Думаю…
Ей было тяжело говорить, я почувствовала, я знала. У меня за спиной зазвучал вальс, возвещая о начале следующей передачи, нам пора было срочно уезжать, отец наверняка уже мечется по кухне, словно рассерженный человечек из рекламы сигарет HB. На улице пошел снег, первые хлопья колыхались на ветру и, умирая, бились в окно гостиной.
– Думаю, мне нужно уехать. Думаю, я хочу в Париж, – услышала я голос матери. – Купить в турагентстве билет на поезд, пойти домой, придумать историю – скорее для Ады, чем для Отто, – и продолжать плакать от радости, от тоски. Когда разрывается сердце, я знаю: все правильно, Мопп. Как и тогда, выйти на Лионском вокзале. Лола с шофером меня не встретят, но это неважно, главное – Париж, хоть ненадолго, и я вернусь, лишь глотну немного воздуха, переведу дыхание. Почему мне нельзя? А вдруг я встречу Ханнеса, случайно, как тогда в «Дё маго»? Господи, – она тихо рассмеялась. – Как сейчас, помню тех немецких солдат и двух молодых француженок, к которым они неуклюже подбивали клинья, обмениваясь непристойностями с помощью азбуки Морзе. И вдруг рядом сел он. Появился из ниоткуда, темные волосы элегантно зачесаны назад с помощью помады, легкий аромат цитрусовых, блестящие белые зубы – он был невероятно хорош, как американская кинозвезда. Как Кэри Грант. Потом он шепотом переводил мне перестукивания солдат. Сразу начал говорить со мной по-немецки. Не услышав от меня ни слова, ни секунды не сомневался в моем происхождении. – Она снова рассмеялась. – Его длинные руки, тонкие пальцы, первое прикосновение. Мы вышли на улицу и уставились на небо. Луна над нами. Несколько дней, несколько ночей, а потом он исчез, и на пороге возник Отто. Точно как в Лейпциге.
Мать долго молчала, потом прокашлялась.
– Безумие.
– Что? – уточнила Мопп.
– Всякий раз, когда исчезал Ханнес, появлялся Отто. Словно из ниоткуда. Будто они договаривались. В Лейпциге я его едва узнала. Призрак на вокзале. Отощал до костей. Два дня, и ему пришлось вернуться на фронт. А я забеременела.
– Да, – сказала Мопп.
– Порой, когда во мне пробуждаются эти воспоминания, я боюсь стать похожей на мать. Я не знаю, что делать, Мопп.
Стало так тихо, что я услышала их дыхание. Из гостиной доносилась драматичная музыка.
– В мыслях я бегаю по улицам с Ханнесом, как тогда, рука об руку. Я виделась с ним снова вскоре после нашего возвращения из Аргентины. Через два дня после того, как нашла Отто в телефонной книге, помнишь?
– Еще бы.
– Отто и Ханнес, как в Париже и Лейпциге. Сначала один, потом другой.
Сердце колотилось так громко, что я прижала руку к груди, опасаясь, что оно меня выдаст.
– Думаю, я надеялась, что Ада почувствует правду. Что ребенок сможет принять решение за меня. Мне хотелось наконец обрести покой. Хотелось дом. А теперь я убегаю. Как мать. Я такая же неугомонная, как она. Знаешь, что она тогда написала, когда я была почти ребенком? Время от времени над этим миром появляется метеор, который указывает путь другим. Значение имеют только эти метеоры, и ничто другое.
Они помолчали.
– Я не метеор, Мопп. Я не боролась с диктатурой Франко, как она, меня не приговаривали к смерти за убеждения, я не ждала пять лет в тюремной камере казни. За мной охотились, запирали – тогда, в Гюрсе, – и лишь случайность спасла меня от газовых камер Освенцима.
– Но ее помиловали, она выжила, как и ты.
– Да, прямо как я, только стала при этом героем. – Ее голос прозвучал холодно и горько. – Анархистка, которая не боялась смерти.
Снова стало тихо. Только работал телевизор, мой тайный сообщник.
– А я? Лишь по счастливой случайности вырвалась из лап смерти. Выжила, пока миллионы людей задыхались в газовых камерах. И даже если бы все сложилось иначе… Я бы умерла просто из-за убеждений нацистов, а не в борьбе за собственные идеалы. Мне этого даже в голову не приходило. Когда я сидела с другими женщинами за колючей проволокой в Гюрсе, я просто хотела выбраться. Выжить, и больше ничего.
– Ты хочешь чувствовать себя виноватой? Сала, это абсурд.
Я не понимала ни слова. Скрипнул стул, словно Мопп придвинулась ближе.
– Я постоянно думаю о Ханнесе. Ничего не могу поделать. Я плохая мать и плохая жена.
– Сала, это пройдет.
– Plaisir d’amour ne dure qu’un instant…[8]
Они принялись тихо напевать песню.
– Chagrin d’amour dure toute la vie…[9]
Мать рассмеялась. Что-то зашуршало. Теперь они обнимались?
– Ты права. Это пройдет. Просто он был частью меня. А теперь обе части живут в разных местах. В разных временах. Больше ничего общего. Впрочем, кто знает.
– Париж? – спросила Мопп.
– А почему нет? Да, почему нет? Есть много причин остаться: Ада, Отто. Отказ от бегства – тоже важная причина. Нужно нести ответственность. Это правильные ответы, но они звучат фальшиво. Все фальшиво. Куда бы я ни пошла… Ничего не выйдет.
– Может, не сегодня… – сказала Мопп.
Перед глазами все поплыло, я задыхалась, пытаясь побороть подступающие слезы. Почему Мопп не испугалась? Не рассердилась? Разве то, что собирается сделать мать, не ужасно? Она хотела бросить мужчину, которого наконец нашла, хотела бросить меня. Она оказалась ничем не лучше своей матери. Такой же холодной и злой. Неужели она настолько нас ненавидела? Сначала я хотела закричать. Но не смогла. Я незаметно вошла в дверь.
– Нам пора домой.
Мать подняла взгляд. Побелев как мел, вытерла со щеки слезу. Мопп сидела напротив. Она не смеялась и не плакала. Была спокойна и ясна, как зеркало. Лицо матери оживилось, цвет медленно вернулся – словно поезд, снова набирающий скорость. Она подняла голову и тряхнула темными волосами.
– Мне нужно в парикмахерскую.
Голоса
Я до сих пор иногда их слышу, во сне или наяву. Непонятые тогда слова: газовая камера, Освенцим, Гюрс. Они остались незнакомыми, хоть их и подкрепили заезженными объяснениями. А мне не хватало не объяснений, а чувств. Мое тогдашнее подслушивание кажется теперь таким же беспомощным, как отслеживание разговора на совершенно незнакомом языке. Я вижу маленькую десятилетнюю девочку, которая пыталась плыть против течения, словно лосось, стремилась вернуться к источнику, но не знала, что там можно искать или найти.
На следующее утро меня разбудил шепот родителей. Я притворилась спящей.
– Я должна уехать, я больше не могу.
– Сала, это пройдет. Подумай о ребенке.
– Не могу.
Я прислушалась к звукам. Шум воды, грохот посуды. Родители молча накрывали стол к завтраку. Конечно же, не глядя друг на друга, это я уже знала. Они любили друг друга, я это чувствовала, но иногда казались такими чужими, словно приехали из далеких стран. Скоро мать явится меня будить. Придется идти в ванную. Мыться, одеваться, ехать на автобусе в школу.
– Отто, прошу.
– Как ты это себе представляешь?
– Мопп могла бы немного пожить у нас.
– Мопп?
– Она обо всем позаботится, вот увидишь.
Они снова замолчали. Тишина подползала все ближе. Я боялась даже дышать.
– Надолго?
Ответа нет. Почему она не ответила? Что означает это молчание?
– Что тебе понадобилось в Аргентине? Я не понимаю, Сала. Мы пытаемся здесь что-то построить. Почему ты убегаешь?
– Только… Один раз. Эта страна. Люди. Я так по всему скучаю. Хочу увидеть еще раз. Последний раз. Прошу.
– Надолго?
– Может, на несколько недель… Не знаю, Отто. Правда, не знаю.
Несколько недель? А может, больше? Может, месяцев? А я? Разве я не скучаю по Аргентине? Если она меня любит, как всегда говорила, то почему хочет уехать? Почему оставляет меня одну с отцом?
– Мне не хватает здесь воздуха. Я задыхаюсь, Отто. Разве ты не понимаешь? Прошу.
– Нет. Не понимаю. Я уже ничего не понимаю. Задыхаешься? Думаешь, я здесь не задыхаюсь? Думаешь, меня не тошнит, когда я вижу в клинике старых нацистов? Шеллинга и его подельников, расширявших шрамы на лице конскими волосами?
Все замерло.
– Хорошо, – сказал он.
– Ты сделаешь это для меня?
Я слушала, затаив дыхание. Почему он не отвечал? Я не хотела, чтобы сюда переезжала Мопп и брала на себя обязанности матери. Но что я могла сделать? Я уже не была ребенком, но пока оставалась маленькой женщиной. Я подумала об Ушке. Подруга словно возникла передо мной. Прямые светлые волосы падали ей на лицо. Оставалось надеяться, что она тоже не убежит.
Через несколько дней я проснулась в нашей маленькой квартирке. Еще в полусне, как обычно, отправилась искать мать. Она исчезла. Сначала я подумала, она ушла гулять, хотя она почти никогда так не делала. Она не любила двигаться. Не ходила гулять, сидела весь день в квартире и смотрела в окно.
– Мама?
Я побежала в спальню. Там ее тоже не оказалось. Дверцы шкафа были распахнуты настежь.
Вечером вернулся отец. Я стояла в дверях, словно пытаясь преградить ему путь.
– Где мама?
Он посмотрел на меня рассеянно, будто не понимая вопроса.
– Она… Но мы же тебе сказали… Ей нужно еще раз вернуться в Буэнос-Айрес.
– В Буэнос-Айрес, но?..
Я задрожала, из глаз потекли слезы.
– Не грусти, она скоро вернется.
Я не грустила, а злилась, злилась от бессилия, гнев охватил мое тело и не желал отпускать, и неважно, сколь крепко меня обнимал отец. Я не знала, когда вернется мать и можно ли вообще на это рассчитывать. Действительно ли она поехала в Буэнос-Айрес или все же в Париж? Я не знала, подозревает ли что-нибудь отец и что ему вообще известно. Знаком ли он с этим Ханнесом? Знает ли что-нибудь про этот странный Гюрс? Почему он ничего не сделал? Почему не похож на Джима из сериала, который заботится о членах своей семьи с улыбкой на лице?
На следующее утро за завтраком я села на свое привычное место. И молча наблюдала за движениями отца. Его мысли где-то блуждали. Но где бы они ни были, он чувствовал себя плохо, я видела, он растерян. Он стоял передо мной, словно в мечтах. Если я помещала людей и предметы в дымку грез, мне становилось легче их понимать. Все лишнее растворялось в тумане, и вещи выглядели отчетливее. Мне по-прежнему было трудно произносить слово «папа». За годы ожидания не прошло ни одного дня, чтобы я об этом не мечтала. В моих фантазиях он всегда был рядом, когда я в этом нуждалась. Его защитная сила росла вместе с моей тоской, она проникала в его мускулы и делала его сильнее любого другого отца. Вновь и вновь я представляла, как произнесу это слово. Я знала: он в России. И больше ничего. В то время письма часто не доходили до адресата, это считалось нормой. Откуда еще он мог про меня узнать? Странная история: где-то в мире, очень далеко, живут его жена и дочь, которую он никогда не видел и не может себе представить.
– Почему мы не можем остаться одни?
– Так не пойдет.
– Но почему?
– Ада…
Наконец он на меня посмотрел.
– Кто тогда будет о тебе заботиться после школы? Готовить для тебя? И для меня?
– Ты.
– Мужчины не умеют готовить.
Он рассмеялся.
– Но мама говорит, ты можешь все.
– В плане домашнего хозяйства у меня обе руки левые, – смеялся он.
– Ты врешь, ты врешь! – закричала я. – Мама сказала, у тебя золотые руки, исцеляющие руки, и…
– Но только в клинике. Дома у меня обе левые.
Он перестал смеяться, намазал маслом кусок хлеба, положил сверху колбасу, быстрым движением разрезал бутерброд на две половины, сложил их и завернул в бумагу. Потом положил перекус в мой рюкзак. Вытер со стола крошки. Какая там неуклюжесть.
– Почему мы не можем жить вдвоем? Только ты и я.
Он посмотрел на меня непонимающе.
Неразлучники
Первая неделя пролетела быстро. По утрам я ходила в школу. Когда возвращалась, папа пытался сварганить что-нибудь съедобное. Словно в доказательство собственной непригодности, он провалил первую же попытку приготовить яичницу. После обеда он ложился вздремнуть. С этого момента я была предоставлена самой себе, пока вечером он не возвращался из клиники.
Как только он выходил за порог, я договаривалась о встрече с Ушкой. Я ужасно стыдилась, что меня бросила мать, и сочинила историю.
– Она уехала в Мадрид, к своей матери.
– Надолго?
– Понятия не имею. У нее какие-то дела. – Я попыталась перевести тему. – Твоя бабушка живет в Берлине?
– Нет, она погибла в войну, – сказала Ушка.
– Мою приговорили к смертной казни.