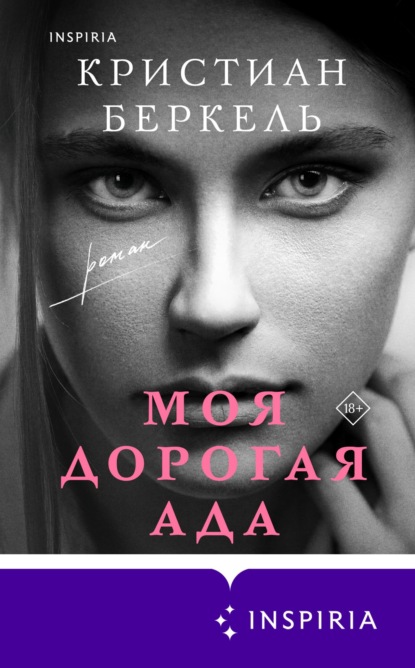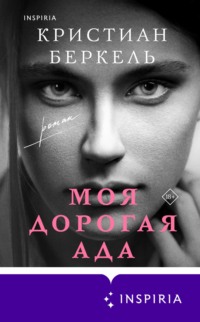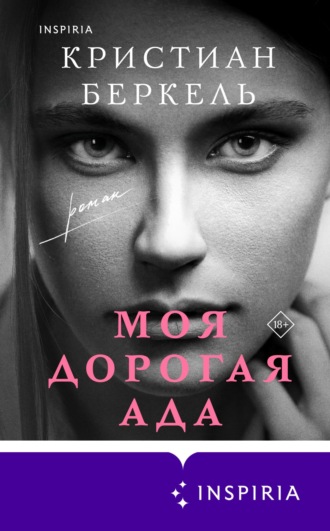
Полная версия
Моя дорогая Ада
– Тогда со следующей недели приступим. И еще. Во время лечения по возможности следует избегать серьезных жизненных изменений.
– Хорошо. Сколько понадобится времени?
– Давайте сначала начнем.
Уже в дверях он протянул мне руку.
– До понедельника.
– Да, до понедельника. Спасибо.
Наконец улыбка. Он и правда похож на моего дедушку.
Сначала было братоубийство
Все началось с крика, и для меня тоже. Меня зовут Ада. Я родилась прямо перед концом войны, в феврале 1945-го, в Лейпциге. Когда Германия наконец была повержена. Во время родов моя мать чуть не погибла от потери крови. Гинеколог, старый профессор-нацист самого дурного сорта, вырвал меня щипцами через двадцать шесть часов – словно она не хотела меня отдавать. «Настоящая пытка, будто по мне грузовик проехался», – рассказывала она.
На самом деле подобные выражения нетипичны для женщины из хорошей семьи – возможно, причина крылась в тоске по моему отцу, который все еще оставался в русском плену, а после возвращения отказался приезжать в Аргентину, куда мы эмигрировали после войны. Мой отец «с задворок Кройцберга», говорила она, и в зависимости от интонаций это звучало восхищенно или презрительно. В общем, грузовик. Грузовик этот ехал в дрожащий от холода и голода мир, и был мной. Но потом появилось кое-что еще. «Плоский, как бумага», – изумленно крикнула акушерка нацистскому профессору. Бумагой оказался мой погибший близнец. Его пол определить было невозможно.
Возможно, меня лишил дара речи подобный старт? Был ли мой крик победным, потому что я избавилась от конкуренции еще до рождения, в материнской утробе? Возможно, я разрешила древнейший конфликт человечества – братоубийство – еще до начала? Не знаю. Я ведь даже не знаю, был ли это брат или сестра.
В любом случае в первые годы жизни я не хотела разговаривать. Предполагается, что я очень рано начала понимать все сказанное, «нооо», как не устает подчеркивать мать, я наотрез отказывалась повторять за ней любые слова. Это оказалось для нее большим ударом. В конце концов, ее дядя в нежном возрасте двадцати семи лет возглавил специально созданную для него кафедру нового предмета в берлинском университете Гумбольдта, ее отец лично знал Зигмунда Фрейда и проводил психоанализ Герману Гессе, ее еврейка-мать была психиатром и смогла пережить отца, мать и Франко, испанского генералиссимуса. Лучших предпосылок и не придумаешь. «Просто период», – говорит она теперь. Но я с самого начала оказалась разочарованием, самым худшим позором. Я, дитя невообразимо огромной любви, любви, которая оказалась сильнее войны, Бога и даже маленького австрийского художника, ефрейтора с забавными усами над верхней губой – Гитлера. И это дитя, то есть я, не могло или не желало говорить. Видимо, я не хотела утруждаться – по крайней мере, так казалось матери.
Комод
Он стоял в нашей маленькой спальне и казался особенно притягательным. Комната, где мы жили в Буэнос-Айресе, нам не принадлежала. Владельцами были немыслимо богатые супруги из Аргентины, ее звали Мерседес – да, как немецкий автомобиль, – а его Герман, и нет, это не означает «немец», это просто испанский вариант имени Херманн. По совпадению – если верить в совпадения – оно совпадает со второй фамилией моего отца, которого зовут Отто, Отто Херманн, но об этом позже.
Почему мы переехали из Германии, я не знала, на тот момент мне было два года. Одним жутко холодным зимним днем мы сели на большой корабль и несколько недель спустя причалили в Буэнос-Айресе, где сияло летнее солнце. Это определенно напоминало перемену к лучшему. Сначала. Вскоре мать нашла работу – воспитывала двух избалованных паршивцев, близнецов, которые не смогли придумать ничего лучше, кроме как с утра до вечера выказывать надо мной превосходство. Я была уже вполне готова заговорить – хотя бы из-за неописуемых усилий матери. Она мастерила карточные игры, лепила из мокрых газет кукол и проводила со мной любую свободную минуту, во всяком случае, сначала. Но я очень быстро поняла: мое молчание – единственное эффективное оружие в борьбе с близнецами. Они начали меня бояться и называли ведьмой. Когда они пытались меня избить или раздеть, чтобы унизить, я внезапно начинала изо всех сил кричать. И брала такие высокие ноты, что они испуганно убегали.
Итак, мы жили во дворце, но в нашем распоряжении была лишь крошечная комнатка. Мы относились к обслуге, обслуживающему персоналу. А поскольку рассматривать в этой комнате было особо нечего, я сосредоточила все внимание на комоде. C’etait mon caprice, он стал моей прихотью, если говорить по-французски – этот язык, как и родной испанский, кажется мне менее конфликтным, чем немецкий, который я выучила гораздо позже. Кроме того, по-французски все звучит элегантнее, это помогло мне преодолеть «комплекс низшего класса», хотя его у меня не должно быть вовсе, ведь я происхожу из хорошей семьи – во всяком случае, со стороны матери. Но разве мы зачастую не кажемся тем, кем меньше всего являемся?
Комод этот, громоздкий представитель эпохи аргентинского барокко, сам по себе особого интереса не представлял – в отличие от содержимого. Он был святилищем, и безнаказанно открывать его не позволялось никому, что привлекало еще сильнее. Мать часто молча сидела возле него, погрузившись в письма, а потом прятала их обратно в верхний ящик или меняла на старые фотографии. На одном снимке на темно-сером фоне стоял молодой человек со спокойным лицом. Она сказала – мой отец.
Я знала его только по этой довольно потрепанной и вдобавок нечеткой фотографии. Я никогда его не видела, никогда не слышала его голоса, и в глазах остальных, особенно близнецов, я была внебрачным ребенком из чужой страны, чья мать по никому – и в первую очередь мне самой – не известным и не понятным причинам переехала в Аргентину. Ребенок, который не умел говорить и, что гораздо хуже, не был крещен, а значит, не исповедовал католическую веру, в отличие от любого другого ребенка в этой стране. С матерью, которая действовала всем на нервы, потому что была истинной немкой, потому что всегда хотела делать все правильно, потому что у нее не было денег и она зависела от благосклонности окружающих. Больше я о своем происхождении ничего не знала.
Второй ящик был еще загадочнее. Там мать прятала нижнее белье. Ее трусы отличались от моих лишь размером, но рядом лежало кое-что, вызывающее большой интерес. То, чего не было у меня, то, что я не могла носить – из-за абсолютной бессмысленности. Казалось, мое маленькое тело для этого не подходит, «пока нет», как со смехом сказала мать, закатив глаза. Она не заметила, насколько мне запали в душу ее слова. Необычный предмет состоял из двух корзинок, в которые мать каждое утро укладывала грудь. Я думала, что когда-нибудь у меня тоже будет грудь, но пока была лишь маленькой женщиной: сеньоритой. Я поняла смысл этого слова гораздо позднее, но в отличие от мальчиков мы, девочки, были не девочками, а маленькими женщинами и потому стремились поскорее вырасти – ведь маленькая женщина, строго говоря, и не женщина вовсе. А поскольку она и не девочка – она никто.
Когда матери не было дома, я надевала корзинки, засовывала в них яблоки или апельсины, завязывала сзади концы и гордо расхаживала перед зеркалом. Краткие мгновения тайного счастья, любопытство, за которое мне вскоре пришлось дорого заплатить.
Почему мать пряталась от меня каждое утро и каждый вечер, когда одевалась и раздевалась? Иногда мне все же удавалось мельком увидеть, как груди выскальзывали из корзинок или засовывались обратно, словно были бременем. Возможно, подумала я, стоит повременить со взрослением. Я решила повнимательнее присмотреться к окружению.
Грехопадение
Вскоре я научилась мыть себе попу. Попа – то, что идет от маленькой прорези спереди до большой прорези сзади, объяснила мать. В обеих прорезях были дырочки, до которых нельзя дотрагиваться, и все называлось одним словом: попа. Одна попа делала одно, другая другое, но, по сути, одно и то же и всегда немного «фу». Позднее мы с подругами решили, что наши матери не хотели произносить другое слово, словно его не существовало – ведь если чего-то не существует, то для него и слова быть не может, верно? Уже потом, в школе, когда мне было шестнадцать или даже больше, слово все же появилось: «вагина» или «влагалище». Это звучало немного воодушевляюще. Чтобы мальчики говорили о «пенисе», я тоже никогда не слышала – даже на уроках биологии. Мать всегда говорила об этих вещах со строгостью. Кроме того, похоже, она считала, будто я понимаю все ее слова, и часто заканчивала предложения фразой: «Прааавда же?» Я ничего не знала о правде, но мне нравилось мыть прорези. Это было здорово.
С невинным любопытством – впрочем, наверное, любопытство никогда не лишено вины, во всяком случае, в католической стране, – и потому скорее даже мечтательно однажды утром я зашла в прихожую хозяйской спальни. В открытые окна светило жаркое солнце. За приоткрытой дверью двигались тени Мерседес и Германа. Их голая кожа блестела от влаги, они стонали, и вдруг Мерседес издала хриплый крик боли и на одно бесконечное мгновение посмотрела мне прямо в глаза. Я замерла. Она что, умирает? И если да, что мне делать? Куда идти? В нашей комнате спала мать, ее будить нельзя. Я в страхе побежала в туалет, сняла трусы, села на край белой ванны и крепко зажала руки между тонкими бедрами, где-то рядом с дырочками. Дверь распахнулась. Одна рука схватила меня за шею, другая вытащила пальцы из прорези. Я закричала.
Я не понимала брошенных мне слов. Заскулив, словно маленькая собачка близнецов, я забилась за унитаз. Передо мной стояла бледная Мерседес. Она кричала и плевалась. Раз за разом в меня плевалась. В ушах застучало сердце, и когда я снова вскочила, то ударилась головой об раковину. Горячая вода потекла по волосам, обжигая лицо. Потом стук замедлился, затихая, меня бросало то в жар, то в холод, пока все вокруг не слилось в равномерный шум. Я попыталась вздохнуть, но теперь вместо воздуха в легкие лилась вода – с тех пор у меня возникло некоторое отвращение к воде в любой форме. Я снова почувствовала железную хватку Мерседес. Потом у меня внутри раздался громкий, настойчивый стук, будто кто-то ломился в дверь. Я пыталась вырваться. Билась и брыкалась. Но это не помогало, я становилась все слабее, пока не расслышала слабый крик матери. Я выскользнула из рук Мерседес и сильно ударилась об пол. Что сочилось по лбу? Я не чувствовала ни боли, ни печали, ни страха, ни стыда. Я больше вообще ничего не чувствовала, и от этого небытия было хорошо.
После этого все изменилось. Мерседес и моя мать перестали разговаривать, но, что еще хуже, мать почти перестала разговаривать и со мной. Иногда она брала меня на руки или сажала к себе на колени, но следила, чтобы я держала ноги сомкнутыми. Отводя взгляд, она избегала любых движений – никакого любимого мною покачивания. Однажды я схватила ее за подбородок. Мы посмотрели друг на друга с удивлением. Время вздулось, как мыльный пузырь, растаяло и лопнуло.
Воскресенья мы проводили в церкви. После службы мать скрывалась в исповедальне. Бродя в одиночестве, я заблудилась в задней части часовни. И испуганно остановилась в небольшом скрытом от посторонних глаз своде. Погруженная в темноту, словно доступная лишь посвященным, там стояла деревянная скульптура Богоматери с сыном. Иисус пытливо смотрел на мать, Мария отвернулась. Получается, мать правильно делает, что больше не смотрит мне в глаза, – Богородица тоже не смотрела на своего ребенка. Но это все равно ранило, и я обижалась на мать.
Через несколько дней мы со священником торжественно встали друг напротив друга. Мрачно бормоча что-то себе под нос – вероятно, молитву, он плеснул мне на голову святой водой.
– Теперь ты христианка, – сказала мать.
Я не понимала, что это значит, но, похоже, мать этим гордилась, и я подумала, она гордится и мной. Совершенно новое, возвышенное чувство.
По вечерам она читала мне Библию. Так я познакомилась с историей о дьяволе: как бедный ангел, упавший с небес, ввел людей в искушение, чтобы отомстить Богу. Я так жалела бедного ангела, что начинала громко плакать – к большому раздражению матери. Думаю, она впервые порадовалась моей немоте. Сложно вообразить ее разочарование, узнай она, что бедный дьявол мне милее доброго Бога, которого я вообще не могла представить – знала только, что он отец, а значит, каждый отец тоже бог, строгий бог, который может за любую мелочь выгнать с небес.
Вскоре мы перестали посещать семейные воскресенья. Как я подозревала, по моей вине.
Нет дня без ночи, без дьявола нет Бога. Конструкция неизменна.
Сатана
Новым работодателем матери стал строгий человек, капитан. Жизнь с ним оказалась еще безотраднее, чем с близнецами. Здесь я была уже не ведьмой, а просто дочерью уборщицы, и мне полагалось опускать голову, когда капитан проходил мимо. Днем мать прятала меня от его глаз. Оставшись одна в комнате, на кровати, я ложилась на живот, сгибала ноги, хваталась руками за ступни и ритмично раскачивалась. Чем сильнее напрягалось тело, тем становилось приятнее. В ушах шумело, пробегавшие по телу волны становились все длиннее, пока я не останавливалась и не начинала снова – сначала мягко, потом все сильнее, вверх и вниз и снова вверх до головокружительной высоты, пока не приоткрывался рот. Я замирала, прислушивалась к себе, неосознанно вертела тазом, сначала медленно, потом все быстрее, все сильнее сжимая между ног подушку, и в полной неподвижности напрягала тело, пока оно не начинало дергаться и меня не охватывала дрожь. Потом я лежала неподвижно.
Я забывала о происходящем вокруг лишь в эти моменты близости с собой и потому наведывалась в спальню часто, как только могла. Мое тайное занятие было дурным, я понимала, но поскольку отец к нам приезжать отказался – как рассказала мать, я тоже могла стать дьяволом, если еще не стала.
Однажды, когда я вернулась в спальню, на кровати лежала кукла, подаренная Мерседес. Я легла рядом и стала думать о Мерседес и Германе, а еще о матери и о мужчине с фотографии из комода, то есть о Боге. Я действительно дьявол. Теперь это было ясно, ведь я чувствовала, какую чертовскую радость мне доставляет над ним издеваться, делать запрещенные вещи, которые прямо сейчас, у него на глазах, превращали меня под его строгим взглядом в настоящего дьявола. Дьявола, который даже тайно не желает снова стать ангелом. Осторожными движениями я обхватила куклу. Я не слышала приближающейся фигуры, не видела, как пролетел по воздуху хлыст, только почувствовала удар молнии. Мое тело содрогнулось от шока, когда последовал новый удар. Вот оно, наказание: Бог следовал за мной по пятам, заставляя почувствовать его силу. Я обернулась, попыталась закрыть треснувшую кожу руками. Темная фигура схватила меня, подбросила в воздух, и я рухнула на пол. Ну все, подумала я, конец. Мне пришлось уехать. Так приказали.
Меня отдали в монастырскую школу. За нами следили строгие женщины. Как и крестивший меня священник, они были связаны с Богом. Когда мать передала меня настоятельнице, я поняла – разлука будет долгой. На прощание она погладила меня по волосам. «Не затягивайте», – сказала женщина в серых одеждах. У нее были седые волосы, морщинистое лицо, полные и влажные руки. Когда мать ушла, я вырвалась. Удивленная настоятельница оказалась недостаточно проворной. Я хорошо бегала, меня не могли догнать даже близнецы. Я слышала, как она бежала за мной, задыхаясь и пыхтя. Я быстро уткнулась лицом в теплые колени матери. Но она оттолкнула меня обратно к настоятельнице и исчезла. Тогда я решила: если мать вернется, я начну разговаривать, я больше не буду ни ведьмой, ни дьяволом, я стану послушной девочкой, может, даже ангелом, и в любом случае начну читать по губам каждое желание своей мамиты, я награжу ее за все усилия, я заглажу вину, чтобы ей больше не приходилось меня стыдиться, чтобы она могла мной гордиться, как остальные матери. При этих мыслях у меня внутри все сжалось, руки и ноги задрожали, я оцепенело повалилась на землю и будто сломалась. Сестры бросились ко мне и схватили. Не удостоив даже взглядом, они молча положили меня в ванную, наполненную ледяной водой. Это оказалось не последней малоприятной встречей с жидким кошмаром. Я погружалась все глубже, пока мои глаза не закрылись от усталости.
И все же у меня было прекрасное детство в Аргентине. Жизнь там была куда лучше, чем в Германии. Погода лучше, люди лучше, все было лучше, а когда мы жили у Мерседес и Германа, у меня даже был собственный конь – без седла, оно было слишком дорогим, но мать могла позволить себе коня, он стоил двадцать семь долларов и его звали Пьедрас, что значит «камни». Я не понимала, почему нам вдруг пришлось переезжать в Германию. Мать никогда не говорила об этой стране, зачем ей вдруг понадобилось туда поехать?
Исход
Осенью 1954 года, через несколько недель после моего девятого дня рождения, мы покинули порт Буэнос-Айреса на борту огромного корабля. В пути все было очень хорошо. Я не просто говорила, слова били из меня ключом, и порой, когда я ненадолго прерывалась и смотрела матери в глаза, я думала: возможно, я все же могу стать ангелом, ее ангелом, только для нее одной, который освободит ее от всех забот, преодолеет ее горести и высушит слезы. Ведь я по-прежнему слышала ее рыдания, и хотя я не знала о причинах печали, я чувствовала – ей нужен ангел. Мысль, что этим ангелом стану я, делала меня счастливой, ведь тогда я наконец найду себе занятие, как она велела.
В Германии все изменилось. Первым делом я получила оплеуху от матроса, потому что без разрешения спрыгнула в Гамбурге на причал. С этим шлепком закончилось мое детство. В новой стране, которая должна была в одночасье стать моим домом, хотя я потеряла о ней все воспоминания, запрещалось все.
В отличие от Аргентины, здесь не разрешалось ходить по газонам, а при переходе улицы приходилось смотреть на светофор – если вы переходили на красный, потому что вокруг не было ни одной машины, в спину раздавались сердитые крики: «Красный! У тебя что, глаз нет?» И это звучало, как ругательство. Люди открывали рты, в основном чтобы ругаться или делать замечания. Неважно, чем вы занимались: исправлялась или порицалась каждая мелочь. В Гамбурге, где мы остановились в первую ночь, на вопросы отвечали вежливо и холодно, в Берлине, куда мы поехали потом, не отвечали вообще. В трамвае или автобусе на вас либо кричали, либо молча указывали на табличку, запрещающую разговоры с водителем. Некоторые прохожие крайне внимательно осматривали припаркованные автомобили, спешно выискивая возможные повреждения в передней или задней части машины или причины для бегства водителя с места преступления. Несоблюдение права преимущественного проезда могло привести к тяжелому эмоциональному срыву. Они только что объявляли войну всему миру и вот уже атаковали своих сограждан. Все выглядели как мужчины, даже женщины. В Аргентине все было наоборот, там солнце освещало теплыми лучами поля, на деревьях пронзительно кричали чибисы, а люди словно парили или танцевали по воздуху – в Германии же небо было серым или синим и всегда твердым и тугим. Повсюду царили послушание, наставления и внезапные вспышки гнева, которые проходили так же быстро, как возникали. С поднятыми плечами и склоненными головами, казалось, все люди что-то скрывают.
Сначала мы поселились у подруги матери, Мопп, и она оказалась такой же забавной, как ее имя. Мы жили в сером доме, окруженном другими серыми домами, и повсюду еще виднелись следы войны – пулевые отверстия в фасадах, осыпающиеся руины. Каждый вечер я слышала, как сосед сверху избивает жену. Казалось, это никого не волнует. Иногда открывалось окно, и мужской голос громко кричал: «Тихо». Никто ничего не говорил, когда на следующее утро женщина спускалась по лестнице с красными от плача глазами и синяками. «У всех, кто вернулся с войны, с головой не в порядке», – однажды вечером сказала Мопп. По словам матери, она была не такой пухлой, как раньше, но ее смех остался столь же заразительным, а глаза – большими и круглыми. Они сидели с матерью вдвоем на кухне. Я выбиралась из постели – потому что не могла заснуть одна в новой обстановке – или просыпалась через несколько минут от тревожных снов. Прокрадывалась в коридор, прислонялась спиной к стене, опускалась на дощатый пол, подтягивала колени под подбородок и слушала. Как раньше, когда мать читала мне перед сном, – только теперь это были не сказки. В историях возникали люди или вещи, знакомые мне в реальной жизни, но чаще всего они все равно казались странными. Как такое возможно? Была ли слишком уродливой реальность, где разыгрывались эти истории, населенные вернувшимися домой людьми, мужчинами, у которых не было рук или ног? Однажды я даже видела на улице человека, у которого не было половины лица. Я замерла как вкопанная, и матери пришлось силой тащить меня дальше.
– Может, он все же есть в телефонной книге, – раздался в коридоре сдавленный голос Мопп.
– В телефонной книге? – Голос матери звучал недоверчиво, но был полон любопытства. Такой я ее еще не видела.
– Ну да, посмотри. Это же бесплатно, – сказала Мопп.
– Легко тебе говорить. Мы не виделись десять лет. Я… я даже не знаю, как он сейчас выглядит.
О ком они говорят? Ни о моем ли отце?
– Давай уже.
Мать рассмеялась, как не смеялась почти никогда. На мгновение мне даже показалось, что я знаю, как она сейчас пахнет. Запах был знаком по спальне Мерседес и Германа. Запах запретного.
– А если трубку возьмет его жена?
– Тогда просто скажешь, что ты пациентка и хочешь поговорить с господином доктором.
– В такое время?
Я еще никогда не видела мать такой неуверенной и беспомощной.
– Болезни за временем не следят.
Моя мать больна? Почему я об этом не знала? Она скрывала специально? Я услышала, как они листают телефонную книгу.
– Глазам не верю.
Они рассмеялись, как две девчонки, придумавшие какой-то секретный план.
– Он правда тут есть! – воскликнула мать, и ее голос прозвучал гораздо выше, чем обычно.
– Ну, давай.
На мгновение на кухне воцарилась тишина. Обе замерли.
Затем раздался тупой удар об стол. Вероятно, Мопп поставила туда телефон. Мать взяла трубку и набрала номер. Я слушала судьбоносное вращение циферблата и не сомневалась: сейчас, в этот самый момент, мать звонит человеку, знакомому мне лишь по старой, слегка размытой фотографии из верхнего ящика комода. Сердце ушло в пятки. Меня затошнило.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Майский жук, лети» – немецкая народная песня.
2
Дословно – чистый лист (лат.).
3
После действия (уже свершившийся факт, лат.).