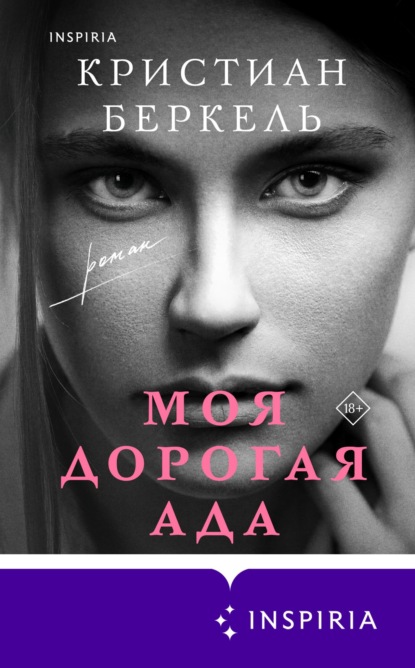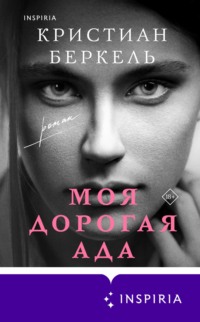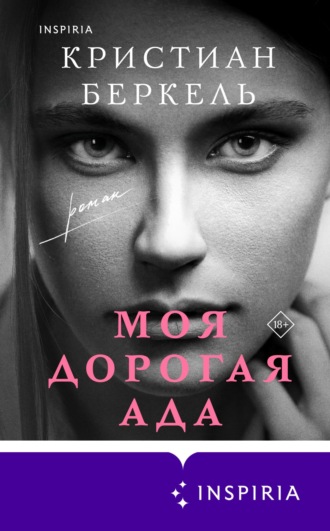
Полная версия
Моя дорогая Ада
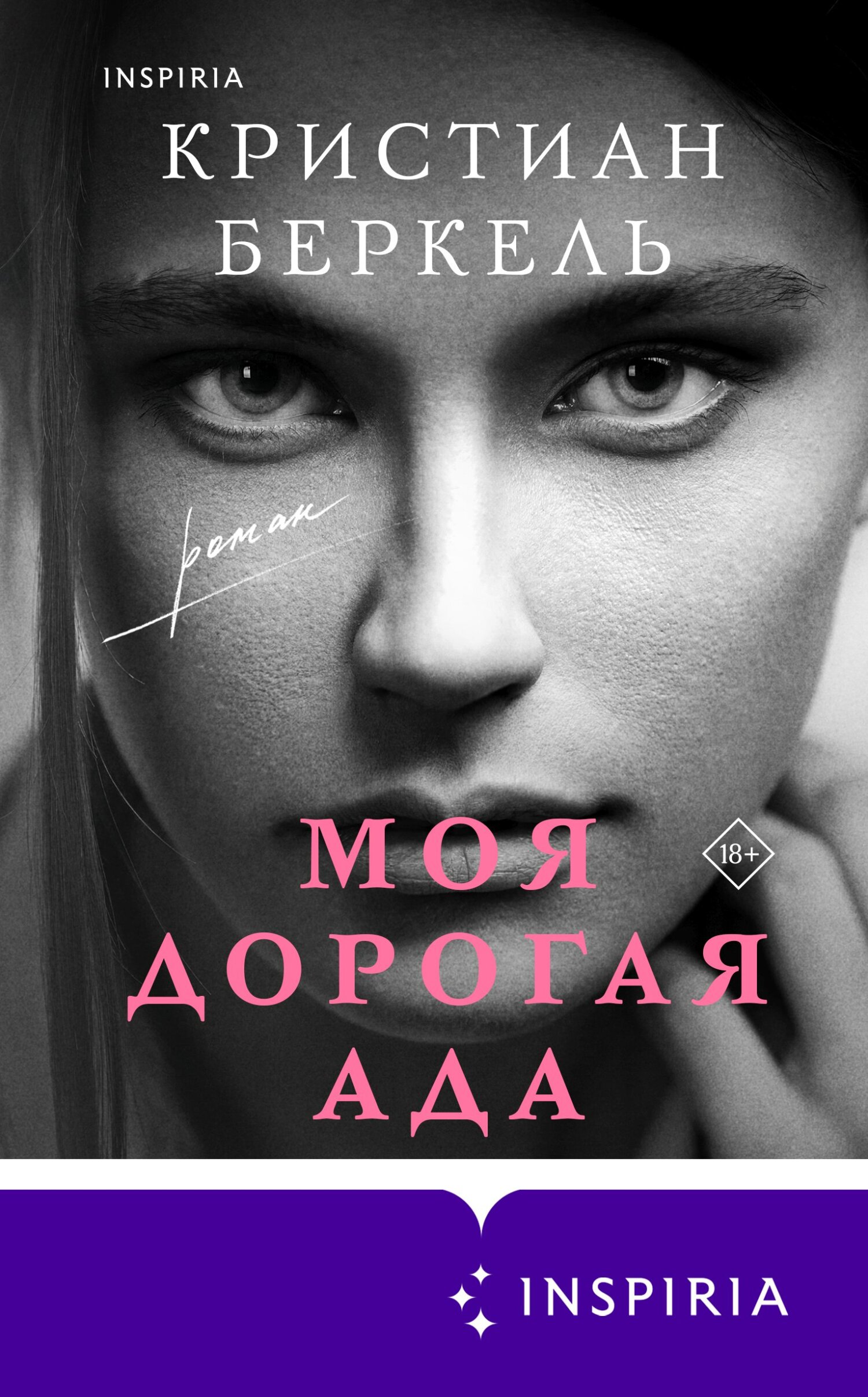
Моя дорогая Ада
Кристиан Беркель
Посвящается Андрее
О, не узнавай, кто ты!
СофоклChristian Berkel
ADA
Copyright © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020
Перевод с немецкого Дарьи Сорокиной

© Сорокина Д., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
I. Воспоминания
Дневник снов
Я его потеряла. Маленькой девочкой я писала в нем каждый день. Записывала не только сны. Вообще все, что приходило в голову. А потом однажды, после одного из многочисленных переездов, он пропал. Исчез. Несколько месяцев я искала его повсюду. Перевернула все вверх дном, даже в мусоре порылась. Неужели я правда его потеряла? Или даже случайно выбросила? Во время поисков мне в руки попала свадебная фотография второго брака. Он оказался бездетным и со временем разрушился. Как же часто мне приходилось кочевать, разбивая палатку в новых местах. Одинокий караван. Я и я. И между нами – несколько мест. От расставания к расставанию я теряла себя, и все связи с семьей постепенно стерлись. Осталось лишь ничего. Ничего и несколько пустых чемоданов.
Воспоминания из поздних пятидесятых. Наша с Ушкой игра, развлечение для детей, которое становилось все серьезнее. Одна из нас бросала какое-нибудь слово, другая подхватывала, продолжая нить. Начинала чаще всего моя подруга Ушка.
– Путешествия.
– Париж.
– Лондон.
– Рим.
– Нью-Йорк.
– Чем займешься в Нью-Йорке?
– Буду играть, пойду в актерскую школу, нет, погоди… В школу моделей.
– Такая есть?
– Не знаю. Дальше. Давай, Ада, быстрее, не засыпай.
– Что?
– Чем ты хочешь заниматься?
– Не знаю.
– Неважно, скажи что-нибудь.
– Красивыми вещами.
– Красивыми вещами?
– Да, возможно, модой. Какая-нибудь работа с людьми. Я могла бы моделировать тебе платья.
– Дизайнер?
– А у меня получится? Я же не умею рисовать.
– Человек может все, что захочет.
– Все?
– Все. Итак. Чего ты хочешь?
– Мужа.
– Господи, какая тоска. Они появляются сами по себе. Хотеть не нужно.
– Путешествовать. Везде. В места, где еще никто не бывал. Есть такие?
– Определенно.
Мы проводили так целые вечера, прыгая с ветки на ветку, а вокруг тем временем вытягивались дома. Берлин стремительно разрастался, серый и уродливый. Возникало ли в пятидесятые чувство, будто чего-то не хватает? Что происходило в той сказочной стране? Майский жук, лети. Отец – на войне. Мать – в Померании. А Померания – в огне. Майский жук, лети[1].
Майские жуки летали при любых обстоятельствах. Даже моя мать напевала эту песенку во время уборки. Мы словно шли по мосту и сами того не замечали. Куда? В прошлое? Думаю, прошлого у нас не было. Во всяком случае, все пытались создать именно такое впечатление. Взрослые говорили о нулевом часе. Tabula rasa[2]. Не после нас хоть потоп, нет, это мы пришли после потопа. Мы выросли среди оставленных нам руин. Большинство этого даже не замечало, потому что не представляло иной жизни. Но я это видела, хоть и не понимала, потому что приехала из Буэнос-Айреса, где не было воронок от взрывов. Там солнце плясало над крышами неповрежденных домов. Германия устала. Она пахла разложением и смертью. Народ молча отстраивал страну заново. Словно она возникала из ничего. Словно до нулевого часа здесь вообще не существовало жизни. Даже майский жук из песни освободился от воспоминаний и отбивал своими крылышками ритм будущего. Никто не говорил. Все делали вид, будто ничего не было. Но тупой страх, что это может повториться вновь, напоминал: что-то все же произошло. Этот страх стал нашим приданым. Мы таскали его с собой в поисках отдушины. Но уплотнители сломались. То, что кипело внутри, вылетело однажды наружу и разлетелось во все стороны.
Ложный уход
Когда наконец снова увидела брата, он был на сцене. Он стоял наверху, я сидела внизу. Шекспир, «Мера за меру». Название подходящее. День тоже, хотя я еще об этом не знала, когда читала в программке актерский состав. Было 9 ноября 1989 года.
Когда он появился, меня испугали покрашенные в соломенный цвет волосы. Он стал похож на нашу мать? Стал актером, чтобы прятаться за бесчисленными масками? Как она скрывалась за париками, постоянно меняя цвета? Мы не виделись пять лет. Пять. Это долго. Он постарел. Я, наверное, тоже, но мы предпочитаем замечать эту истину на лицах других людей. В общем, он стоял на голове и бил ногами по воздуху. Зрители хлопали и орали – они твердо решили развлечься.
Мне недавно исполнилось сорок четыре, и, вопреки семейной традиции, я бываю в театре нечасто. Меня вообще не сильно интересует вся эта культурная шумиха. Я отсутствующим взглядом пялилась на сцену.
Впереди, с края, сидел толстый маленький актер, чье узкое лицо и лысеющая голова напомнили мне отца. Он выдал какую-то злободневную политическую шутку. Потом встал, сделал несколько шагов вглубь сцены, на мгновение остановился и после неожиданной, многозначительной паузы вновь повернулся к публике. Позднее я узнала, что актеры называют это «ложный уход» – прием позволяет привлечь больше внимания к последующей реплике.
– Дамы и господа… Дорогие зрители… Границы открыты.
Никто не отреагировал.
– Это не шутка, дорогие зрители… Дамы… Господа… Стена… Стена пала… Об этом только что сообщили по телевизору.
«По телевизору, ну просто умооора!» – воскликнула бы сейчас моя мать, если бы сидела рядом, но ее не было. На мгновение мне показалось, что я даже скучаю. Все изменилось в день, когда я во второй раз вышла замуж. Моя первая свадьба была в семидесятых – ошибка, короткая и безболезненная, словно облачко на горизонте. А потом дешевые часы «Чибо» стали стартовым сигналом к нескончаемому расколу и постоянному росту ветхозаветной силы. Это было пять лет назад, и стена пересекала наш город уже двадцать восемь лет. Когда девятилетней девочкой я впервые неуверенно ступила на эту землю, отвыкнув от твердой почвы за три недели плавания из Буэнос-Айреса, Берлин был еще не разделен, но уже разорван. Отечества нет. Не об этом ли мы молчали последние пять лет? В тишине раздались неуверенные аплодисменты. Похоже, люди начали осознавать. Стена пала.
После спектакля я с гулко бьющимся сердцем пошла искать проход за кулисы. Это напомнило мне о служебных и черных ходах в разных отелях по всему миру, где я работала, пока не пришла к нынешнему занятию. Я прошла мимо шлагбаума, пересекла парковку и едва успела отскочить в сторону, чтобы меня не переехал белый «Мерседес», промчавшийся мимо. Не успев до конца прийти в себя, я сделала несколько шагов к застекленной будке сторожа. Я терпеливо ждала брата среди нескольких робких фигур. Я старше и должна сделать первый шаг, это моя обязанность перед собой и перед нашей историей.
– Он давно уехал. Судя по тому, как долго вы здесь стоите, вы должны были его встретить. Белый «Мерседес», 124-й. Вечно гоняет как оглашенный.
Как отец, подумала я. Возможно, я его не узнала, потому что он был в шляпе или в кепке. Тоже как отец. Все в нем напоминало моего, нашего отца. Возможно, именно поэтому я так тяжело переносила его присутствие? По одному я тосковала, а другой застал врасплох? И оба разочаровали? Снова упущенная возможность?
– Не знаете, куда он поехал?
– Я сторож или нянька?
Как я люблю берлинское дружелюбие. Сразу становится ясно, где ты находишься и к тому же получаешь бесплатный урок.
– Да не расстраивайтесь вы так. Он там, где все остальные.
– Где же?
– Дитя мое, вы что, ослепли?
Он показал на экран маленького телевизора, висевшего у него над головой. Я уставилась на мелькающие кадры. Люди на Берлинской стене! Из выпускавших голубоватую дымку «Трабантов» сверкали глаза. Оглушительный стук, крики, ликующие возгласы. Пограничный пункт на Инвалиденштрассе. Мне нужно туда.
– Меня уже давно никто не называет дитя, – сказала я и спрыгнула с лестницы, задаваясь вопросом, сияют ли и мои глаза.
Было свежо. Даже холодно. Очень холодно. Я тряслась, сидя в такси.
– Девушка, вы чего дрожите?
От дитя к девушке – интересно, что еще готовит мне нынешний вечер. Худощавый водитель угрюмо отыскал в зеркале заднего вида мое лицо. Наши взгляды ненадолго встретились, а потом я увидела в соседней машине взволнованно жестикулирующую парочку. За ними сидели две подруги. Все весело болтали, словно ехали на рок-концерт.
– Господи, не, ну каков театр. Как бы мою колымагу не поцарапали.
У меня не возникло вопроса, родился ли он в этом городе. Мой отец тоже был настоящим берлинцем. Когда мы приехали из Аргентины, я не понимала этого странного бормотания. Отец пытался говорить на литературном немецком. Ради него я отказалась от родного языка и выучила немецкий на новой родине.
– Даже не верится! Рассказать, как я перемахнул, в смысле перебрался через границу? Вы-то сами небось из Вессиланда.
– Вы имеете в виду Западный Берлин?
– Западный Берлин? Верно. Не, тут просто Берлин, Западного Берлина не существует, так говорят только зонис.
– Кто?
– Ну, зонис, из Восточной зоны. Да, вы точно из Вессиланда, с Запада, сразу ясно. Даже по одежде. Я тогда постараюсь выражаться литературнее, чтобы вы лучше поняли.
Берлинцы не просто знают все, они знают все лучше всех остальных.
– Большое спасибо, очень любезно с вашей стороны.
– Да ладно, пустяки. Ну, как я сказал, – игриво продолжил он, – я втиснулся под скамейку. Думал, задохнусь. Но оно того стоило. Лучше быть мертвым, чем красным. Стена застала меня врасплох. Накануне вечером я еще был в гостях у подруги, в Панкове, мы прекрасно проводили время, и все такое, а уже на следующее утро, да, поставили ее, конечно, с бешеной скоростью, никто глазом моргнуть не успел. Тяп-ляп, и готово. Антифашистское укрепление, или как там ее называли. Я проснулся слишком поздно – кто рано встает, тому бог подает, а я свое будущее проспал. До сих пор помню, как стоял там несколько часов спустя, никому не нужный. Я… Нет, серьезно, я почувствовал себя макакой в клетке, понимаете, о чем я? Ничего не помогало. С первого же дня я думал только о том, как оттуда выбраться. Но все оказалось не так просто. И я принял единственно верное решение. Рот я держал на замке – даже ближайшие товарищи ни о чем не подозревали – и залез под заднее сиденье колымаги шефа, который, разумеется, ничего не знал и выглядел на границе совершенно невинно, а на первой же заправке меня и след простыл. Боже, как я был счастлив. На востоке мне разрешили учиться как рабочему, а здесь диплома не признали – ну и ладно, подумал я, плевать, буду таксовать. И что вы думаете, я разжился двумя домами, обе дочери в университетах – одна учится на ветеринара, вторая на юриста – чего еще желать? Да. А теперь? Когда они приедут, нам всем мало не покажется, скажу я вам. Мало не покажется. Идите, прогуляйтесь по улицам Восточного Берлина. Эти люди бросятся вам в объятия. Но подождите несколько недель, и все будет выглядеть совершенно иначе. Они явятся сюда и наложат лапы. Ясно как день. Эти ловкачи своего не упустят.
Странно, подумала я – бывший беженец чувствует угрозу со стороны последователей. Стена сыграла ключевую роль и в моей жизни. Не сама стена, а день ее постройки. 13 августа 1961 года стало началом катастрофы. До этого я жила, но с того момента – выживала. Как и моя мать. Хоть я и страдала от этого, будучи ребенком, юной девушкой и женщиной, я замечаю, что становлюсь все сильнее на нее похожа. Она преследует меня во снах, и с ней приходит страх проснуться такой же, как она. Угасшей. Лучше выпрыгнуть из окна. Но сначала нужно еще кое-что сделать. Не хочу оставлять после себя беспорядок.
– Ну, девушка, мы на месте. Ближе не подобраться. Стоят стеной. Видите? Я всегда чувствую как-то по-особенному, стоит только приблизиться к этой штуке. И пусть ее разбирают хоть трижды, пока я жив, я в эту идиллию не поверю. Может, это просто дешевая уловка, чтобы нас объединить. С вас семнадцать пятьдесят.
– Вот двадцать.
– О! Черт побери. Благодарность от фирмы.
Я кивнула и вышла. Длинные ряды тесно припаркованных машин извивались в ночи. Ветер дул на восток. Здесь было тихо. Я надела неподходящие туфли. Постепенно я начала понимать: мой театральный наряд выглядит слишком нарядно. Фифа с запада явилась на каблуках на восток. Когда я проходила последние сто метров, послышались радостные крики. Мне навстречу вышли первые опьяненные радостью гости с востока. Уже во второй раз я стала свидетельницей исторических мгновений, хотя нет, третий, четвертый, пятый или шестой. В первый раз мне не повезло. Но сегодня Берлин перестал быть Берлином. Ни одного хмурого лица – две половины города рухнули навстречу друг другу. Любовный экстаз, чувственный порыв.
Я побежала к мосту Сандкругбрюке. И твердой походкой ступила на тонущий корабль. Правящий бургомистр Западного Берлина стоял на стуле. Вальтер Момпер приветствовал людей в мегафон, а чуть дальше расположился предыдущий бургомистр, Эберхард Дипген, которому не удалось воспользоваться ситуацией. Никто не обращал на него внимания. Немного напоминает нас с младшим братом, подумалось мне. На стуле всегда стоит только один, и мегафоном размахивает тоже только один.
Опустив голову, я побежала дальше. Вокруг все плыло, но не увлекало. Я надеялась почувствовать сопричастность, не хотела быть фифой с запада, девицей на каблуках. Я видела открытые взгляды людей и могла к ним подойти. Но ощущала себя девятилетней девочкой из Аргентины, которая не понимает их приглашений.
В нескольких сотнях метров, чуть поодаль от реки, стояли компании – люди пили шампанское прямо из бутылок и смеялись. Иначе, чем у нас, подумала я, совершенно иначе. Я сняла туфли и спрятала их в карманы пальто.
– Извините, мне хочется где-нибудь выпить, не знаете, где здесь ближайшая пивная?
Девушка со светлыми локонами взглянула на меня с любопытством. Я на мгновение задумалась, что именно привлекло ее внимание – духи или одежда. Без туфлей я, вероятно, смотрелась чуть презентабельнее, но возможно, от меня совершенно иначе пахло. Много лет назад мне говорил об этом дедушка, когда я приезжала в Веймар к нему и его жене Доре. «Запад пахнет иначе, – сказал он тогда. – Этот чистый, многообещающий аромат – наша главная проблема при постройке социализма». Расстроился бы он, если бы видел нас сейчас?
– Нет, все закрыто.
И только тогда я заметила, что здесь все погрузилось во тьму, хотя на западной стороне горят огни. Дело не только в запахе, но и в свете. В детстве я думала, что кто-то выключает свет. Тогда солнце не могло светить так ярко, как в Буэнос-Айресе, – или ему не позволяли. А теперь?
– Хотите глоток?
Она протянула бокал с шампанским прежде, чем я успела кивнуть.
– Безумие.
Она внезапно бросилась мне на шею.
– Безумие, – повторила она и со смехом поцеловала меня в щеку. Я испуганно пожелала ей счастья и побежала дальше.
Мне вспомнилась сцена из только что увиденной пьесы. Главная героиня, Изабелла, пришла к наместнику, чтобы попросить об освобождении приговоренного к смерти брата. Вы могли бы простить его, умоляет она. Раз не хочу я, значит, не могу, отвечает он.
Раз не хочу я, значит, не могу. Фраза прокручивалась в моей голове бесконечно. Это правда? Воля действительно так тесно связана с возможностями? Я остановилась. Готова ли я сама простить? Этот вопрос не давал мне покоя весь вечер. Неужели я действительно пыталась убедить себя, будто купила билет на выступление брата совершенно случайно? Я, которая почти никогда не ходила в театр? В таком случае и стена упала случайно.
Два с половиной часа спустя я снова оказалась на другой стороне. На западе. С нынешними переменами такого разделения скоро не будет, подумалось мне. Забавная история. Напоминает мою семью. Сначала залить разорванную, зияющую рану бетоном, а потом снова все разрушить. Сделать из старых ран новые. Так продолжаться не может. Мне нужна помощь. Вокруг все обнимались. Ликовали. Кричали. Раздавали бананы из большой корзины. Пьяные спотыкались друг о друга. И там был он. Мой брат. В самой гуще. У него светились глаза. Его тоже приветственно хлопали по плечу.
– Ну? Наконец бананы, да? – закричал кто-то.
Он оцепенело кивнул? Словно приехал оттуда? Посмотрел в мою сторону? Я должна подойти к нему? Ноги горели от холода. Я быстро надела туфли и споткнулась.
В оке циклона
Спустя неделю после того, как я увидела брата в театре, я решилась позвонить.
– Думаю, ничего особенного. Мне нужно… нужно немного поговорить. Как это называется? Разговорная психотерапия?
Три дня спустя я сидела в маленькой комнатке со старыми персидскими коврами на полу и стенах. Что дальше? По телефону голос показался мне неприветливым. Человек на другом конце линии не имел ни малейшего представления, насколько трудно мне было набрать его номер. И теперь я сидела перед ним, уставившись ему в глаза. Бдительный взгляд напомнил мне деда.
– Да, в общем… Теперь я даже не знаю, что говорить, откуда… С чего начать.
– С чего хотите, это ваш час.
Ага, мой час. Ну хорошо.
– Я… В общем, пять лет назад я разорвала связь с семьей. Я… эээ… Причина была чисто внешняя… Сейчас это даже как-то смешно звучит… Это были часы «Чибо»… Знаете, такие дешевые… Их еще продают в этих магазинах…
– В магазинах-кофейнях.
– Да. Я… ох… Мы хотели пожениться, мой муж и я… Идея возникла относительно спонтанно. Просто так, в некотором смысле. Вы меня понимаете?
– Не совсем.
Нет. Хорошо. Значит, у нас есть что-то общее.
– Итак, мои отношения. У меня всегда их было довольно много, да… Даже не знаю, можно ли назвать это отношениями, но, по крайней мере, мужчин… Скорее, постельных историй… Интрижек. Да, именно так. Не больше.
– Но с мужем все было иначе.
– Я должна сейчас об этом рассказывать?
– Попытайтесь.
– Вообще-то я пришла сюда, потому что не могу спать.
– Вероятно, мы сможем выяснить, есть ли тут связь.
– С чем?
– Возможно, с разными вещами.
– Да, может быть. Я, эээ… Думаю, я не очень люблю разговаривать, понимаете?
Ему тоже нечего сказать? Эти паузы. Просто невыносимо.
– Я… По работе занимаюсь совершенно другим.
– Кем вы работаете?
– Я работаю с глухими.
– Что именно вы делаете? Работаете в специальном заведении, в школе?
– И там тоже, иногда. Обычно я работаю с детьми и подростками, глухими с рождения по генетическим причинам.
– Вы объясняетесь на языке жестов?
– Да, и в сотрудничестве с отоларингологом пытаюсь выяснить, что можно сделать. Определить, непоправим ущерб или шансы еще есть. Неважно, насколько они малы…
– Чем занимаются ваши родители?
– Отец – отоларинголог.
– Отоларинголог?
– Да.
– А мать?
– Домохозяйка. Но уже несколько лет помогает отцу. Обучает учеников, ну то есть не прямо обучает, но помогает им с училищем и… Ученики в основном еще совсем молодые, лет по шестнадцать. Раньше она была переводчицей. До этого – воспитательницей. То есть наоборот. А, неважно. Я смешала все в одну кучу. Все было довольно сложно… Наша жизнь. А когда родился брат, она стала сидеть дома. Наверное, чтобы получилось лучше.
– Что?
– Ну, воспитание.
– В смысле – лучше?
– Ну не знаю, лучше, чем со мной, наверное.
– Вы считаете, ваша мать испытывала из-за вас чувство вины?
– Понятия не имею. Хотя вообще-то нет, не думаю. Возможно, так получилось случайно.
Почему он так странно смотрит? Я сказала что-то не то?
– Да. В общем, я тогда вышла замуж, и… Все повели себя довольно опрометчиво…
– Ваши родители были против?
– Да, но нет… Не совсем…
Что еще сказать? Этого недостаточно?
– Ну да, было другое время… Да, совершенно другое время. Мы хотели… 1984 год. У нас родилась сумасшедшая идея, совершенно спонтанная, мы просто побежали в загс, большего нам не хотелось. У каждого за плечами уже был неудачный брак, и… Поэтому мы решили обойтись без празднований, без всей этой кутерьмы, и… Ну да, вышло нехорошо, мы никого не хотели приглашать, хотели отпраздновать вдвоем… Только мы и те, кто случайно позвонил нам прямо в тот день.
– Семья не смогла принять ваше решение?
– В целом, можно сказать и так… Вернее, родители. Брату, думаю, было все равно, но мать…
Проклятье, почему мне так тяжело говорить, это же не причина для слез. Соберись, все давно позади.
– Воспоминания еще очень свежи.
– Да.
– Что произошло?
– В тот день? Не знаю… Я написала им за несколько дней… И в письме попыталась объяснить, что не имею в виду ничего личного и…
Теперь он молчит. Ничего не говорит. Наверное, он тоже не в восторге. Дочь выходит замуж и не приглашает собственных родителей. Трагедия. Так считают все.
– Я считаю, вернее, всегда считала, что у меня было прекрасное, то есть хорошее детство, наверное, так думают все, ну, может, не все, но многие, каждый раз слушаешь и удивляешься…
– Да, бывает.
– Что удивляешься?
– И это тоже.
– Ну да, удивляешься и думаешь: разве у него или у нее было счастливое детство? Не слишком похоже. Это как с браками, когда люди говорят, что у них счастливая семья.
– А как выглядит человек с хорошим детством?
Ха. Отличный вопрос. Как же он выглядит? Во всяком случае, у него есть чувство юмора.
– Наверное, иначе, чем я. Вечером, когда мы поженились, точнее говоря, уже были женаты, post actum quasi[3], как сказал бы мой отец… Зазвонил телефон. Хотя нет, извините, это произошло на следующий вечер. У нас был гость. Друг мужа, вернее, моего тогдашнего мужа, брак долго не продлился, все оказалось ошибкой, опрометчивым решением, мы развелись уже через год… Звонила мать, спрашивала, понравился ли нам подарок… Ее подарки… Наручные часы «Чибо» для моего мужа, вернее, уже бывшего мужа, и дешевая цепочка за несколько марок из супермаркета для меня. Пожалуй, и правда стоило сохранить их на память, но мы сразу выбросили это барахло. В общем, когда она с наигранной невинностью задала этот вопрос… Я вспылила, а потом отец вырвал у нее трубку и заорал, что я себе возомнила… Что я понятия не имею, я не знаю, в каких муках меня рожала мать, и так далее… А потом я начала его оскорблять… Вывалила все, что возможно, все, что хотела сказать всегда, все разом вышло наружу, я так кричала, что потом три дня была совершенно разбита, не могла произнести ни звука, даже хрипеть, выходил только горячий воздух… А потом на другом конце линии повисла тишина… Мертвая тишина… В какой-то момент я даже подумала, что у него случился инфаркт, что я убила собственного отца. Если он вообще мой отец, но это уже другая история. Вся эта чушь про Эдипа. Женщин она тоже касается?
– Мы сейчас говорим про вас, а не про теорию Фрейда.
Да, это он красиво сказал, речь обо мне, ну ладно, хотя, конечно, забавно: человек может находиться в центре теории, как в оке циклона, и ничего не осознавать.
– Не переживайте, за мать я выходить замуж не собираюсь и никогда не хотела, определенно нет, даже неосознанно.
– Рассказывайте.
Ну хорошо, тогда я расскажу ему все. Всю проклятую историю моей жизни. Вплоть до Вудстока. Вплоть до часов «Чибо». Все. Безжалостно. Начну с самого начала, с Буэнос-Айреса, расскажу про близнецов и про их родителей, Мерседес и Германа, про фотографию из комода, про капитана и его кнут, про сестер в Ла Фальде, про солнце и чибисов и про то, каким здесь все было серым, когда мы приехали, и какое все серое до сих пор, и что все здесь гораздо больше пекутся о собственных лужайках, чем о возможности подарить кому-то улыбку, потому что в этой глупой стране вообще ничего не дарят, даже детям, потому что они ненавидят детей и жиреют, молча залезают в свои металлические машины, молча ездят на работу, молча возвращаются домой, молча черпают ложкой суп, молча идут спать, чтобы напиться субботним вечером и болтать без умолку, как при словесном поносе, словно вся чушь, которую они молча проглатывали целую неделю, выливается у них изо рта и течет из ушей. Молчание, молчание, всюду молчание, ничего, кроме молчания. Почему говорить должна именно я? О чем? Об их молчании?
– Если хотите, я с радостью помогу. Я бы предложил начать с частых встреч. Четыре раза в неделю. Что скажете?
– Четыре раза в неделю? И неважно, о чем мы будем говорить?
– Да, – ответил он.
– Хорошо. В смысле, да, я… С удовольствием.