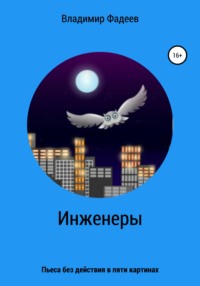Полная версия
Возвращение Орла. Том 2
– Ого!.. Точно, видел я белого коня на Бору… А что ж мы выпить с собой так мало взяли?
– Обижаешь… – Аркадий показал оттопыренный плоской фляжкой карман.
– Вот это хорошая книжка. Любишь ты читать…
– Я? – Аркадий посмотрел на Семёна с презрением. – Я читаю только Сабанеева и сказки: «Махабхарату» и наши народные.
– Правильно! Вся остальная эта литература – херня.
– О! Кого я слушаю?
– Слушай, слушай! И особенно великая русская.
Аркадий смотрел удивлённо: Семён против писателей? Ладно бы против советских, их сейчас только ленивый с грязью не мешает, но против великих русских?
– Что смотришь? Если бы с Гитлером воевали чеховские нытики, то ты бы сейчас при самом благоприятном раскладе…
– Помню, помню – в гаштете толчки чистил.
– У тебя у самого-то нет чувства, что в войне воевал какой-то другой народ? Что тут два разных народа: один в великой литературе – неизвестно от чего спасающиеся идиоты плюшкины в футляре и на диване, и совершенно другой – в великой войне… и сам понимаешь, какой из них настоящий. Эти великие писали про себя, с понтом переодевались в зипун, вставали перед зеркалом и давай по себе, несчастному, сопле-слёзы лить… Поэтому и живём в королевстве кривых зеркал, где всё наоборот. Почему в школе ни один разотличник не любит литературу, а особенно русскую литературу, великую русскую? Да потому, что детей не обманешь. – И заговорил дальше, как бы проверяя себя, словами из сна: – Вся наша «великая» не о нашем народе, как будто не о нас. Один славный параноик сочинил свою драную «шинель», другой авторитетный припадочный… – осёкся, покосился на Аркадия, но тот не повёл бровью, – сказал, что мы все из неё вышли. Всё: клетка-книжка захлопнулась! Акакий там хозяин, Муромцу места нет, пошла работа на понижение – маленькие, жалкие, пьяные самодурчики… Разве мы такие?
Они остановились, посмотрели друг на друга и какое-то время шли молча…
– Это мы стали такими, это она – в том числе и она! – нас такими сделала! – с новой горячностью начал Семён. – Если сто лет талдычить человеку, что он ничтожество и раб, пожалуй, он таким и сделается.
– Тысячу.
– Что – тысячу?
– Тысячу лет. Ровно тысячу лет, год в год, месяц в месяц, чуть ли не день в день! Когда, кстати, попы праздновать собираются? Африку надо спросить.
– Откуда ему знать? Темнота – главная ипостась светоносного христианского учения.
– По-твоему выходит – Гоголь виноват?
– И Гоголь. Знаешь его кредо: «…нельзя иначе устремить общество или даже всё поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости». Вот и впряглись эту настоящую мерзость смаковать. Не слишком ли увлеклись, уважаемые? Так увлеклись сами и увлекли доверчивый русский люд, что кроме мерзости теперь даже и на улице ничего не услышишь. Все души – мёртвые. Не перемертвил ли, Николай Васильевич? Не пересолил ли, Антон Павлович? Ну, и остальные иже с ними, нытики. Чем надо гордиться – мы это гнобим, что надо гнобить – мы на руках носим. Стрелять не надо, мы себя сами зарывать начали, вот она, беда… Хотя Гоголь в конце жизни, похоже, понял, что перемертвил: «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся…»
– А сам-то что пишешь? У тебя ведь тоже, не люди, а… один – таракан, другой и того хуже – гриб. Сам-то почему Муромца не славишь?
– Где его сейчас найдёшь… – вяло ответил Семён, уже сообразив, что Гоголю «и иже с ним» сто лет назад Муромцев искать было не в пример сложней.
– Выходит, что ты ещё больший соплежуй.
Семён от такого неожиданного поворота сник совсем.
– Да не грусти, – толкнул его в плечо Аркадий, – это даже здорово, что Акакий. Значит, можем себе позволить. Умаляем – значит, есть что умалять.
– Не умалимся ли до черты?
– Как почуем, что до черты, увидишь: сразу начнём себя возвеличивать.
– То есть, если начнётся героика, значит, отступать некуда – позади Москва, только вперёд?
– Ну. Это ж наш способ быть: умалиться-возвеличиться. Как говорит Николаич – переменный ток, Тесла. Вблизи кажется непродуктивно, а в историческом масштабе – сказка!
– Знаю, сказки ты любишь… Какие, кстати, твои любимые?
– О спящей царевне и семи богатырях.
– А наоборот сказки нет? О царевне и семи спящих богатырях.
– Это про нас с твоей Катькой, что ли? Подходит… как частное решение. Но правильное, главное – о спящей царевне и семи богатырях.
– Спящих.
– Да, пока спящих. Сначала нам самим надо проснуться, но потом за главное дело, за царевну! Из-за чего сказку и придумывали, миллионы раз пересказывали детям, отрокам, взрослым – искать и будить спящую царевну.
– Да кто она?
– Ты что? Родина. Россия. Русь! Украли, спрятали, усыпили.
– А хрустальный гроб – шестая часть земли?
– Все настоящие русские народные сказки – только об этом.
– Зашифрованное послание?
– Какое зашифрованное? Прямое обращение, а мы вот не понимаем: смотрим в упор и не видим, привыкли, притерпелись.
– Чего не видим?
– Очевидного! – Аркадий сорвал с обочины цветок: – На вот, посмотри, что видишь?
– Цветочек.
– Всмотрись, какой же это цветочек? Это же…
У себя в Мещере, в короткоштанном детстве, Аркадий на цветочках чуть не свихнулся, его даже дразнили «девчонкой», но он до сих пор уверен, что цветы, если дарить, то – женщинам, а понимать их – дело мужское; причём совсем не каждый может разглядеть суть цветка, увидеть в нём, если хотите, пространственно-временную модель всего мироздания, да и не модель даже, а само это мироздание, разве что в сильно-сильно уменьшенном варианте (никакая математика даже приблизиться к такому подобию не сможет, ибо ещё цвет и запах), а увидев – захлебнуться откровением этого мира… Душа стремительно уносилась в неведомые выси, и было бы это состояние абсолютным счастьем, если бы не начинало от непомерного счастливого напряжения или от невозможности проникнуть за последнюю шторку тайны что-то коротить в голове. Так вот однажды, когда на клумбе около булочной (мать зашла за хлебом) на Первомайской долго смотрел на цветок обычной календулы, ноготка, и вдруг всё-всё про него понял: понял, что, конечно же, это был не цветок, это была Великая Подсказка, и младенческая душа захлебнулась огромным, непонимаемым восторгом… Аркадий впервые потерял сознание. Так начались припадки. За несравненно сладким мигом следовала не сравнимая ни с чем страшная боль…
К несчастью – или к счастью, – с детства мало что изменилось, и он по-доброму смеялся над всякими искателями и открывателями структуры миров и всяких прочих пространств и эонов; над математиками, изобретающими многомерные миры – все они по какой-то непонятной слепоте не видели очевидного: Бог являл им всем эти структуры повсеместно, любой василёк или полевая гвоздичка были этой структурой и мирами. Надо было только преодолеть пригляделость… но и не сойти с ума.
Так стало получаться и «в воду смотреть». Настрой, полшага не доходя до опасной черты… туда, под волну и рябь, в живую серединку, где вода вдруг превращается в объёмный калейдоскоп, несколько мгновений он разноцветен и невнятен, потом цвет успокаивается и появляются – в воде или голове? – вполне различимые картинки… Не цветок, конечно, через который он попадал в «иномирье» сразу, но блики, блики…
Случалось ему и слышать правильное имя вещи (звук, рождённый составляющими эту вещь силами), оно редко совпадало с принятым ныне, но когда совпадало, тотчас опять открывалась потайная занавесочка в совершенно иной, настоящий мир; он упруго обдавал волной живого счастья, секунду, две – и занавесочка задёргивалась, оставляя от него только необъяснимый привкус сердечного восторга, только привкус… и это хорошо, потому что когда удавалось задержаться за занавесочкой больше двух секунд, счастья становилось невместимо много, и голова могла взрываться изнутри такой же огромной, как и отрывающийся мир, болью, сквозь которую он иногда слышал, как кричали в панике его детские товарищи и товарки по двору: «Тётя Аня, тётя Аня! Валерка без памяти остался!!!»
Пока не пошёл в школу, гостил под Клепиками с Пасхи до Покрова, а один год, когда случилось несчастье с отцом, даже и зимовал в деревне, в младших классах приезжал к бабуле на всё лето, в старших получалось на два, потом на месяц, в институте удавалось вырваться на неделю-другую, успевал только порыбачить да поплутать по лесу, надышаться.
Бабка говорила, что в городе ему нельзя, город его «не выпустит», «загубит», а у неё он будет здоров. «Он ведь лесовичок!» – «Все мы были лесовичками, а вот живём…» – отвечала мать. «Все не были…»
Внуков у неё было пятеро, но только в Валерке она чуяла истинное родство, хотя дети все – абсолютные язычники. Где мы, городские ортодоксы, видим лишь красоту, язычник сразу узнаёт стоящее за ней божество. Так взрослый человек с замыленным взглядом и пообвыкшейся в вещном мире понурой душой упирается в красоту, как в стену: ну, вздохнёт, ахнет, воскликнет что-нибудь банальное, сравнит с подобным, уже виденным-перевиденным – дальше ему хода нет… а для ребёнка любой цветочек – образ создавшего этот цветочек, и его восторг поэтому абсолютно религиозен. Взрослые могут рассуждать о Боге, ощупывать его потерявшими первосмысл словами, дети – видеть Его и быть в Нём. (Ох, как неслучаен этот призыв: будьте как дети!)
С первым пушком на губах припадки участились – зимой и особенно к весне, когда совсем сякли в пацаньем организме бабкины заделы, мать и впрямь подумывала: не оставить ли его в деревне, на спасительных молоке, кулаге и травах, но – как? А школа? А после школы? Семья? Нет, нет, нет. Рассуждала-спорила с матерью: «Что он тут будет делать?» – «Жить» – «Как тут жить?» – «Как всегда жили» – «Теперь – не всегда, как всегда, теперь не проживёшь… Повзрослеет, глядишь и отпустит» – «Дай-то Бог». Не отпустило. Правда, был период в старших классах, когда болезнь вроде бы сошла на нет, но неожиданная (почему же неожиданная?) новая напасть вытащила за собой и старую.
Первый раз допьяна напился Аркадий (тогда ещё Валерка) на свои семнадцать лет, 12 мая 1974 года. Именно допьяна. Понемногу – бидон пива или бутылку портвейна на троих-пятерых одноклассников – пили и до того: вот, в тот же год, только тремя днями раньше, на День Победы с Юркой (нынешним Семёном) и Колькой Расторгуевым взяли с собой на крышу, откуда смотрели салют в Москве (на горизонте маленькие разноцветные букеты вспыхивали сразу в десятке мест, до них было не больше двадцати километров), бутылку «Кавказа», выпили, на каждый залп орали «Ура!» вместе со всем городом, собравшимся у верхнеэтажных окон, смотрящих на Москву, на чердаках, на не срытых ещё взгорках Белых песков – с них тоже салют было видно… И было хорошо. А день рождения 12 мая пришёлся на воскресенье, праздник ещё длился, семнадцать лет, весна, всё цветёт, то есть и так уже хорошо, но теперь знали, как может стать лучше. В складчину, где Валеркина доля, как именинника, была большей, купили пять «агдамов»… А утром, когда он, закрывшись в туалете и удерживаясь от рыка, чтобы не услышала мать, блевал, мозговая искра и пробила на корпус. Дверь ломали… Мать умоляла к вину не больше прикасаться, и в институтские годы мольбы эти ещё как-то удерживали, но в НИИПе город взял-таки своё. Правда, всего-то через год инженер-механик Анатолий Михайлович Фёдоров его научил похмеляться, и утренние спазмы опять немного отступили, только заплатить за это пришлось привычкой пить сначала не меньше двух-трёх дней кряду, а потом, как почти всё сверхумное население физического подземелья, и каждый день.
После каждого припадка он не помнил, как это с ним только что случилось, но вдруг вспоминал, что случилось не с ним и не только что, а чёрт-те когда…
Признаться, способность видеть через цветок стала сякнуть с наступлением взрослости, но вот после двух седьмиц этой взрослости как будто начала опять возвращаться. Должно быть, души и тела живут в противоположных направлениях. Когда тело растёт – душа уменьшается, теряя вложенные в неё Богом детскую открытость и всезнайство и уступая место страстям-похотям; когда же тело принимается стареть и сморщиваться, душа опять пускается в рост, возвращаясь к утраченному – уже через опыт и горькое осознание его конечности.
– Это не просто цветочек, это нам, дуракам, Бог показывает, как он и весь остальной мир устроил… по-честности. Как вкладываются и расширяются пространства: смотри, вот одна вселенная, вот другая, вот третья и седьмая… всё ради семени, этакого инобытия мира, гарантии его вечности и сохранности. И узор на каждом лепестке зеброй, тоже подсказка двумирности.
– Зеброй… – Семён вздохнул и ненадолго задумался, пытаясь вместить. Не получалось. – А что за слово такое «зебра»?
– Исковерканная «берёза», чёрно-белые полосы… вон, посмотри.
– Ладно, «зебра» от «берёзы»… хоть и экзотично, а сама «берёза» от чего?
– Да ты не глухой? От «резов». Береста это же русская бумага, берестяная переписка была раньше всех египетских папирусов и ханьских тряпок. Странно, если б было по-другому. Кому ещё так свезло: подошёл к поленнице, отодрал клок бересты, вырезал условленные чёрточки и отправил в соседнюю деревню с оказией: «Посылаю столько-то горшков с дёгтем, столько-то с мёдом».
– Сейчас придумал?
– Ничего я не придумывал… я удивляюсь, как ты, радетель за русскую древность, настоящего русского и не слышишь? Цепь во всю Евразию разглядел, а того, что прямо под носом, не различаешь. «Бо», «бе» – указательные частицы, со смыслом «это», «есть», «был». «Боян бо вещий…» – Боян… есть, был, это – вещий. Бо-ярый муж – боярин, бе-рёза – это для резов, для письма.
– Для письма-а… – передразнил Семён. – Названия деревьям народ давал тогда, когда никакого письма в помине не было!
– Письма учёному соседу не было, а накорябать родне в соседнюю деревню, сколько за зиму детей родилось и сколько скотины пало, – пожалуйста. На чём ещё? Глину из-под снега выкапывать? Месить, обжигать? И уж по-любому лучше, чем узелки расшифровывать, для узелков тоже ещё верёвку нужно было иметь, в хозмаге-то не купишь. Да я тебе больше скажу: и руны могли возникнуть только у народа, имеющего неограниченный запас писчего материала – бересты. Иначе как? На чём?
– А на чём евреи Библию написали? А Сократ? Платон? А Плиний Старший, у которого двадцать книг только «Германских войн», тридцать семь «Естественной истории» и остального столько же, если не больше?
Аркадий грустно рассмеялся:
– Вот если ты мне скажешь, на чём, я тебе без разговоров призовую налью… – и начал демонстративно откручивать фляжку. – Молчишь? Сам подумай, олух: бумагу изобрели китайцы только через тысячу лет, а твой Плиний на ней уже сто томов сочинений написал.
– Кто же тогда писал? Когда?
– Ты же сам полчаса назад об этом рассказывал: у нас гнобили – там сочиняли. Вот у вас в мозгах бреши!.. Появился спрос – появился и Плиний. Что за спрос? Лихорадочный. Необходимость удревнять, как ты сам говорил, историю Европы, наперегонки! Товар стал востребован и жутко дорог, тут-то все и бросились плинить, сократить, платонить… Целый континент исторических фантастов и врунов.
– Тут ты специалист…
– А то бы дураки-индусы, которые к бумажному Китаю-то поближе будут, пестовали целые касты браминов, чтобы совершить коллективный подвиг запоминания – тысячи лет «Ригведу» по памяти из поколения в поколения передавали, не могли, лентяи, гонца к твоему Плинию послать с рюкзаком рубинов, поменять на бумагу, вес на вес, – за-по-ми-на-ли. В книгу Гиннесса попасть хотели? Скажи ещё, что они на бычьих шкурах писали! Сколько на сто томов никому из современников непонятной и ненужной Плиниевой галиматьи нужно было произвести гекатомб? Гекатомба и в сытых Афинах событие исключительное, по большим праздникам, а уж у голодных евреев вообще один бык был на три кишлака… – Аркадий разгорячился, честнолюбивая душа его готова была вскипеть от вспоминания о вопиющих обманщиках, но – были дела поважнее: бредень, убавил газу, остыл… – А тут берёза! «Войну и мир», конечно, не напишешь, а маляву братану о новых бортях почему бы не вырезать? – И видя, как морщится от неумения возразить Семён, постучал ребром ладони по грудине: – По-честности!
– Берёза пусть… – согласился Семён. – Но руны – дела германские, скандинавские!
– С чего бы? – снова возмутился Аркадий. – Ну откуда в тебе, русском поэте, это тупое плебейство? Руны – это раны, порезы, прорезы, резы… и изначально именно по бересте, по бе-рёзе, и струна – это стоячая, напружная руна, ст – тугая жила, проволока, а остальное – руна.
– Звук, что ли?
– Не сам звук, а… как тебе сказать… смысл звука… душа его.
– А по-германски «руна» – тайна, это ближе к смыслу: тайнопись.
– Для них – конечно, тайна, они же дети, ни хрена в рунах не понимали… и до сих пор не понимают, по-честности!
– Ладно, ладно… – смирился, наконец, Семён. – Только скажи: какая разница между «по-честности» и «по совести»? Разве не одно и то же?
– Конечно, нет! По совести – это по совести, а по-честности…
– Это по-честности. Понятно. Разница какая?
– Вот ты недогоняла! По совести – это по совести, а…
– Всё, всё, всё!.. – замахал руками Семён.
– И совсем не всё.
– Ясно… Можно и поровну. Ещё можно по справедливости.
– Можно, если это по-честности.
– По справедливости и по-честности – это…
– Удивляюсь, как же можно так ничего не понимать? Справедливость – это математика множества, а честность – это физика единичного. Справедливость – это счёты, мыло в общей бане, а честность – компас, родинка на твоей щеке. Справедливость слепая, а у честности даже пятки с глазами. Справедливость, как и правда, может быть шемякиной, потому что она снаружи, а честность только своей, потому что она изнутри.
– То есть честность может быть несправедливой?
– Больше: не может быть справедливой. Как и справедливость – честной. Рыба не может быть птицей, даже если это летучая рыба.
– Почему же ты по-честности, а не по справедливости?
– Я же не судья какой-нибудь. Ты чего хочешь от меня?
– Правды.
– Это не ко мне, я по-честности.
– А по-братски?
– Скажи ещё по-товарищески.
– Скажу ещё: по потребностям, по способностям и по труду.
– Ну, по труду у нас не катит, а потребности ограничены нашими способностями. Есть, например, у Николаича потребность выпить литр, а способностей всего на бутылку.
– Э-э! Ты путаешь желание и возможности.
– Ничего я не путаю, это вы в словах заблудились… по совести, по справедливости, по-братски – всё это пена, я только по-честности.
– И при этом врёшь несусветно.
– Не перебивай. Честь старше любой заповеди религиозной, никаких Христов не было, а честь уже была.
– Была, – согласился Семён и процитировал: – «Мы всегда воздавали злом за зло, а иногда и добром за зло, следуя нашей чести» – это ещё хеттские полководцы в своих посланиях писали. Четыре тысячи лет назад. Но что она такое? Вот один французский умник говорил, что честность, как и все наши чувства, надо подразделять на два рода: честность положительную и отрицательную.
– Нашёл у кого честность искать! Честность у них отрицательная… Поэтому Гитлер на третий день уже по Парижу и гулял. Отрицательная честность – это не по-русски. Бальзак – не по-русски, как и Дарвин – не по-русски. Чисто английская идея-убийство: выживает сильнейший. У нас выживают все.
– Кроме русских. Нет, ты скажи, что она такое, твоя честность? Нравственный принцип?..
– Ну, адепт ордена Правды, ты этику ещё сюда приплети… Все твои нравственные принципы воняют обществом трезвости, а у иного пьяницы чести больше, чем у всех трезвенников мира, потому что трезвость – это всегда ложь по отношению к живущему в тебе Богу, лавирование, компромисс: хочу, но партком не велит, тихушничанье, онанизм с пустым стаканом, а честь всегда бескомпромиссна, честь – это никакой не нравственный принцип, принятый всеми, то есть внешний, вроде пальто (сегодня такое в моде, завтра другое), – это устремление к себе, старание себя, вытягивание себя за уши из всякого религиозного вранья, в котором ответственность за всё, мир, вселенную, со своего, единственно существующего внутреннего Бога перекладывают на общего, внешнего и не существующего. Или поп с парткомом, или честь. И ничего-то в ней нет мармеладного, честь – это всегда каторга, неволя.
– А как же узнать: по-честности или не по-честности?
– Зачем знать? Когда у тебя что-то болит, тебе об этом знать надо? Болит, и всё. Только не тело, а … – И опять постучал ребром ладони в грудину.
– Погиб поэт, невольник чести…
– Именно невольник… Честь – это соль души. И черти, когда за душами охотятся, только чести в ней и ищут: ниспровергнуть, заглотить, насытиться, это самое энергетически ценное, просто души, как ракушки без жемчужин, даже и чертям не нужны. Мир, особенно западный, живёт договором, законом, а русские…
– Стой, стой! Разве плохо: договориться обо всём и следовать договорённостям?
– Для бесчестных – конечно, неплохо, им узда нужна. А нормальным людям законы вредны. Потому что они становится вместо чести. Ты понимаешь, большая разница: не иметь чести изначально, куда ж таким без закона, и потерять её вдруг, имея прежде. Тут никакой закон не удержит… У них там до чего дошло – брачный контракт! Если есть любовь – на хер этот контракт? А если её нет – дважды на хер.
– Это когда делить нечего.
– Эх, бедолаги… Всё у них с ног на голову. А наши умники под этих недоумков, как циновки, стелятся.
И опять остановились выпить, три метра от дороги, в травах.
Растянулись на спине – духмяно, тихо, только шмелиное да пчелиное гуденье по обильному майскому цвету… хорошо!
Аркадий жевал какой-то стебелёк.
– Бабуля меня, как только ягода начнётся, всегда кулагой кормила, вкусная!
– Где она в Рязанской губернии курагу брала?
– Кулагу, темнота. С земляникой, потом с вишней, черникой, малиной, брусникой. А когда уже с калиной, то мёду добавляла.
Одна пчела трудилась на одуванчике прямо перед носом Семёна.
– Пчела… что за слово, Аркадий? Отчего её так назвали?
– От уважения, – ответил, недолго думая, Аркадий.
– То есть?
– Живут они правильно, по-человечески – по чела, потом «о», как водится, вытекло – хоробрый-храбрый, молоко-млеко, и осталась п-чела.
– По-моему, мозги у тебя вытекли… по-человечески сейчас волки живут или того хуже – собаки.
– Так это сейчас, а когда слово придумывали, и люди жили по-человечески, по-честности!
– А про твою честность я вот что думаю…
– Не надо, не надо думать, – перебил его Аркадий.
– И то… Ахав никогда не думает, он только чувствует, этого достаточно для каждого смертного.
– Пойми ты, честность – это не просто говорить правду, это даже как-то пошло, а некое соответствие душевному курсу. Правда же вроде ветра: кому попутна, тому и правда. Кому-то она может быть и боковой, может и встречной – что ж, жизнь! А честность – это оснастка такая в душе, с ней по верному курсу можно плыть и при боковом ветре, и против ветра.
– А можно мотор поставить и вообще на ветер наплевать.
– На ветер наплевать – это к немцам, англоцузам, франгличанам каким-нибудь… Я к тому, что тут опять не арифметика, не геометрия… и когда найдётся какой-нибудь аристоном да возьмётся раскладывать хорошего человека по полочкам, препарировать его положительность, то наверняка это будет не русский мудрец, какую бы он русскую фамилию себе ни придумал. Есть, допустим, правильный человек: стремится к развитию, обладает самоуважением, ответственностью, выдержкой и мужеством, и при этом относится к другим людям с уважением и… этой, как её… эмпатией, а вот пить с ним не будешь, ибо всё в нём не по-честности, а только по правде. Ну, и куда такую правду акунуть? Я прямо так и вижу, как этакий стремящийся к развитию, обладающий самоуважением, выдержкой и мужеством аристоном-англичанин травит собаками индусских шудров.
– Э, не может! Он же ещё относится с уважением к другим людям.
– Это вообще просто: надо не считать за людей тех, к кому ты с уважением относиться не собираешься. Шудры для них не люди – вот и полная правда… А само слово – «правда» – хорошее, только номинал у него небольшой и золотом, – постучал по груди, где по его разумению хранилось человеческое золото, – не обеспечено. Правда может быть карманной, у каждого своя, а честность в кармане не умещается, её только тут, – постучал по грудине, – носить можно…