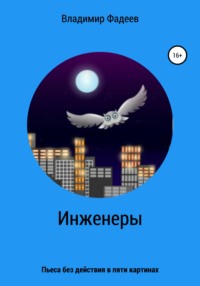Полная версия
Возвращение Орла. Том 2
«Ба, да это ж святой Брендан, ему сегодня память! – узнал Семён. – Ирландский мореплаватель. Старовер, наверное, вот и объявился».
Брендан, в старых лаптях и в русских портах смазывал каким-то вонючим салом швы кожаных лоскутов, которыми было обтянуто его корыто.
– Как же ты на этом поплывёшь?
– С божьей помощью. И не один я, нас вон семеро и вина бочка.
«Нет, не старовер…»
– Тогда конечно. Всемером, да с божьей помощью, да с бочкой вина…
– Вы разве не так собрались?
– Мы на корабле, двухпалубном, трёхмачтовом, да ещё 22 шестифунтовые пушки.
– Пушки вам на кой? С пушками бог вас не пустит.
– Куда не пустит?
Брендан бросил на Семёна изумлённый взор.
– Как куда? На блаженные острова. Вы разве не к ним? Тогда и затевать незачем, сидите на берегу, утонете иначе.
– Сам-то не утонешь?
– Я – Мореплаватель. Меня фоморы плавать учили.
– Поморы?
– Фоморы, великаны-боги, они всем морякам моряки.
– Так это ж наши… земляки, поморы!
Брендан прекратил мазать.
– То-то и смотрю – похож, белобрыс и глуп.
– Как же у тебя поморы, боги – глупые?
– Глупые… такую землю оставили… удержи теперь без них.
– Далеко ли… острова блаженные? Плыть до них сколько?
– Жизнь…
– Не заблудитесь в пространствах?
– Мы не плаваем в пространствах, мы пространствами гребём.
– Да ты поэт!
– А ты разве не поэт?
– Поэт… как ты узнал? Я и не печатался нигде…
– И хорошо, что не печатался. Молодых литераторов печатать нельзя. Только портить.
«Э! Да это не Брендан, это ж Андрей Васильевич Скалон! – он ещё раз всмотрелся в лицо мореплавателя, – конечно, Скалон». Его литературный учитель, охотовед, природолюб, только он мог так сказать о молодых литераторах, а уж тем более о поэтах, которых он не любил – не потому что сам был прозаиком, а потому что был фундаментальным человеком и лёгких стихоплётов, пропеллером гоняющих по бумаге драгоценные слова, ставил куда ниже «настоящих писателей», которые, говорил, не боясь двусмысленности, пишут не пропеллером, а задницей, жопой: садятся и пишут.
– Сами они этого не понимают, закон, как там у вас… да – Гёделя, – «а может не Скалон, откуда бы охотоведу знать про Гёделя?» – но печатать молодых – это даже не бражку пить, а дрожжи жевать, и противно, и живот пучит, – «Скалон, Скалон!» – ведь тем, что ты пишешь, ты создаёшь мир, не в переносном смысле, «мир художника такого-то», а настоящий, вот этот самый.
«Какой же Скалон? Это сам Господь!»
И, как в подтверждение догадки, Бог по-хозяйски постучал ступнёй в изношенном лапте по Земле:
– Вот этот самый мир!
– А я думал, что его создаёшь Ты.
– Мне-то чем его создавать? У меня и бумаги нет, и печатной машинкой я пользоваться не умею.
– Смеёшься…
– Смеюсь… но это же правда.
– Выходит, всякий халтурщик, натюкав одним пальцем какую-нибудь ахинею, тоже создаёт мир?
– К сожалению, так.
– Да что же это за мир будет?
Бог-Скалон насупился в удивлении:
– Почему «будет»? Ты посмотри вокруг, он такой ахинейный и есть! Спасибо, уже понатюкали, всё наперекосяк… Что далеко ходить – вон, Орликов, зеркало русской прострации, я ж изначально его таким красавцем задумал, помощником, сподвижником, со-творцом… Кто-то перенатюкал. Да что Орликов! Вы сами: по семи пядей, руки-ноги-душа… а что творите? До посинения день-деньской пьёте, жён побросали, дети… хотя какие у вас дети… полусироты – и это в самое мирное на этой земле время! Реакторы ваши взрываются, пароходы тонут, капуста – и та не посажена…
– И какая же сволочь всё это сочинила?!
– В смысле, кто украл невесту?
– Ах да…
– Обрадовались, что рукописи не горят. По мне, так лучше б они сгорали ещё не написанные, вместе с тюкальщиками. Говорил же один умный человек, что беда произносить слово писателю в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа.
– А если она и не придёт, что тогда?
– Тогда и не пиши совсем, что ж тут рассуждать.
– Так она в стройность и приходит, когда пишешь!
– Пиши для себя, в стол, гордыню засунь в одно место, но не сори в человечьи души… Ох-хо-хо…
– Крут ты, батенька.
– Был бы крут, такого бардака тут бы не было. Со-творцы, мать вашу. И это ещё цветочки.
– Может быть и хуже?
– О! Ад бездонный.
– Но это же значит, что жизнь – вечная… – Хоть какой-то плюсик пытался выцепить Семён.
– Вечная, вечная… Вопрос в качестве её. Ты не представляешь, какая дикость может стать нормой с лёгкой руки горе-сочинителей! Прочитал я недавно сказку про страну, в которой у девочек было по два папы, а у мальчиков по две мамы… Ну, и чего ты хохочешь? Поколение смениться не успеет, а самые наикультурнейшие страны такие законы примут, папо-папские и мамо-мамские.
– Так вымрут же!
– Вымрут. Поэтому аккуратней со словом… Э-э! Да ты, смотрю, возгордился, творец? Погоди, сильно на себя одеяло-то не натягивай… творец… – Господь вдруг грустно посерьёзнел. – Создатели… а что вы и можете? Намусорить. Это, конечно, скверно. Но даже при умножении образа… хотя что ты, математик, знаешь про умножение? В природе цифр нет, так что даже если напечатанную ересь прочитают все ныне живущие, включая новорожденных эфиопов, получится каких-то жалких пять миллиардов отзвуков… а вот мысль, одна-единственная правильно угаданная мысль об этом мире, мгновенно размножится в бесконечное количество копий, такое, что не пять миллиардов, а пятимиллиардный факториал предстанет в твоём числовом ряду невидимой пылинкой, и мир сразу станет другим, весь мир. Или создастся новый.
– Наш мир тоже был создан такой мыслью?
– Конечно… Вы, физики, приписываете это счастливой случайности гармонии главных физических постоянных, что верно в части гармонии, но абсурдно в отношении случайности: мысль, родившая мир, не может быть случайной.
– Постой… но ведь тогда должен же быть субъект, который мыслит! Мыслил до его создания.
– До, после… это тут у вас – в плотностях, в плоскостях. У меня такого понятия – «когда» – нет, главное, чтоб этот, как ты его называешь, субъект мыслил. Так что настоящие мои со-творцы сидят себе в одинокой тишине на каком-нибудь острове и…
– Правят миром?
– Тьфу ты, господи… правят! Правители в вашем мире и среди дураков найдутся. Создают!
– По-твоему выходит, что какое-нибудь забытое на острове племя нумба-юмба для Земли нужней, чем вся цивилизация?
– Цивилизация!.. Сам-то понимаешь, что она такое, цивилизация? Для Земли? Болезнь. Беда. Сосёт да гадит. Племя… что племя? Один эскимос для Земли важнее, чем вся Америка. Вон, смотри, сколько от него света…
…от яиц Леды
…а сойдется десять русских, – мгновенно возникает вопрос о значении, о будущности России, да в таких общих чертах, от яиц Леды…
И. С. Тургенев, «Дым»Капитан стоял рядом со врытой флягой. Он определил это место, долго топчась по косе, слушая себя, настраивая на чистоту, как настраивали старые приёмники на волну, аккуратненько подкручивая ручку: ближе, ближе, не хрипит, не потрескивает, ещё шажок, ещё полшажка… всё, чисто! Словно свежий, прозрачный, всепроникающий ветер дул в этом месте через всё тело из земли в небо, и Капитан пытался поровнее подставить под этот ветер голову, чтобы он выдул из неё всяческую полову, скопившуюся за последнее время, а заодно (хотя бы на время) и всё остальное – пусть и важное, но тоже мешающее услышать Голос.
Сначала выдуло лёгкую кашу из не далее как днём слышанного разговора речных этимологов – ганги и ямуны, флоты, плоты… потом рассосались корявые и цеплючие монорассуждения о приходившей в его отсутствие бригадирше, профкоме, парткоме и капусте… потом дошла очередь до тяжёлых, прилипших, как смола, раздумий про Бренделя, Орликова, да и всех ребят, погибающих по одной схеме: умники-красавцы как будто натыкаются в один прекрасный момент на преграду и начинают убивать себя. Как киты на сушу… Почему? Что за групповой ликёро-водочный суицид совершается в мирное сытое время?.. И, наконец, самую тяжёлую: о стране, о родине, с ней расстаться было всего сложнее, так пропитала боль за происходящее в последние времена все фиброчки, не вдруг-то и обезболишь, но – отлепил, отцепил, соскрёб… и с блаженством, как в прохладную воду из горячей липкой грязи, нырнул на целую вечность в пустоту…
В пустоте не было времени, и поэтому не мог даже представить, сколько он пробыл в счастливом бездумье, но не вечность: вечность бы не кончилась, а он ткнулся-таки в её край – край был как бы поверхностью реки, текущей по небу вверх дном, по реке плыл чёлн, сквозь дно рядом с бортом просвечивала единственная бледная звезда, похожая на утонувшую серебряную монету, и тут вдруг придавила тоска – жуткая, безмерная, как во сне, в котором насовсем теряешь близкого человека: «А ведь мне её не достать! Господи, не достать… невозможно!» И расплющился бы под этим грузом, когда б не стариковская речь из челна: «Всё возможно, когда твоя команда станет командой Орла». Услышал – и полетел, тяжелея и кувыркаясь со второго неба вниз, на первое, а с него к земле, где мысли озвучивались уже живыми голосами:
«Как же можно объяснить, что маленький, невежественный народ, живший в суровой местности, сумел побороть всех своих сильных, культурных врагов и создать величайшее государство? Объяснить это можно только двумя причинами, других объяснений найти нельзя: первая – духом народа, вторая – государственной организацией сил этого народа».
Не вернувшись ещё окончательно, рассуждал:
«Верно? Верно! Конечно – духом и государственной организацией… – Но тут же почувствовал каверзу: – А дух-то этот откуда? А государственность что, с облака свалилась прямо в болото, где мы сидели? Ни дух, ни (особенно!) государственность не могли появиться сами по себе, ниоткуда. Под этими двумя столпами не может не быть мощных оснований, как не могут деревья с неохватными стволами и необъятной кроной устоять против ураганов и засух, не имея невидимых поверхностному глазу таких же необъятных и неохватных корневых систем. И дух, и государственность – это не сиюминутные качества, возникшие вдруг по приказу вождя или прихоти кумира, это итог, это уже результат долгого и напряжённого исторического бытия народа, и поэтому стыдно за отечественных исследователей русского духа и государственности, которые, зачарованные стройностью существующих исторических парадигм (замороченные вражьим враньём, что точнее), боятся заглянуть в глубь держащей гигантское дерево почвы и восхититься красотой и мощью питающих и держащих его корней. Или, покалеченные вульгарным материализмом, они не понимают, что дух народа – не фантазийный букет эфемерно-воздушных представлений о нём, а самая что ни на есть твердь, которая, подобно брату-алмазу, рождается на невообразимой глубине времён и под невообразимым же давлением пространства. Поэтому, без понимания генезиса этой твЕрдной сущности, даже будучи волею судеб её теперешними обладателями, мы рискуем утратить собственную, воспроизводящую эту твердь способность и превратиться в исторических импотентов.
А может, и не надо для фундамента тысячелетий? – возражал он сам себе. – Вон у америкосов без всяких тысячелетий – и уже особая государственность! Хотя… тысячелетия у них есть, только не свои: английские, французские, испанские, словом, импортные, а во-вторых, их особость ещё никто на прочность не проверял. Пока они грабят из-за угла, то бишь из-за океана, – ура, Америка; вот посмотреть на них, когда петушок в ягодицу клюнет, где будет их особая государственность? Как съехались, так и разбегутся по своим деревням: китайцы в Китай, мексиканцы в Мексику, кто куда. Хазария, одно слово… Да и тысячелетия у них… мало того, что чужие, ещё и краденые».
Нет, не про нас медитации! Вернулся окончательно… Команду застал в том же запале – недолго, значит, странствовал…
– Всё – враки! – горячился Семён. – А покопаться, так выйдет, что на самом деле варягов не было, крестили силой, татары – наше евразийское войско, Пётр – протестантский шпион, революция – интеграл по всему предыдущему вранью, и мы, пьяные и тупые, внутри этого зазеркалья, как вершина этого рода Враньевых.
– У других, думаешь, лучше? – резонно заметил Николаич.
– Да плевать мне на других! – огрызался Семён. – Я, я из-за этого сквозного вранья – не я. Ты это понимаешь? Я – кто-то другой, совсем не тот, кто я на самом деле! Понимаешь, если даже один раз соврать, дважды два – три, например, то потом трижды три уже только семь, а не девять, а семью семь – жалкие тринадцать вместо сорока девяти и так далее, в пропасть. И это если только один! А ведь врут всегда! Кто мы? Кто мы по замыслу божьему, и кто мы теперь, посмотри!
– Погоди, погоди… врут-то наоборот, дважды два – не три, а обычно пять! То есть ты сейчас куда больше самого себя!
– Как же, дождёшься от чертей прибавки… Но даже если так, всё равно беда! Значит то, что мы из себя выпыживаем, не обеспечено золотым запасом божьего замысла – представляешь, мы пустые, надутые, не ядра, а воздушные шарики… Беда!.. Кто мы?
– Сплаваем в прошлое, узнаем, – успокоил его Николаич.
– Почему всё-таки в прошлое? Почему не в будущее? – недоумевал Африка.
– Боишься, Женя, в прошлое? Вдруг к своим же попам за аморалку на костёр и угодишь? – подначивал Виночерпий. – Страшно?
– В прошлое не страшно, – отвечал за Африку Семён, – потому что мы и есть это прошлое, в смысле – мы окончательный продукт, квинтэссенция этого прошлого, и всё, что там было страшного, равно как и хорошего и доброго, стало нами, такими, какие мы есть. Может быть, на взгляд наблюдателя из той глубины, случись у него такая фантастическая оказия заглянуть, скажем, на двести лет вперёд, мы и покажемся страшными, потому что он вместе с Гоголем ждал, что каждый русский в наши дни станет Пушкиным, а он стал Орликовым – было бы ему от чего ужаснуться и взвыть; но нам-то, самим на себя глядя, не страшно… хотя, наверное, должно бы быть… Так что в прошлое смотреть можно, а вот в будущее заглядывать – опасно. Мы ведь, как Гоголи, опять увидим там молочные реки с кисельными берегами, а по берегам – Пушкины, Пушкины…
– Разве плохо?
– Конечно. Сразу расслабимся, сядем вот так около фляги с самогоном, будем его жрать и ждать наступления золотых деньков, как коммунизма в 80-м, а от сидения такого результат будет обратный: чертополох и овраги.
– Да не ты ли мне сам говорил, что нужен образ будущего? – возмутился Африка и передразнил: – Лучезарный…
– Половину ты только и запомнил. Мало создать лучезарный образ, нужен ещё каждодневный труд по его воплощению, а мы даже в поле третий день попасть не можем.
– А если прозреть сразу чертополох с оврагами?
– Тогда из нас сразу дух вон!
– А может быть, наоборот – это нам будет подсказка и повод, чтобы упереться и оврагов не допустить, изменить картинку! Крепче, как говорится, взяться за вёсла… – Африка сделал мощное гребное движение.
– Если тебе для того, чтобы, как ты говоришь, упереться и оврагов не допустить, нужен повод в виде картины будущей разрухи, а просто так мы упираться не собираемся, давай я её тебе нарисую.
– Ну-ка, нафантазируй.
– Сейчас, что-нибудь пожутче… Скажем, так: Союз развалится, Средмаш разгонят, промышленность угробят, армию унизят, все оставшиеся богатства страны разделят между собой несколько вонючих чертей, на Украине будут НАТОвские базы, а ты станешь бомжом и сдохнешь под забором…
Все примолкли. Как-то неловко стало от прозвучавшей глупости.
– Чего сидишь? Давай, упирайся!
– Хреновый из тебя Нострадамус… Союз развалится!
– Чем тебе не повод упереться?
– Да не будет такого никогда.
– То есть сейчас упираться не хочешь?
– Хрень какую-то сморозил, а я упирайся. Вот если такое случится, тогда…
– Тогда будет поздно. Будущее нужно менять, пока оно ещё не наступило. А самый простой способ изменить будущее – изменить прошлое. И его меняют! Разве ты не слышишь, как скрипят поворотные рычаги во вражьих руках? А мы на капусте…
– И как они это делают? Машину времени, что ли, изобрели с одним задним ходом?
– Машинку… сначала простую печатную, потом говорящую, теперь вот и показывающую… а завтра такую, что и думать за тебя будет. Только событие происходит, становясь де-факто прошлым – на него, как голодные собаки набрасываются все: политики, журналюги, художники, бабки у подъездов, анекдотчики с водопроводчиками, и начинают его под себя перелепливать. Кто ушлее, того и прошлое… а заодно и будущее. Вот где теперь настоящая битва. Виртуальный Сталинград, и мы его проигрываем.
– Да, тяжело бороться за прошлое, которого толком и не знаем… а если не поплывём, то где и узнаем…
– Как где? В языке! – вставил своё Аркадий. – Размотай слово, как клубочек, а внутри зеркальце: смотрись!
– Так дальше пойдёт, то и говорить начнём на английском: посмотришь в зеркальце, а там какой-нибудь Джон или Билл.
– Интересно, останемся ли мы русскими, если заговорим на другом языке? Где хранится эта самая русскость? В чём? – Простые вопросы – Африканский конёк.
– В крови, – потряс фляжкой Виночерпий.
– В крови, – согласился Семён, перехватывая инициативу у Аркадия, – в крови тела и, главное! – в крови души. А кровь души, прав Аркадий, – язык. Обе определяющи, но… – на секунду задумался, как будто умножал в уме двузначные числа, – но всё же важнее кровь души. – Многозначительно поднял палец вверх и добавил: – Ибо Пушкин.
– Ибо, ибо… – передразнил Африка, – вон, вся средняя Азия по-нашему умеет, а не больно-то они русские.
– Уметь – не считается. Ты вот плавать умеешь, однако не рыба. В языке надо родиться, душа должна дышать им, жить. Только тогда и дух будет соответствовать.
– А вдруг не будет? Может так быть: говорит народ по-русски с рожденья, а не русские?..
Семён задумался, теперь, видно, умножал трёхзначные.
– Не может. Если они перестают быть русскими, они в первую очередь угробят язык: ну, не смогут на нём говорить, он им будет мешать, и за пару поколений превратят его в какой-нибудь суржик, типа того же английского… Ты думаешь, откуда всё это разноязычье? Энтропия духа.
– Точно, – подхватил родное Аркадий. – Ни один англичанин не скажет, откуда их леди, а они от лады, от лада, они – ладушки. У них слово без изначального смысла, как дом без фундамента, Богу в нём неуютно. Опасная дорожка: сначала теряется первосмысл слов, потом – и никуда от этого не деться! – потеряются сами, да считай, уже…
– Как же это их угораздило?.. – удивился Африка.
– Да ведь и мы туда же! – вздохнул Семён. – Хуже нас к своему прошлому мало кто и относится, и слово какое-то пошлое – прошлое, то есть как будто ненужное, а ведь суть, скрытое от нас вечное содержание, в нём: не сохраним – никаким лучезарным образом будущего не спасёмся.
– Почему же тогда говорят: кто старое помянет, тому глаз вон? – не отказывал электрик себе в удовольствии зацепить физика.
– А кто забудет, тому оба… ты уж договаривай.
– Договаривай не договаривай, но что вспоминать-забывать? Сами же поёте, что там одно враньё! – Нет, не хотелось Африке в прошлое.
– Вот и надо разгрести, – напирал Семён, – тем более, что враньё там не одно, а в пять слоёв, да в каждом по несколько прослоек, теперь вот и шестой начали выкладывать, соревнуются, кто больше на страну нагадит, коротичи стреляные! Волки гонят, медведи роют, черничат, карячат, бакланят… тьфу!
– Какие это пять? – спросил точнолюб Поручик.
– Ну как же: пришли попы, обрубили по самые не балуй, отмечают вот тысячелетие крещения Руси, при этом нет-нет, а само крещение да и опустят, уже только «тысячелетие Руси». Разница: тысячелетие крещения – и тысячелетие Руси. И прокатывает! Пришли Романовы, придумали варягов и иго.
– Ига не было? – удивился Африка. – Как тогда же пословицы? Про незваного гостя, поскреби русского – найдёшь татарина? – Он согласен был и на иго, только бы не трогали попов.
– Поскреби иго – найдёшь русских.
– Разве только под татарскими ярлыками.
– Никаких татарских ярлыков в природе нет! – вступился за Семёна Аркадий. – Ярлык – слово русское, неужели не слышишь? Яркое лыко! Изначально некий материальный знак привилегии или отличия, окрашенный в яркий цвет кусок лыка, ярлык, позднее – лычка.
– У тебя всё русское… Да ребёнка спроси, он скажет: татарское слово, а так из любых букв можно что угодно составить, было бы созвучно, – не сдавался Африка.
– Можно. Но зачем? Ты хоть и не физик, но старика Оккама уважать должен, – за слово Аркадий готов был биться. – Зачем искать у немцев, у греков, у тех же татар, когда слово употребляется исключительно русскими и к тому же имеет понятный русский смысл – яркое лыко, знак отличия. Лычка. Чего тебе ещё?
– Как же тогда было?
– Просто, – взялся объяснить мещерский рыбачок. – У нас перед Клепиками есть такой перекрёсток: в одну сторону «Князево», а в другую «Ханино». Как старая монета: орёл по-русски, решка по-татарски.
– Где орёл – Ханино или Князево?
– Смотря откуда едешь…
– Попутно, – продолжил Семён считать слои вранья, – вымазали дёгтем Грозного и разодрали двумя берёзами православие. И это ещё до Петра. А уж Пётр даже своего папашу-тихушника с дедом не пожалел; заметьте, до первых Романовых были варяги, иго и зверь Грозный, а допетровская Русь, вместе с папенькой и дедушкой, – вообще полная дичь и мрак, не на чем доброму взгляду остановиться. Но и его большевики переплюнули: ни одного в царской России светлого пятнышка не сыскать.
– А Невский?
– Вот! Александр Невский и сразу Владимир Ильич. Теперь и большевичков сажей, а Сталина ещё и серой… Ау-у, страна! Была ли ты вообще? А в это самое время, пока мы своё прошлое уничтожали – слой сажи, слой дёгтя, – наши визави наперегонки без устали врали о себе в другую сторону.
– Обратно-сопряжённые процессы… – прокомментировал, поправляя очки, Николаич.
– А ведь точно! – перебил его Семён. – У нас после смуты сочиняют себе пришлых князей, триста лет рабства от не пойми кого, уничижают Грозного, а в Англии форсируют национальный проект «Шекспир», создают язык без славянизмов и германизмов, библию Якова; и уже через полтораста лет – Тартария гибнет, Америка, наоборот, возникает… Доврались.
– Ну, всех по углам расставили, – взялся за непривычное дело (рассуждать) Африка, – все врут… а вы-то с Николаичем чем лучше? Тоже ведь ничего хорошего про прошлое не сказали: попы у вас такие, цари сякие. Тебя, Николаич, это не смущает?
– Не смущает. Попы и цари – это не народ, это на нём тромбы. Ну, давайте, давайте, будем любить всякую раковую опухоль. По-христиански будем любить, пока она нас не выест под корень. Нужно определиться с базовыми понятиями самих себя: кто мы как объект божьего эксперимента под названием «история», для выполнения какой функции мы на этой планете, соответствуют ли главные наши свойства и характер взаимодействия со средой осуществлению этой функции. А как назвать: Союз Нерушимый, Русь Святая – это второй вопрос, важный, но второй. Можем ли мы определить русскость как фундаментальное свойство высшей разумной материи, как, скажем, гравитация для материи вообще…
– Эк хватил…
– …и насколько жёстко, например, оно привязано к географии, в какой степени определяется ею.
– Я думаю, жёстко! – Золотая Цепь звенела в голове у Семёна.
– То есть русский человек в Греции жить бы не смог, равно как и какие-нибудь голландцы на двадцати миллионах квадратных километрах полопались бы, как мыльные пузыри в сухую погоду, так? – уточнил Поручик.
– Русский в Греции смог бы, только он бы перестал быть русским и превратился бы в грека.
– Как и случилось… ведь были они золотоволосые и голубоглазые… – вспомнил Семён.
– Да, любой организм меняется, и не только с переменой ареала, но и со временем. Меняться со временем – это его способ быть: чёрная маковка, зелёный росток, красный цветок, и это даже при постоянстве иных параметров, а уж поскольку со временем меняются все активно влияющие факторы – климат, соседи и прочее, то за пятьдесят поколений, то есть за тысячу лет, его можно по внешним признакам и не идентифицировать, будь то организм, народ или этнос, но…
– Хочешь сказать, что мы – не мы… в смысле – не те русские?
– Конечно. И мы не сможем идентифицировать себя с ними, теми, как отдельный человек не может, скажем, идентифицировать себя с собой-ребёнком: он помнит, что был ребёнком, то есть другим, тут и куча фотографий, и мамины сю-сю, а выйти за границы теперешней самости… – увидев нахмуренный лоб Семёна, поспешил добавить: – Но при этом всё равно из жёлудя вырастет дуб, а из репейника только лопух.