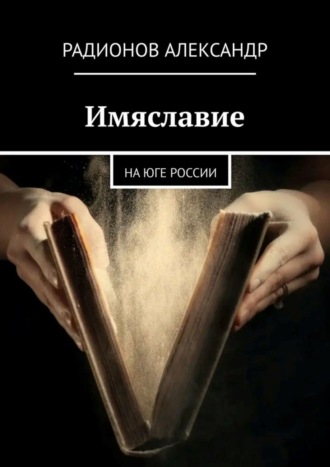
Полная версия
Имяславие. На юге России
Гражданская власть в лице Министерства иностранных дел в это время пытается понять положение происходящих на Афоне событий, как в связи с произошедшим в Андреевском скиту, так и грядущими изменениями статуса полуострова после захвата его греческой армией. Для получения всех необходимых сведений на Святую гору посылали как вице-консула российского посольства В.С.Щербину, так и чиновника по особым поручениям П. Б. Мансурова.
Первый отметился появлением в Андреевском скиту с требованием восстановить в должности отца Иеронима, которое не возымело действия. По воспоминаниям о. Антония (Булатовича): «Мы попросили заносчивого юношу, во первых, не кричать в храме, ибо это не приличествует святому месту, а затем объяснили ему, что скит пользуется правом самоуправления». Имяславцы подробно пояснили вице-консулу свою позицию в правах в соответствии с уставом, но сделано это было, видимо в тоне, который задел самолюбие чиновника. Вероятно, это стало одним из побудительных мотивов, по которым Щербина В. С. втянул в обсуждение вопроса смены игумена протат Святой горы, указав религиозные причины удаления отца Иеронима. Это привело к тому, что «русский дипломат не только толкнул греков на вмешательство во внутреннюю автономию русских обителей, но и во внутренние религиозные споры (…) российское посольство стало добиваться, чтобы греки признали Андреевский скит неправославным». Результатом подобных действий стало признание кинотом Святой горы за монашеской братией Андреевского скита ложного злословного учения о Втором Лице Святой Троицы с отлучением от церкви «впредь до суда великой церкви». 105 106
Вице-консул Щербина В. С. побывал и в Пантелеимоновском монастыре, где был свидетелем выражения недовольства части братии своим руководством. 22 января состоялось совещание в соборном Покровском храме, на котором вице-консул «Говорил долго и убедительно. Приглашал братство к миру и взаимной любви, напоминал о монашеском смирении и св. послушании игумену и монастырской власти, указывал на порядок решения спорных религиозных вопросов высшей инстанцией Церковной власти – Св. Синодом». Здесь он тоже не был услышан имяславцами, которые «с шумом прерывая речь Г. Щербины, предъявляли свои излюбленные требования: удалить… иеросхимонахов Агафодора и Вероника и других, обвиняя их в распространении рецензии сх. Хрисанфа (Ильинского)». 107 108
Таким образом, после всего увиденного, наш российский дипломат мог покинуть Афон с представлением о событиях, хоть и в меньших масштабах, но, вероятно, близких по духу к революции. В столице при этом, судя по жестким высказываниям о. Антония (Храповицкого), могли смотреть на афонские события как на продолжение «брожения умов», которое после революционного потрясения начала века перекинулось в церковную ограду. Так, например, в 1908 году смута поразила Глинскую пустынь, а в 1910 году – Оптину пустынь. В 1913 году было положено начало смуты в Соловецком монастыре. Везде имело место выступление части монашеского братства против своего руководства. Все эти события являлись прямым отражением влияния процессов, происходивших в российском обществе. События на Афоне, помимо этого фактора, отличались ещё и религиозным догматическим противостоянием. 109
Уезжая из Пантелеймоновского монастыря, Щербина В. С. явно предвидел возможные волнения, а потому рекомендовал игумену Мисаилу не делать собраний в его отсутствие. Между тем уже на следующий день под предводительством отца Иринея (Цурикова) было организовано общее собрание и, оказывая давление на официальное руководство монастыря, был составлен текст «Исповедание имени Божия», который отец Ириней внушил подписать и самому игумену. Также отца-игумена принудили подписать акт об изгнании 8-ми человек, лиц из его ближайшего окружения. Отец Ириней говорил при этом настоятелю архимандриту Мисаилу: «Иди скорее, подписывайся к нашему протоколу, или мы иначе с тобою заговорим». 110 111 112 113
В результате этих действий игумена Мисаила лишили его власти, избрав из среды имяславцев 12 новых соборных старцев, которые принуждали его во всем беспрекословно соглашаться на их предложения. Также была отобрана монастырская печать и ключ от кассы. Один из 8 изгнанников – иеросхимонах Агафодор в этой связи отмечал, что ревность за имя Божие была для руководителей имяславцев Пантелеймоновского монастыря лишь прикрытием, а «главная цель их была завладение в монастыре властию и кассою (…) у Иринея же за спиной скрывался самый главный вождь – иеромонах Иорам, претендент на игуменство». 114 115
Между тем, в январе 1913 года, в контексте обсуждения книги отца Илариона (Домрачева), найти общий язык с имяславцами попытался архиепископ Никон (Рождественский). Он пишет на Афон послание, в котором стремится примирить стороны, пытается обратиться к совести имяславцев и призывает к подчинению матери-Церкви: «… не смиреннее ли, не благоразумнее ли вовсе не читать сей книги, дабы не засорять своего сердца немирством к инакомыслящим – по крайней мере дотоле, пока сама Церковь не скажет своего слова (…) помнить должно, что для монаха все спасение в послушании Церкви (…)». Послание в целом носило примирительный характер, где действия «горячих голов» с обеих сторон были раскритикованы: «как противники, так и защитники книги внесли уже много в свою полемику (…) И те и другие подлежат строгой епитимии». Однако о. Никон весь корень проблемы сосредоточил в разном понимании выражений книги схимонаха Илариона. 116
В своем развернутом ответе иноки четко выразили мысль, что не книга о. Илариона стала причиной разногласий, а рецензия на нее инока Хрисанфа и статьи архиепископа Антония (Храповицкого), где говорится о том, что имя Божие не есть Бог. В целом оценка его послания была воспринята имяславцами отрицательно. Они были опечалены тем, что он не встал однозначно на их сторону и восприняли его слова более сочувственными к Антонию (Храповицкому) с которым он «один дух имеет». 117 118
5 апреля 1913 года вновь избранный Константинопольский патриарх Герман V, после очередного обращения за мнением богословов Халкинской школы подтверждает своей грамотой прежнее мнение почившего патриарха Иоакима III.
Антоний (Булатович) к этому времени уже находится в Санкт-Петербурге, где пишет в инстанции прошения и жалобы, в частности на архиепископа Антония (Храповицкого), отстаивая позиции афонских имяславцев. Также он плотно работает с П. Флоренским и М. Новоселовым (см. фото), которые активно помогают ему в издании «Апологии».
Михаил Новоселов (слева) и Павел Флоренский
В Синоде при этом, видя слабую реакцию на письменные увещевания афонцев, постепенно формируется мысль о необходимости послать на Святую Гору кого-либо из авторитетных пастырей. На этом настаивал так же прибывший из командировки с Афона П. Б. Мансуров. Этого, как казалось некоторым, требовала и сама ситуация – незадолго до Пасхи в афонский Свято-Пантелеимоновский монастырь прибыл имевший в свое время статус миссионера о. Арсений. Он приехал на Афон с намерением окончить там свой земной путь, однако его появление совпало с нагнетанием непримиримых столкновений. Попав в среду имяславцев в Андреевском скиту, он становится их пламенным защитником. 119
Параллельно с этим, 3 мая в Пантелеимоновский афонский монастырь прибыл Священный Кинот – центральный соборный орган управления Святой Горы Афон с миссией зачитать патриаршую грамоту Германа V, в которой осуждалось учение об имени «Иисус» как еретическое. Собравшимся в Покровском соборе также было предложено подписаться под этой грамотой, на что имяславцы, разумеется, не могли откликнуться: «Священный Кинот передал свое обращение к братии монаху Иринею, который заставил своего сообщника иеродиакона Игнатия читать его. И только чтец дочитал до слов, что учение об имени Иисус разбиралось в Богословской Патриаршей школе в Халки собранием профессоров в 8 официальных заседаниях, как Ириней остановил чтеца и стал глумиться над учением Св. Церкви и патриаршей грамотой, говоря: „Слышате, братия! – в Халки; что такое Халки, мы не знаем, нам покажите из Святых Отцов, а Халки мы не признаем“– и пытался вступить в прения со Священным Кинотом (…) гостивший в нашей св. обители ученый иеромонах Пантелеимон попросил слово (…) стал объяснять, что само имя никак не может быть названо Богом, тогда поднялся в соборе сильный шум и ему пришлось скорее уйти, так как грозила опасность быть избитому (если не убитому). Иеромонах же Варахия закричал братии: „Видите, какие Халкинские богословы! Ученые еретики!“ В храме поднялся невообразимый шум и Священному Киноту пришлось скорее уйти, не исполнив своей миссии». 120 121
Игумен монастыря святого Пантелеимона архимандрит Мисаил в связи со всеми произошедшими событиям и пишет в Россию развернутый официальный доклад, в котором в итоге просит правительство от лица всей обители оказать содействие Св. Церкви «в очищении нашего Священного места от еретиков», которые, «почуяв себя сильными в обители, примутся опять за выполнение своих давно задуманных властолюбивых целей и тем могут в конец разорить св. обитель. Необходимо их раз и навсегда обезвредить». 122
Между тем, на фоне столь бурной полемики, епископ Иларион (Алфеев), сравнив мнения Троицкого С. В. и о. Антония (Булатовича), видит много точек соприкосновения двух авторов, где первый из них принимает по сути имяславское учение об имени Божием как об энергии Божией и дополняет, уточняет тезисы второго, открывая возможность примирения между сторонами. Позиция Троицкого имела шанс стать общей платформой, но он был упущен. 123 124
Для решения накопившихся противоречий Синодом было принято решение отправить на Афон архиепископа Никона (Рождественского), на документ об утверждении кандидатуры которого сам император Николай II начертал резолюцию: «Преосвященному Никону моим именем запретить эту распрю». 125
Перед отправкой своего представителя, Синод успел сделать то, что изначально вело к провалу миссии. Произошло официальное осуждение учения об именах, изложенное в книгах отца Илариона и Антония Булатовича. Архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский) по поручению Святейшего Синода, на основе заслушанных докладов архиепископов Антония и Никона, а также профессора Троицкого, составляет послание. Оно будет опубликовано 18 мая 1913 г. и в нём имяславцы обвинялись в обожествлении звуков и букв имени Бога: «Главное же, допускать (вместе с о. Булатовичем), что „самым звукам и буквам Имени Божия присуща благодать Божия“ или (в сущности, то же самое) что Бог нераздельно присущ Своему Имени – значит в конце концов ставить Бога в какую-то зависимость от человека, даже более: признавать прямо Его находящимся как бы в распоряжении человека. Стоит только человеку (хотя бы и без веры, хотя бы бессознательно) произнести Имя Божие, и Бог как бы вынужден быть Своею благодатию с этим человеком и творить свойственное Ему. Но это уже богохульство! Это есть магическое суеверие, которое давно осуждено Святой Церковью». 126
Наш Синод (мнение которого формировалось под влиянием непримиримой позиции о. Антония (Храповицкого), таким образом, присоединился к решению Святейшего патриарха и Священного Синода Великой Константинопольской Церкви, осудившего новое учение «как богохульное и еретическое». Анализируя крайне резкий доклад архиепископа Антония (Храповицкого), епископ Иларион (Алфеев) считает, что причиной его ненависти к имяславию было то, что ему «был глубоко чужд тот дух мистицизма, которым пронизана книга „На горах Кавказа“ и который отразился в „Апологии“. Будучи воспитан в традициях русской академической науки, впитавший в себя дух латинской схоластики и протестантского рационализма, архиепископ Антоний оказался неспособен воспринять иную богословскую традицию, сформировавшуюся на протяжении столетий в афонских монастырях». Причем даже молитву он воспринимал «как-то психологически, как преодоление духовного одиночества». 127
Опубликованное послание главного органа церковного управления только разжигало афонских иноков к фанатичной защите своих взглядов. Позиция Синода отражена в рефлексии сознания одного из современников событий тех лет – монахини Сергии (Клименко): «Отец Иларион стал учить о имени Господа не в согласии с учением Церкви: он начал утверждать, что „имя Божие есть Сам Бог“, как бы ввел четвертую ипостась – имя. (…) все зло, разрыв с Православной Церковью, со всеми печальными последствиями, произошли от извращенного, утрированного понимания учения старца его фанатическим „последователем“ Булатовичем. (…) это ложное, нездоровое направление нашло сочувствие». 128
Сам же отец Иларион (Домрачев), в одном из писем так отвечал на подобные обвинения: «Считаю ли я, что имя Божие есть четвертое Божество?
Отвечаю – отнюдь нет! Никогда это богохульное учение не только теперь, но и во всю мою жизнь, не находило места в моем внутреннем мире, даже и на одно мгновение! (…) обожаю ли я звуки и буквы имени Божия и что я разумею под Именем Божиим? Выражаясь «Имя Божие Сам Бог», я разумел , , (фрагмент письма, выделенный жирным шрифтом, вырезан в книге Епископа Илариона (Алфеева) – А.П.). И это понятие для молитвенника весьма важно, именно: призывая имя Божие, чтобы он не думал, что призывает кого другого или бьет словами напрасно по воздуху, но именно призывает Его Самого; для этого у нас и сказано, что имя Его есть Он Сам; повторяю, ни кто другой, но Он, – Он Сам, по неотделимости Его имени от Него Самого (хотя мы различаем имя Божие от Сущности Божией, но повторяю, не отделяем). А звуками мы только произносим, называем или призываем имя Божие, которое находится в Боге, как Его принадлежность; буквами же начертываем Его, т. е. изображаем, пишем; но это есть только внешняя сторона имени Божия, а внутренняя – свойства или действа, которые мы облекли в сию нашу форму произношения или письма. Но и пред этой формой, т. е. – внешней стороной имени Божия, истинные последователи Христа Иисуса всегда благоговели и почитали ее наравне с св. иконами и св. крестом (…)» не звуки и буквы, а идею Божию, свойства и действа Божии качества природы Божией или вообще ея принадлежность, ибо свв. отцы под именами Божиими разумели не сущность Божию, которая не именуема, а именно: свойства или действа. При том следует сказать еще и то, что, выражаясь: «имя Божие есть Сам Бог», мы этим как бы так говорим: «имя Божие есть никто другой, но именно Он Сам» 129
Имяславцы нашего времени со своей стороны вспоминают, что «в 1913 году вышла синодская программа. Какой-то монах, говорят, 12 или 13 лет ходил под мантией, а потом подорвал веру – что есть Господь не от духа, а от плоти. Как есть шпионы, которые работают, так и он. Священники поверили, а это грех. Так и пошло оно. Говорили, что украли ковчег матери Божьей, что мать Божья якобы жива». «Имя Божие есть Сам Бог. Имяборцы считали, что Иисус – простой человек, сказали, что Бога нет. Имяборцы- предатели» 130 131
Одним из гимнов неизжитой в душе обиды на этот счет являются воспоминания старца-иеромонаха Паисия: «Еретическая куча Антония, архиепископа Волынского, состояла из семи членов Синода (…) богохульное семиглавие (…) имело споспешника своему злочестию, в лице сильного и могучего Обер-прокурора Святейшего Синода Владимира Саблера, который захватил полномочия в Российской Церкви, наподобие папы Римского. (…) И этот немецкий выродок являлся самым высшим лицом в Святейшем Синоде, фундаментом богохульного имяборческого гнезда. Итак, каков состав этой кучи, таково и ее действие. Так выросла адская гидра (…) Гидра эта – дракон, вышедший из Ильинского скита, из окаянной души „номинального Хрисанфа“, которая очаровала Афонский протат, Вселенского Константинопольского Патриарха Иоакима III и, наконец, Российский Синод, потому что куча архиеп. Антония действовала от имени Синода, несмотря на то, что большая часть его членов оставалась благочестивой». 132
В аналогичном настроении, вероятно, встретили отца Никона имяславцы Пантелеимоновского монастыря. Сам о. Никон, просчитывая варианты будущих бесед с оппонентами, скорее всего, находился в смятении, не понимая, как ему правильнее себя поставить. Незадолго до отъезда он пишет письмо обер-прокурору Синода Саблеру В.К, в котором открыто просит о помощи: «Скажу Вам откровенно: в великое затруднение я поставлен: боюсь профанации слов Помазанника Божия. Помогите мне добрым советом». 133
Предположим, что эта встреча состоялась, и Владимир Карлович дал свое напутственное слово. Тогда это могло определить стиль поведения архиепископа, который, прибыв на место, как сообщают имяславцы, вел себя как жестокий инквизитор, обвинявший оппонентов в оскорблении чести Синода и бунте против Императорского Правительства. 134
Если же перед выездом на Афон встречи с обер-прокурором и не было, то причину столь жесткой позиции о. Никона можно считать реакцией на непримиримость защитников имени Божия. Недружественная, нагнетаемая атмосфера могла привести к внутренней защитной реакции его психики. На отца Никона была возложена серьезная ответственность в деэскалации конфликта, пожар которого изначально разжигал не он. На него также давили возложенные на него надежды самого императора, подвести которого он очень не хотел. В целом, скорее всего, оба эти фактора играли свою роль в разной степени в том, что атмосфера переговоров только накалялась.
К вышеописанным предположениям стоит добавить, что архиепископ Никон, несколько десятилетий писал статьи, направленные на духовное просвещение, ратуя за возобновление оскудевшей духовной жизни русского народа. Он был активным борцом с сектантством и революционными движениями. Имяславие и ситуация на Афоне, видимо, были восприняты архиепископом как церковное революционное сектантство в самом центре русского монашеского мира, которому он решил дать самый серьезный отпор, что и сделало его одиозной фигурой среди имяславцев.
Архиепископ Никон проводил неоднократные беседы с монахами в храмах и монастырской библиотеке, однако речи его не вызывали отклика у собравшихся, которые часто мешали ему вести проповедь, выкрикивая из толпы самые разные обвинения.
Сам отец Никон вспоминал: «Я здесь на Афоне оказался масоном и еретиком, даже не знают как и назвать меня. (…) Это настоящие революционеры. Никого не хотят признавать». Он также вспоминал, что «все выступления монахов в защиту лжеучения и потом на Афоне носили один и тот же характер: горячие заявления, что они за имя Божие готовы душу свою положить, пострадать, умереть (как будто мы какие мучители – игемоны), а когда им говорили, что никто от них этого не требует, а только разъясняют им, что и мы все имя Божие благоговейно почитаем, признаем, что оно достохвально и преславно, но что оно само по себе не есть еще Сам Бог, – то они начинали беспорядочно волноваться, кричать, повторяя все одну и ту же фразу: „Сам Бог, Сам Бог!“ Сколько раз я ни повторял в свою очередь, что я верую и исповедую, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, что речь идет не о Его Личности, а только о словах-именах Его, что одно – Сам Господь, а другое – Его имя, – ничто не помогало: они уже обвиняли меня, что я не называю Иисуса Христа Богом, что я – еретик». 135 136
В отношении того, что вызвало подобное отношение имяславцев к одному из высших иерархов церкви, сохранились следующие сведения: «Священный Синод без суда и следствия осудил почитателей священного имени Божия и послал на Афон карательный отряд, подчинив его указаниям членам Св. Синода архиепископа Никона и его помощника – преподавателя духовного училища С. В. Троицкого. Они-то на Святой Горе дополнили миру хулы и кощунства на имя Господне. С этой целью архиепископ Никон в изобилии раздавал свои брошюры, которые множеством хулы и даже кощунства на имя Господне привели иноков в ужас. Там он, между прочим, изложил свое учение о святом и страшном таинстве евхаристии, в котором отрицает не слитное и нераздельное соединение в Спасителе божеского естества с человеческим такими словами: „Значит в теле и кровь Спасителя – всём животворящем по виду хлебе и вине – Сам Он – Бог Всесовершенный? Вывод несомненный и по логике защитников нового „догмата“ следовало высказать прямо, что Святые Тайны – Сам Бог“ (Церковные ведомости 862, №20, 1913). Если в святом теле и крови спасителя нет Бога, как учит архиепископ Никон и Священный Синод, то для чего и причащаться Святыми Таинствами? Мы же, наученные святыми учителями Церкви, что в Святых Дарах не слитно и нераздельно присутствует Всесовершенный Бог, как учит и святой Иоанн Дамаскин: „Причастие называется таинством потому, что через него мы причащаемся божества Иисуса. А общением и называется и поистине… того, что через него мы вступаем в общение со Христом и принимаем участие в Его как плоти так и божестве“. О плоти же Христа святый говорит так: „Плоть Господня есть животворящий Дух, потому что она зачата от животворящего духа, ибо рожденная от Духа – Дух есть. Говорю это не уничтожая естества тела, но желая показать животворность и божественность этого“ (…) имяборчество есть действительно отступление от православия, ибо православное учение заключается не в логических соображениях нескольких влиятельных членов Священного Синода, дерзнувших присвоить своему лжемудрствованию наименования голоса православной церкви, а в учении боговдохновенных учителей церкви, прославленных Богом, от какого учения мы не должны уклоняться никуда в сторону, иначе мы перестанем быть православными». 137
Бывший ранее на Святой горе Павел Борисович Мансуров в освещении положения афонских событий оказался провидцем. В своих донесениях на имя министра иностранных дел С. Д. Сазонова он предупреждал о недопустимости вмешательства гражданской власти в решение религиозных вопросов, т.к. это может повлиять на состояние духовной жизни всего русского народа. Это мнение не было услышано. 138
На Афоне в результате многократных бесед с имяславцами члены миссии не смогли добиться положительного результата. Монахи всё менее дружественно относились к посланникам Синода. В дальнейшем с подачи российского посла в Константинополе М. Н. Гирса в согласии с архиепископом Никоном было принято решение действовать иными методами. Уже 9 июня наш посол телеграфирует с просьбой прислать на Афон «еще не менее 200 человек десанта, не опасаясь сопротивления занять монастырь и арестовать бунтовщиков». На монахов он смотрел как на толпу, фанатично преданную нескольким вожакам. Так как не было возможности мирного ареста лидеров имяславцев, то произошло насильственное выселение иноков Пантелеимоновского монастыря со Святой горы. 139 140 141
Несогласие имяславцев подчиниться было предсказуемым, позиция Антония (Храповицкого): «заковать нахалов» – уже была им озвучена. П. Б. Мансуров, характеризуя ситуацию, отмечал, что «бывший во время Афонской смуты в Константинополе наш посол М. Н. Гирс привык вести церковные дела, но не интересовался их специально церковной сутью. (…) Принципиальным руководством в отношении к афонским спорам служил для него взгляд архиепископа Харьковского Антония (ныне митрополита), пользующегося в Константинополе авторитетом». 142
Таким образом, последовавшие события были неотвратимы, а воспоминания о них – одни из самых эмоциональных в мемуарах очевидцев. 3 июля 1913 года произошла настоящая драма. Монахи оказали активное сопротивление, а власти для усмирения несогласных пустили в ход шланги с холодной водой и физическую силу присланных солдат. В результате «монастырь превратился в поле сражения: коридоры были окровавлены, по всему двору видна была кровь, смешанная с водою; в некоторых местах выстланного камнями двора стояли целые лужи крови (…) до ста человек впереди стоявших иноков было избито, смято, изранено… и все они валялись в грязи вместе с разбитыми св. иконами, крестами и царскими портретами». Десятки монахов получили ранения и увечья. «После этого истязания, во время которого иноки, стоя на месте, падая и подымаясь от сбивавшей с ног сильной струи и защищая от нее глаза и лицо, держимыми в руках иконами, немолчно вопияли ко Господу о помиловании и спасении, на иноков, среди которых были и глубокие и дряхлые старцы, были брошены в атаку заранее отобранные для этого охотники солдаты, предварительно напоенные вином, причем среди них было немало было иноверцев; по команде: «бей монахов прикладами», – они стали беспощадно избивать не сопротивлявшихся старцев и по мокрым лестницам с четвертого этажа свергать вниз, причем многие скатывались замертво. 143
Избитых, мокрых до костей и израненных иноков, выгнав из монастыря, погнали на транспорт «Херсон», вытребованный для этого из Царьграда арх. Никоном и засадили в трюм. Более 60 иноков оказались пораненными и были перевязаны и зарегистрированы судовым врачом; более тяжело раненные были положены в монастырскую больницу, при этом раны наполовину были штыковые. 4 инока, как утверждали очевидцы греки Канон и Андрей, были ночью тайком похоронены». 144
После столь неоднозначных действий последовало мирное выселение монахов Андреевского скита, которые добровольно открыли ворота, не смотря на то, что также были готовы стоять за свои убеждения до последнего. Однако возобладало мнение старцев, которые убедили всех, что «войско идет от имени царской власти, и если воспротивимся царю, то окажемся противниками Самому Богу; что Бог попускает, тому мы должны покориться как испытанию, незыблемо храня исповедание веры во Имя Господне».

