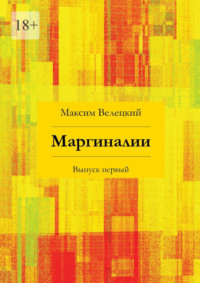Полная версия
Маргиналии. Выпуск второй
То же верно и для анекдотов Диогена Лаэртия – заменим действующих лиц:
«Когда Эпикур дал определение, имевшее большой успех: „Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев“, Зенон-стоик ощипал петуха и принес к нему в школу, объявив: „Вот эпикуровский человек!“ После этого к определению было добавлено: „И с широкими ногтями“».
Кое-что в этом рассказе все же похоже на правду – стоики, действительно, были врагами эпикурейцев – но в остальном звучит не очень. Даже если мы слышим эту байку впервые, то понимаем, что речь должна идти о любителе определений и его сопернике с замашками тролля, то есть о ком-то вроде Платона и Диогена Синопского.
Да, нам хотелось бы знать больше подлинных фактов из жизни философов, а не довольствоваться их образами, запечатленными в «народной» памяти. Но при скудости материалов, дошедших до нас из Античности, такие анекдоты полезны для историков. Не будем забывать, что из архаики и классики в полном виде сохранился только Платон – даже Аристотель уцелел частично, не говоря уже о доплатониках (например, от трех милетских авторов до нас дошел один (!) фрагмент). Так что сообщения по типу тех, что приводит Диоген Лаэртий, не стоит принимать за чистую монету, но и пренебрегать ими глупо. Как показывает вышеприведенный анекдот, даже чистый вымысел имеет под собой основание.
63. К Ефрему Сирину
«И в мире, и в подвижнической жизни никто не венчается без борьбы; без борьбы никто не может получить неувядаемого венца и вечной жизни, ибо настоящая жизнь всегда подобна поприщу. Совершенные воители, по охоте (воле) своей, не отговариваясь, сами являются на поприще, а робкие и изнеженные по изнеженности своей всегда избегают борьбы. Совершенные борцы и воздержанные подвижники имеют пред очами сладостный рай, ожидая наслаждения его благами в вечном свете и бессмертной жизни. Хочешь ли быть в борьбе и оказаться совершенным? – Всегда будь облечен в добродетели, как в одежду! Облекся ли в добродетель? – Непрестанно употребляй усилие не совлекаться ее!».
О чем столь пафосно пишет один из Отцов Церкви, преподобный Ефрем Сирин (306—373)? О борьбе с кем и с чем? Оказывается, всего лишь с собственными страстями. Ну что ж, спору нет – иные страсти имеют над родом людским огромную власть, но все же риторика Сирина удивляет несоответствием между реальным «врагом» (нашими вожделениями) и эпитетами в отношении «борцов» с ними. Процитированный фрагмент относится, на секундочку, к сочинению «О девстве»… Конечно, сексуальная страсть является самой сильной из беспокоящих человека, но говорить о ее подавлении в духе фронтовой газеты – это не только стилистический перебор, но и девальвация понятия добродетели.
Велеречивостью в милитаристском духе пышет и другое его сочинение – «О смирении и гордости». Оцените силу метафор (помня, что речь идет о борьбе с самим собой – точнее, со своими греховными помыслами):
«Осматривал я оружейную храмину победоносцев, вникал, какое оружие облекшемуся в оное доставляет победу. <…> Во-первых, видел я чистый пост, этот меч, который никогда не притупляется. Потом видел девство, чистоту и святость, этот лук, с которого острые стрелы пронзают сердце лукавому. Видел и нищету, <…> эту броню, которая не допускает до сердца изощренных стрел диавольских; заметил там любовь, этот щит, и мир, это твердое копье, от которых трепещет сатана и обращается в бегство. Видел бдение, этот панцирь, молитву, эти латы; и правдивость, эту легкую военную колесницу. Но, рассматривая все эти вооружения <…>, увидел я оплот смирения и нашел, что ничего нет тверже его, потому что никакое оружие не может проторгнуть его, и лукавый не в силах взять его приступом. <…> Если желаешь одержать победу в брани, которую ведешь ты, то ищи себе прибежища за оплотом смирения, там укройся и не оставляй этой ограды, чтобы не уловил тебя в плен хищник, не полагайся на собственное свое оружие, чтобы не поразил тебя лукавый».
Для человека, знающего античную этику, подобное красноречие звучит удивительно и воспринимается с недоумением (что, конечно, не отменяет таланта Ефрема Сирина – спору нет, стилист он первосортный). Дело в том, что тема усмирения страстей является центральной для всех античных моральных учений (кроме гедонизма киренаиков, да и то с оговорками), но, если не ошибаюсь, ни в одной из них нет ничего похожего на вышеприведенные витийства. Нигде добродетельная жизнь не описывается через войну, борьбу, брань и все такое. Напротив, вся суть античной этики, включая даже киников – радикальных аскетов, сильно повлиявших на христианство – в том, что жизнь подлинного мудреца является не войной, а состоянием умиротворенного, гармоничного счастья.
В этом – фундаментальное различие между античным и христианским пониманием добродетели. Античная онтология и антропология видит человека разделенным на разум и тело, но все же в основе своей единым существом. С одной стороны, нижняя, животная, часть души, ведомая страстями, нередко одерживает верх над разумом, но, с другой стороны, разум, напротив, должен стремиться нейтрализовать ее движения добродетелями – разумностью, мужеством, благоразумием и справедливостью. Проще говоря, должен устоять.
То, о чем пишет Ефрем Сирин, прямо противоположно этому идеалу устойчивого, ровного пребывания в самодовлеющем блаженстве: «И в мире, и в подвижнической жизни никто не венчается без борьбы; без борьбы никто не может получить неувядаемого венца и вечной жизни». Назвать же того, кто разумом одолел неразумие плоти, ни много, ни мало «победоносцем» – о, такие эпитеты ни одному дохристианскому мыслителю не пришли бы в голову.
Классический грек или римлянин времен республики, перенесись он на несколько веков вперед, с удивлением сказал бы нашему герою: «Добродетельный муж достойно несет воинскую повинность – но это не подвиг, а просто обязанность. Он готов отдать жизнь за отечество – это достойно славы и награды, но это естественно для честного гражданина. Он смиренно следует отеческим законам, подчиняется народным избранникам и чтит богов – но это тоже его обязанность, а не подвиг. Он боится позора и сторонится пороков – изнеженности, трусости, нечестия, скупости, лихоимства, бесстыдства, распущенности и прочих – но это не подвиг, а лишь достойный похвалы пример подрастающему поколению. А что вы, дорогой Ефрем, называете подвигом? Девство, то есть воздержание? Серьезно? Это подвиг? Я-то думал, что подвиг совершил Леонид при Фермопилах и Сцевола в лагере Порсены, что их совершали Геракл и Персей, Тесей и Ахилл. Да что, в конце концов, подвиги совершали ваши братья-христиане, когда их гнали по всей империи – нечего и говорить, они вели себя отважно… Но когда кто-то из вас отказывается от денег и женщин – разве это подвиг? Если вы даже и верите в злых даймонов, возбуждающих в вас дурные помыслы, то неужели умеривший их человек достоин называться победоносцем?».
Вообще, читая Писание и Предание, сторонний человек не может не удивиться обилию милитаристской риторики. Но если в Новом Завете таковое вполне понятно – ведь последователи Иисуса действительно находились во враждебном окружении и готовились к Армагеддону, то перенесение поля битвы внутрь человека и патетика подвига-подвижничества, соревнования в благочестии, жертвенности во имя спасения и прочего сразу демонстрирует неподготовленному читателю дистанцию между светской и религиозной концепциями добродетели. Как оценивать христианское ее видение – личное дело каждого, но не отметить его наличие и отличие от прежнего совершенно невозможно.
Впрочем, знаток древности, вероятно, возразит нам, вспомнив отрывок из Платона, где присутствует метафора борьбы. Но посмотрим, насколько она далека от той, что запечатлена в творениях Ефрема Сирина. Вот Платон пишет о своем идеале человека – того, что не пренебрегает ни телесными, ни духовными упражнениями:
«Когда могучая и во всех отношениях великая душа восседает как бы на колеснице слишком слабого и хилого тела или когда равновесие нарушено в противоположную сторону, живое существо в целом не прекрасно, ибо ему не хватает соразмерности как раз в самом существенном; однако, когда в нем есть эта соразмерность, оно являет собою для каждого, кто умеет видеть, самое прекрасное и отрадное из всех зрелищ».
Далее он объясняет, чем опасна несоразмерность: если сильная душа живет в слабом теле, то утомляет и истощает его, а если наоборот – то делает человека тупым и подверженным вожделениям. То есть и хилость тела, и слабость разума одинаково губительны для «двухчастного соединения, которое мы именуем живым существом». За этим следует одни из самых, на мой вкус, мудрых слов, когда-либо кем-либо написанных:
«От того и другого есть лишь одно спасение – не возбуждать ни души в ущерб телу, ни тела в ущерб душе, но давать обеим сторонам состязаться между собой, дабы они пребывали в равновесии и здравии. Скажем, тот, кто занимается математикой или другим делом, требующим сильного напряжения мысли, должен давать и телу необходимое упражнение, прибегая к гимнастике; напротив, тому, кто преимущественно трудится над развитием своего тела, следует в свой черед упражнять душу, занимаясь музыкой и всем тем, что относится к философии, если только он хочет по праву именоваться не только прекрасным, но и добрым».
Вот он – античный идеал калокагатии – в соединении красоты тела с красотой души. И пусть здесь присутствует слово состязание – но это состязание между красотой и красотой, итогом которого является не победа, а совершенная «соразмерность» в «равновесии и здравии».
О том же – об устойчивости как о стабильном состоянии добродетельного человека – говорят и другие важнейшие тексты античных моралистов. Упомянем лишь парочку. Во-первых, платоновский миф о трех частях души, уподобленных возничему и упряжке с двумя конями – благородным и дурным. Образ говорит сам за себя – ясное дело, что дурной конь все время пытается помешать разуму-возничему двигаться в правильном направлении. Но – что должен делать хороший кучер? Разумеется, воспитывать дикую тварь, прививать ей смирение:
«Возничий <…> изо всех сил натягивает узду между зубами наглого коня, в кровь ранит ему злоречивый его язык и челюсти, пригнетая его голени и бедра к земле и причиняя ему боль. После того как дурной конь часто испытает это же самое и отбросит наглость, он смиренно следует намерениям своего возничего <…>».
Да, и тут можно увидеть мотив борьбы со страстями, но тут нет ничего из того, что присутствовало у Сирина – ни копья, ни лат, ни меча, ни брони, ни ни ни. Только твердая рука возницы, смиряющая бунт дурного животного. Так Платон видит разум и его роль – в обуздании вожделений, в самовоспитании, в обретении целостности.
Другая прекрасная аналогия – геометрическая – представлена у Аристотеля. Обратим внимание на тот же самый мотив устойчивости как желательного состояния для совершенного человека:
«Действительно, ни в одном из человеческих дел не заложена такая основательность, как в деятельностях сообразно добродетелям, ведь эти деятельности явно более постоянны, чем [даже занятия] науками, причем самые ценные из них те, что более постоянны, затем что именно в них и притом непрерывно проходит жизнь блаженных людей. В этом, пожалуй, причина того, что они не уходят в забвение. Таким образом, счастливый будет обладать искомым [свойством] и в течение всей жизни останется счастливым, ибо всегда или насколько вообще возможно как в поступках, так и в умозрении он будет сообразовываться с добродетелью, а превратности судьбы будет переносить превосходно и пристойно во всех отношениях, во всяком случае как человек истинно добродетельный и „безупречно квадратный“».
Роскошный образ – как квадрат ни крути, он останется равен себе. Так и добродетельный человек останется неколебимым, несмотря на удары судьбы. Но назвать этого квадратообразного человека «победоносцем», а добродетели уподобить облачению воина – нет, до таких высот изящесловия Аристотель не дошел.
Но читателю может подуматься, что не стоит делать далеко идущие выводы о сущности христианской этики на основе важного, но не самого известного богослова. Действительно, мало ли что написал этот Ефрем Сирин? – может, увлекся эстетикой войны для усиления эффекта. Нет. Идея добродетели как войны за посмертное спасение (идущее вразрез с греческим пониманием добродетели как залога земного блаженства) восходит к Писанию. А еще более любопытно то, что христианская концепция подвига, в свою очередь, восходит именно к античной культуре, но не к военному, а к спортивному ее аспекту. Принятый в нашем церковном языке глагол «подвизаться» (производный от подвига и подвижничества) в греческом оригинале Послания Иуды, входящего в Новый Завет, звучал как ἐπαγωνίζεσθαι. Обратите внимание на корень ἀγών (агон) – состязание. То есть ἐπαγωνίζεσθαι также можно перевести как бороться изо всех сил. Как греки боролись за спортивные победы, так христианин должен «штурмовать» Царство Небесное, круша внутренних (то есть внешних, но действующих изнутри) демонов. И, кроме того, слово аскеза – также спортивного происхождения.
Забавное переплетение культур – христиане взяли идею агона, но применили ее к этической сфере, тогда как у самих греков нравственный идеал был лишен милитаристских черт. Ну то есть соревнования в доблести и желание прослыть добродетельным у них также были выражены, но само существо добродетели было противоположно тому надрыву, с котором христиане всех времен придавались духовным практикам. Античная этика вовсе лишена этого надрыва, тогда как в христианстве даже жизненный путь нередко зовется поприщем (то есть спортивной ареной).
В завершении добавлю кое-что чисто от себя. Я горячий сторонник античной этики (по крайней мере, большинство – но не все – ее направлений вызывают у меня нечто вроде благоговения), а потому, конечно, буду субъективен. Так вот, не могу не признаться в том, что во всей этой возгонке эмоций и нагнетании атмосферы войны и борьбы, мне видится некоторая рисовка. Возьмем еще одну цитату из Ефрема Сирина – уже из третьего его сочинения, где встречаются сравнение праведности с войной:
«Обратите внимание, возлюбленные мои, как усиливается все лукавое, как зло ежедневно преуспевает и лукавство идет вперед. <…> Будем же каждый день бодрственными, боголюбивые воители; окажемся победителями в брани с врагом, христолюбцы; изучим законы сей брани; она производится невидимо, и закон сей брани – всегдашнее совлечение с себя земных хлопот. <…> Если возненавидишь земное, пренебрегая временным, то в состоянии будешь, как доблестный воин, получить победную награду. Ибо земное влечет к себе долу, и страсти во время брани помрачают сердечные очи; и потому-то лукавый воюет с нами и побеждает нас, исполненных земного и порабощенных пристрастию к земным заботам».
Какая лексика! Нет, ясно, что уйти от мира, стать подвижником, дать обеты – дело серьезное, требующее твердости и решимости. Но преподобному Ефрему будто приятно тешить себя и собратьев иллюзией того, что они прямо-таки гоплиты, легионеры, витязи, рыцари и самураи в одном лице. И даже больше – ведь монахи борются не с себеподобными, а с дьяволом и его слугами, и не со зримым врагом, а с невидимым (что, очевидно, доблестно в квадрате)!
Вот зачем, зачем распалять в своих единоверцах спесь, зачем тешить их самолюбие подобными эпитетами? Получаются какие-то, как говорится, «диванные войска» (или, лучше сказать, «келейные»). Со стороны же выглядит это так, будто дети во дворе играют в супергероев. Или будто молодые политические активисты в полушутку распределяют будущие министерские портфели. Это мило – но даже дети понимают, что они не Бэтмены с Халками. Также и одоление страстей – дело полезное и похвальное, но все эти помпезные гиперболы Ефрема Сирина своим изобилием производят не трагический, а скорее комический эффект. В них нет той самой соразмерности, о которой писал Платон применительно к своему нравственному идеалу.
64. К Саллюстию
«…Но если бы [первая причина] была Душой, все было бы одушевлено, если бы Умом, все было бы умным, если бы она была сущностью, то все было бы причастным сущности: видя сущность во всякой вещи, многие полагали первую причину сущностью. Если бы было только сущее, блага же не было бы, это рассуждение было бы верным. Но если само сущее есть благодаря благости и причастности благу, то первым необходимо оказывается сверхсущее Благо. Величайший признак этого есть презрение благими душами бытия ради блага, когда они желают опасности ради отечества, друзей или добродетели».
Чтобы осознать теологическое (и риторическое) изящество реплики неоплатоника Саллюстия, следует вспомнить о платонических корнях неоплатонизма. Неоплатоники (философы и богословы III—VI веков) решили систематизировать платоновскую философию – но поскольку Платон в принципе не поддается систематизации, то их реконструкция получилась весьма «творческой». Из отдельных фрагментов, намеков и обмолвок, рассыпанных по диалогам основателя Академии, они составили единую строгую онтологическую структуру, возглавляемое божественной Троицей (влияние которой на христианскую не отрицают даже апологеты этой религии): Единым (взятым из диалога «Парменид») или Благом (из «Государства»), Умом и Душой. Насколько дух и буква неоплатонической теологии отличны от платоновских сочинений можно убедиться, открыв тексты Плотина, Прокла, Ямвлиха или Дамаския – там мы вместо живой мысли и тонкого литературного символизма обнаружим иссушенную, дегидрированную диалектику понятий.
Однако у неоплатоников с этой самой систематизацией с самого начала обнаружились две маленькие проблемки, касающиеся самой первой божественной сущности. Во-первых, как его назвать – Единым и Благом? Поскольку речь идет об идеях, то понятие должно быть тождественным себе: если высшая инстанция есть Единое, то в основании бытия лежит идея единства, а если Благо – то идея благости. Это разные идеи, из которых, разумеется, должны следовать разные теологии. Впрочем, неоплатоники обычно делали вид, что этой проблемы не существует – хотя она фундаментальная. Отбросить же ни Единое, ни Благо они не могли – потому что оба концепта использовал Платон (хотя и в разных диалогах и, главное, в разных смыслах). Подробности отношения неоплатоников в проблеме первоначала были мною подробно описаны в работе «Презревший Благо: теология первоначала у Плотина» [АИ 64] и в следующей маргиналии («65. К Проклу») – сейчас нужно сказать о другой проблеме, с которой напрямую связана фраза Саллюстия.
В «Государстве» Платон, как я считаю, для красного словца обронил фразу, впоследствии изменившую судьбы мировой философии:
«– Солнце дает всему, что мы видим, не только возможность быть видимым, но и рождение, рост а также питание, хотя само оно не есть становление.
– Как же иначе?
– Считай, что и познаваемые вещи не только могут познаваться лишь благодаря благу, но оно дает им и бытие, и существование, хотя само благо не есть существование, оно – за пределами существования, превышая его достоинством и силой».
Пока греки жили в пространстве единого космоса, населенного богами (не создававшими космос, а порожденными внутри него), фраза о благе как чем-то, что выходит за пределы существования (сущности, бытия), не несла в себе опасности дуализма. Но когда Античность уже клонилась к закату, и на первый план вышли любители потустороннего, бомба замедленного действия взорвалась: теперь сверхбытийность первоначала стала догмой нового языческого платонизма. Я хочу особо подчеркнуть: вопрос не в том, что неоплатоники восприняли платоновское первоначало апофатически – нет, они хотели его так воспринять, они сознательно стремились настолько возвысить бога, чтобы он стал и непознаваем, и небытиен. Они намеренно стремились умалить бытие – и потому эпитет Платона о благе, превышающим пределы существования, стал основой их доктрины.
Отсюда, собственно, главная логическая апория неоплатонизма: если первоначало есть не бытие (как утверждал, например, Парменид), но то, что дает бытие, то следует спросит – как то, чего нет (что бытием не обладает, что выше бытия) дает начало тому, что есть? «Из сущего сила достоверности никогда не позволит рождаться чему-либо, кроме него самого» (то есть небытие не может породить бытие) – писал тот же Парменид. А тут получается, что может…
Как же обосновать нечто столь нелогичное? Тут мы и обращаемся к начальной цитате Саллюстия: «Величайший признак [сверхсущности Блага – М.В.] есть презрение благими душами бытия ради блага, когда они желают опасности ради отечества, друзей или добродетели». Этот аргумент – не логический, а этический. И, откровенно говоря, очень красивый. Ведь обычно между богом и высшем бытием ставится знак равенства. Но. Если богу (первой сущности, первоначалу, как угодно) принадлежит полнота бытия (ибо бог вечен и совершенен), то получается, что бытие не только онтологически, но и этически ценнее небытия. Грубо говоря, лучше быть, чем не быть. Раз начало мира – это высшее бытие, то какой бы жизнь ни была, все же будучи причастным ей, ты более причастен богу, чем будучи мертвым. И самая величественная смерть (небытие) все равно стоит в иерархии сущего ниже, чем самая позорная жизнь (бытие) – даже если человек идет на смерть добровольно и за высшие идеалы. Тезис же Саллюстия – о том, что для благих душ отказ от бытия, выход за пределы существования не есть отказ от блага (поскольку само Благо также находится за пределами существования) – действительно очень хорош. Проще говоря, раз благо выше бытия, то и благая смерть выше жизни.
На этом примере мы можем наблюдать интересную вещь, касающуюся почти любой богословской системы – когда у философов религиозного толка не хватает логических аргументов, они используют этические. Самый известный случай такого «подключения» нравственных аргументов касается все той же идеи благости – в христианстве. Христианский бог всеблаг, а потому не может совершить зла. Но также он всемогущ – а потому вообще-то может, иначе бы не был всемогущим. Так может ли бог грешить? Нет, утверждают богословы – не может. То есть при выборе между двумя совершенствами выбирается этическое – не потому, что это логично, а потому, что этого требует нравственное чувство верующих. И даже тезис «бог технически может согрешить, но не будет этого делать потому, что не захочет» – опять же этический. В иных случаях отрицание всемогущества бога и четкое «прогнозирование» его желаний и поступков считается богохульством (ведь как богослов может решать за бога, что тот будет делать, а чего не будет?), но только не в этом.
65. К Проклу
«Все становящееся единым становится единым в силу причастности единому.
В самом деле, само по себе оно не едино, но в силу того, что претерпело причастность единому, оно едино. Действительно, если становится единым то, что не едино само по себе, то оно, несомненно, становится единым, когда [все содержащееся в нем] друг с другом сходится и сочетается, и находится под влиянием присутствия единого, не будучи единым [самим по себе]; значит, оно причастно единому в том смысле, что претерпевает становление единым. Если оно уже едино, то оно не становится единым, так как сущее уже есть, а не становится. Если же оно становится [единым] из того, что раньше не было единым, то оно будет содержать единое по возникновении в нем какого-нибудь [определенного] единства».
Начну комментарий к неоплатонику Проклу (412—485) чуть издалека. Существуют несколько больших условно «гуманитарных» областей, в которые я не желаю погружаться – совершенно намеренно. Не потому, что они мне не интересны – наоборот, они, может статься, ничуть не уступят по своей притягательности тем вопросам, которыми я занимаюсь многие годы. Но их содержание настолько разнообразно, что даже при беглом взгляде у неподготовленного зрителя элементарно разбегаются глаза.
Например, компьютерные игры. В подростковом возрасте я немного поигрывал, но быстро понял, что времени они забирают цельную вечность и при этом не приносят ничего, кроме состояния легкого помешательства. Тем более что во времена отрочества еще не было онлайн-игр, то есть возможностей заработка на гейминге не было почти никаких – так что они были просто досугом. Впоследствии я ни во что не играл (кроме, разве что, Фифы). Где-то с год назад я решил посмотреть на ютубе прохождение нескольких игрушек, чтобы вообще понимать, что происходит в индустрии. Что сказать… Трудно вообразить что-то более прекрасное, чем эти игрушки – их разработчики вызывают искреннее восхищение. Более того – драматургия одной из игр вызвала такой прилив сочувствия, какого давно не пробуждали литературные и киношные герои. Я ощутил, что приблизился к большому прекрасному миру. И именно поэтому сразу от него отвернулся – потому что: а) он слишком большой (то есть на его постижение нужно будет затратить много времени), б) слишком прекрасный (в котором легко потонуть) и, вдобавок, в) чужой (потому что в нем я могу быть только зрителем – на участие нет ни духовных, ни материальных ресурсов). Пришлось прикрыть лавочку.